Выше Радуги
Сергей Абрамов
Выше Радуги
Фантастическая повесть
1
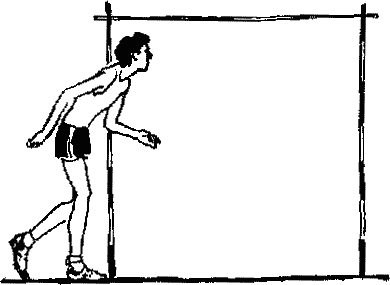
А началось всё с неудачи.
Бим, злой физкультурник, выставил Алика из спортивного зала и ещё пустил вдогонку:
– Считай, что я освободил тебя от уроков физкультуры навечно. Спорт тебе, Радуга, противопоказан, как яд растения кураре…
И весь класс захихикал, будто Бим сказал невесть что остроумное. Но если уж проводить дальше аналогию между спортом и ядом кураре, то вряд ли найдёшь отраву лучше. Прыгнул с шестом и – к Склифосовскому. Поиграл в футбол и – в крематорий. Отличная перспективка…
Мог бы Алик ответить так Биму, но не стал унижаться. Пошлёпал кедами в раздевалку, у двери обернулся, процедил сквозь зубы – не без обиды:
– Я ухожу. Но я ещё вернусь.
– Это вряд ли, – парировал Бим, и класс опять засмеялся – двадцать пять лбов в тренировочных костюмах. И даже девочки не посочувствовали Алику.
Он вошёл в пустую раздевалку, сел на низкую скамеечку, задумался. Зачем ему понадобилась прощальная реплика? Дурной провинциальный театр: «Я ещё вернусь». Куда, милый Алик, ты вернёшься? В спортзал, на посмешище публике во главе с Бимом? «А ну-ка, Радуга, прыгай, твоя очередь… Куда ты, Радуга? Надо через планку, а не под ней… Радуга, на перекладине работают, а висят на верёвке… Радуга, играть в это – тебе не стихи складывать…»
Интеллектуал: «стихи складывать»… Нет, к чёрту, назад пути нет. Уж лучше «стихи складывать», это вроде у Алика получается.
Но как же месть? Оставить Бима безнаказанным, торжествующим, победившим? Никогда!
«Убей его рифмой», – скажет Фокин, лучший друг.
Как вариант, годится. Но поймёт ли Бим, что его убили? Сомнительно… Нет, месть должна быть изощрённой и страшной, как… как яд растения кураре, если хотите. Она должна быть также предельно понятной, доходчивой, чтобы ни у кого и сомнений не осталось: Радуга со щитом, а подлый Бим, соответственно, на щите.
Алик снял тренировочный костюм, встал в одних трусах перед зеркалом: парень как парень, не урод, рост метр семьдесят восемь, размер пиджака – сорок восемь, брюк – сорок четыре, обуви – сорок один, головы – пятьдесят восемь, в голове кое-что содержится, и это – главное. А бицепсы, трицепсы и квадрицепсы – дело нехитрое, наживное.
А почему не нажил, коли дело нехитрое?
Папа с мамой не настаивали, сам не рвался. Просуществовал на свете пятнадцать годков и даже плавать не научился. Плохо.
Натянул брюки, свитер, подхватил портфель, пошёл прочь из школы. Урок физкультуры – последний, шестой, пора и домой. Во дворе дома номер двадцать два малышня играла в футбол. Суетились, толкались, подымали пыль, орали бессмысленное. Мяч скакал, как живой, в ужасе спасаясь от ударов «щёчкой», «шведкой» и «пыром». Подкатился под ноги Алику, тот его поддел легонько, тюкнул носком кеда. Мяч неожиданно описал в воздухе красивую артиллерийскую траекторию и приземлился в центре площадки. «Вот это да-а-а!..» – протянул кто-то из юных Пеле, и опять загалдела, покатилась, запылила мала куча.
«Как это так у меня вышло? – горделиво подумал Алик. – Значит, могу?» Нестерпимо захотелось выбежать на площадку, снова подхватить мяч, показать класс оторопевшим от восторга малышам. Сдержался: чудо могло и не повториться, не стоило искушать судьбу, тем более что сегодня и так «наискушал» её чрезмерно.
А что было?
Прыгали в высоту по очереди. Выстраивались в затылок друг другу – наискосок от планки, разбегались, перебрасывались через лёгкую (дунь только – слетит!) алюминиевую трубку, тяжело плюхались на жёсткие пыльные маты. Простейшее упражнение – отработка техники прыжка «перекидным» способом. Высота – мизерная.
Алик легко – так ему казалось – разбежался, оттолкнулся от пола и… ударился грудью о планку, сбил её, так что зазвенела она жалобно, хорошо – не сломалась.
– Ещё раз, – сказал Бим.
Алик вернулся к началу разбега, несколько раз глубоко вдохнул, покачался с носка на пятку, побежал, толкнулся и… упал на маты вместе с планкой.
– Фокин, покажи, – сказал Бим.
– Счас, Борис Иваныч, за милую душу, – ответствовал Фокин, лучший друг, подмигнул Алику: мол, учись, пока я жив.
Взлетел над планкой – всё по правилам: правая нога согнута, левая выпрямлена, перекатился, упал на спину – не шелохнулась планка над чемпионом школы Фокиным, лучшим другом. А чего бы ей шелохнуться, если высота эта для него – пустяк.
– Понял, Радуга? – спросил Бим.
Алик пожал плечами.
– Тогда валяй.
Повалял. Разбежался – как Фокин – оттолкнулся, взлетел и… лёг с планкой.
– Па-автарить! – В голосе Бима звучали фельдфебельские торжествующие нотки.
Па-автарил. Разбежался, оттолкнулся, взлетел, сбил.
– Последний раз.
Разбежался, оттолкнулся, взлетел, сбил.
Больше повторять не имело смысла. Бим это тоже понимал.
– Я лучше перешагну через планку: невысоко. – Алик нашёл в себе силы пошутить над собой, но Бим почему-то рассердился.
– Дома перешагивай, – с нелепой злостью сказал он. – Через тарелку с кашей… – впрочем, мгновенно остыл, спросил сочувственно: – Слушай, Радуга, а зачем ты вообще ходишь ко мне на занятия?
Резонный вопрос. Ответить надо столь же резонно.
– Кто мне позволит прогуливать уроки?
– Я позволю, – сказал Бим. – Прогуливай.
– А отметка?
– Отметка ему нужна! Нет, вы посмотрите: он об отметке беспокоится. Будет тебе отметка, Радуга, четвёрка за год. Заранее ставлю. Устраивает?
Отметка устраивала. Тут бы согласиться с радостью, не лезть на рожон, не подставлять голову под холодный душ. Ан нет, не утерпел.
– Вы, Борис Иваныч, обязаны воспитать из меня гармонически развитого человека. А у вас не получается, так вы и руки опустили.
– Опустил, Радуга. По швам держу. Не выйдет из тебя гармонически развитого, сильно запоздал ты в развитии. Делай по утрам зарядку, обтирайся холодной водой, бегай кроссы на Москве-реке. Самостоятельно. Факультативно. И не ходи в зал. Перед девочками не позорься, поэт…
И так далее, и тому подобное.
Поступок, конечно, непедагогичный, но достаточно понятный. Два года учится Алик Радуга в этой школе, два года Борис Иванович Мухин бьётся с ним по четыре часа в неделю, отведённые районо на физвоспитание старшеклассников. Но то ли времени недостаточно, то ли педагогического таланта у Бима недостаёт, а только результат, вернее, его отсутствие – налицо.
А с другой стороны, почему бы не порадоваться экстремальному решению Бима? Четвёрка по физо обеспечена, а в среду и в пятницу по два часика – в подарок. Чем плохо? И может, не стоило опрометчиво обещать: «Я ещё вернусь»? Зачем такие страсти?
Может, и не стоило. Но слово, как известно, не воробей. Завтра начнут подходить «доброжелатели»: «Когда вернёшься, Радуга? Ждём не дождёмся». Пожалуй, не дождутся…
Стоило порассуждать логически. Чемпиона из Алика не получится. И удачно пущенный футбольный мяч тому порукой: исключение из правила, говорят, подтверждает само правило. Он не поразит Бима успехами в лёгкой атлетике, гимнастике, волейболе, плавании, пятиборье и т. д. и т. п. Он может пустить по школе лихую частушку, что-нибудь типа: «Кто сказал, что кумпол Бима для идей непроходимый? Каждый день – сто идей. Но, увы, насквозь и мимо». Подхватят, повторят: народ благосклонен к своим пиитам. Но ещё более народ любит своих героев. А Бим – герой. Он – чемпион страны в стрельбе по «бегущему кабану». Экс-чемпион, разумеется, но презрительная, на взгляд Алика, приставка «экс» ничуть не умаляет достоинств Бима в глазах учеников.
Печально, если мускульная сила ценится выше поэтического дара. Но – факт. Итак, рифмы – в сторону.
Что будем делать, любезный Алик?
«Вот моя деревня, вот мой дом родной…» – вспоминал классику Алик. – «Вот подъезд, вот лифт, вот дверь квартиры. Где ключ?.. Ага, и ключ есть. Родители на работе, суп в холодильнике, уроки – ещё в учебниках, а фильм – уже в телевизоре. Что дают? Древний, как мир, „Старик Хоттабыч“. Не беда, сгодится под суп…»
Кстати, вот – выход. Найти на дне Москвы-реки замшелый кувшин, выпустить из него джинна и пожелать, не мелочась, спортивных успехов назло врагу. Однако загвоздка: нырнуть-то можно, а вынырнуть – не обучен. Значит, лежать кувшину на дне, а все наземные кувшины давным-давно откупорены строителями дорог, новых микрорайонов, линий метрополитена, заводов и стадионов.
Старик Хоттабыч на телеэкране включал и выключал настольную лампу, восторгаясь неизвестным ему чудом, а глупая мыслишка не отпускала Алика, точила помаленьку. Творческая натура, он развивал сюжет, чьё начало покоилось на дне реки, а конец пропадал в олимпийских высях. Придумывалось легко, и приятно было придумывать, низать в уме событие на событие, но творческому процессу помешал телефон.
Звонил Фокин, лучший друг.
– Чего делаешь? – спросил он дипломатично.
– Смотрю телевизор, – полуправдой ответил Алик.
– Ты не обиделся?
Вот зачем он позвонил, понятненько…
– На что?
– На Бима.
– Он прав.
– Отчасти – да.
– Да какое там «отчасти» – на все сто. В спорте я – бездарь. Бим ещё гуманен: освободил от физо и оценкой пожаловал. А мог бы и не.
– Слушай, может, я с тобой потренируюсь, а?
Ах, Фокин, добрая душа, хороший человек.
– Ты что, Сашка, с ума сошёл? На кой мне твоя благотворительность? Я на коне, если завуч не заставит Бима переменить решение.
– Завуч не дурак.
– Толковое наблюдение.
Завуч и вправду дураком не был, к тому же он вёл в старших классах литературу, и Алик ходил у него в фаворитах.
– Вечером погуляем? – Фокин счёл свою гуманистическую миссию законченной и перешёл к конкретным делам.
– Не исключено. Созвонимся часиков в семь.
Хоп. Положил трубку на рычаг, откинулся в кресле. Что-то странное с ним творилось, странное и страшноватое. Уже не до понравившегося сюжета было: в голове звенело, и тяжёлой она казалась, а руки-ноги будто и не шевелились. Попробовал Алик встать с кресла – не получилось, не смог. «Заболел, кажется», – подумал он. Закрыл глаза, расслабился, посидел так секундочку – вроде полегче стало. Смог подняться, добрести до кровати.
«Ах ты, чёрт, вот незадача… Маме позвонить надо бы… Ну, да ладно, не умру до вечера…»
Не раздеваясь, лёг, накрылся пледом и, уже проваливаясь в тяжёлое забытьё, успел счастливо подумать: а ведь в школу-то завтра идти не придётся, а до полного выздоровления сегодняшний позор забудется, что-нибудь новое появится в школьной жизни – поактуальнее…
Он не слышал, как пришла с работы мама, как она бегала к соседке этажом выше – врачу из районной поликлиники. Даже не почувствовал, как та выслушала его холодным фонендоскопом, померила температуру.
– Тридцать восемь и шесть, – сказала она матери. – Типичная простуда. Аспирин – три раза в день, этазол – четыре раза, и питьё, питьё, питьё… Одно странновато: температура не смертельная, а парень даже не аукнется. Спит, как Илья Муромец на печи.
– Может, устал? – предположила мама, далёкая от медицины.
– Может, и устал. Да пусть спит. Сон, дорогая, – панацея от всех болезней.
В семь вечера позвонил Фокин, лучший друг.
– Заболел Алик, – сказала ему мать.
– Да он же днём здоровым, как бык, выглядел.
– И быки хворают.
– Надо же! – деланно изумился Фокин откровению о быках. – Тогда я зайду, проведаю?
– Завтра, завтра. Сейчас он спит – царь-пушкой не разбудить. Вы что сегодня – камни ворочали?
– Это как посмотреть. По литературе – классное сочинение писали, по физо – «перекидной» способ прыжков в высоту. Что считать камнями…
– Как ты сочинение осилил?
– Трудно сказать… – Фокин не шибко любил составлять на бумаге слова во фразы, предпочитал точные науки. – Время покажет… До завтра?
– До завтра.
Мать подошла к Алику, потрогала лоб: вроде не очень горячий. Поправила одеяло, задёрнула оконную штору. Алик не просыпался. Он смотрел сны.
2
Первый сон был таков.
Будто бы Алик выходит из подъезда – эдак часиков в семь утра, когда во дворе никого: на работу или в школу – рановато, владельцы собак только-только готовятся вывести своих «братьев меньших» по большим и малым делам, а молодые дворники и дворничихи уже отмели своё, отполивали, разошлись по казённым квартирам – штудировать учебники для заочного обучения в институтах и техникумах.
И вот выходит Алик в пустынный двор, идёт вдоль газона, мимо зелёного могучего стола для игры в домино, мимо школьного забора, мимо стоянки частных автомобилей, выбирается на набережную Москвы-реки, топает по заросшим травой шпалам заброшенной железнодорожной ветки, которая когда-то вела к карандашной фабричке, держась за пыльные кусты, спускается по откосу к воде.
Жара.
Он сбрасывает джинсы, сандалеты, стаскивает футболочку с красным гоночной марки «феррари» на груди, остаётся в пёстрых сатиновых трусах, сшитых мамой. Осторожно, по-курортному, пробует ногой воду, вздрагивает от внезапно пронзившего тело холода, обхватывает себя длинными тощими руками, входит в реку, оскользаясь на зализанных волнами камнях.
Будто бы это – каждодневная, почти привычная «водная процедура». Так, по крайней мере, диктует фабула сна. А сон – абсолютно реален, и, соответственно, он – цветной, широкоформатный, стереоскопический, а эффект присутствия не вызывает и тени здорового научного сомнения.
Алик останавливается, когда вода доходит ему до пояса, до резиночки от трусов, которые цветным парусом вздулись на бёдрах, зачерпывает ладонями воду, смачивает себя под мышками. Потом по-поросячьи взвизгивает и ныряет – только пятки мелькают в воздухе, выныривает, отфыркивается, вытирает рукой лицо, плывёт подальше от берега – не по-собачьи, с шумом и брызгами, а ровным кролем, безупречным стилем.
Напомним: во сне бывает и не такое, незачем удивляться и путать сон с жестокой действительностью…
Поплавав так минут десять, Алик возвращается к берегу и несколько раз ныряет, пытаясь достать пальцами дно. Это ему, естественно, удаётся, а в последний раз он даже нащупывает что-то большое и тяжёлое, подхватывает это «что-то», выбирается на белый свет, на солнышко. «Что-то» оказывается пузатым узкогорлым кувшином с тонкой ручкой, древним сосудом, заросшим тиной, чёрной грязью, хрупкими речными ракушками. Алик скребёт грязь ногтем и видит позеленевшую от времени поверхность – то ли из меди-купрум, то ли из золота-аурум, покрытую прихотливой чеканной вязью. Если быть честным, то кувшин сильно смахивает на тот, что стоит у отца в кабинете, – из дагестанского аула Гицатль, где спокон веку живут прекрасные чеканщики и поэты.
Однако Алика сие сходство не смущает. Он твёрдой походкой рулит к берегу, и в груди его что-то сладко сжимается, а в животе холодно и пусто – как в предчувствии небывалого чуда. «Чувство чуда – седьмое чувство!» – сказал поэт.
И чудо не медлит. Оно бурлит в псевдогицатлинском кувшине, который, как живой, вздрагивает в чутких и ждущих руках Алика. Острым камнем он сбивает сургучную пробку и зачарованно смотрит на сизый дым, вырывающийся из горла, атомным грибом встающий над уроненным на песок кувшином. Дым этот клубится, меняет очертания и цвет, а внутри его возникают некие занятные турбулентности, которые постепенно приобретают строгие формы весьма пожилого гражданина в грязном тюрбане, в розовых – тоже грязных – шароварах, в короткой, похожей на джинсовую, жилеточке на голом теле и в золотых шлёпанцах без задников – явно из магазина «Армения» с улицы Горького.
Словом, всё, как положено в классике, – без навеянных современностью отклонений.
Гражданин некоторое время легкомысленно качается в воздухе над кувшином, машет руками, разгоняя дым, потом вдруг тяжело плюхается на землю, задрав ноги в шлёпанцах. Остолбеневший Алик всё же отмечает машинально, что пятки гражданина – под стать тюрбану с шароварами: да-алеко не первой свежести. Но – вежливый отрок! – он ждёт, пока гражданин отлежится на песке, сядет, скрестив по-турецки ноги, огладит длинную седую бороду, откашляется.

Тогда Алик без долгих вступлений спрашивает:
– Джинн?
– Так точно! – по-солдатски гаркает гражданин, на поверку оказавшийся джинном из многотомных сказок «Тысячи и одной ночи».
А могло быть иначе, как вы думаете?..
– Меня зовут Алик Радуга, – вежливо кланяется Алик, переступая на песке босыми ногами. Ноги мокрые, и песок кучками налип на них. – Извините меня за мой вид, но я, право, не ждал встречи…
– И зря, – лениво говорит джинн. – Мог бы и предусмотреть, ничего в том трудного нет.
Говорит он на хорошем русском языке, и это не должно вызывать удивления, во-первых, потому, что дело происходит во сне, а во-вторых, потому, что джинну безразлично, на каком наречии вести товарный диалог с благодетелем-освободителем.
– А вас как зовут? – спрашивает Алик, втайне и нелепо надеясь, что джинн назовёт с детства знакомое имя – Хоттабыч.
Не тут-то было.
– Зови меня дядя Ибрагим, – ответствует джинн, и Алик понимает, что напоролся на вполне оригинального, неизвестного мировой литературе джинна. И то правда: Хоттабыч – всего лишь один из многочисленного племени, исстари рассеянного по свету в кувшинах, бутылках, банках, графинах и прочих тюремных ёмкостях, и он уже давно обжился на грешной земле, поступил на службу, выработал себе пенсион и теперь нянчит внуков небезызвестного Вольки ибн Алёши.
Дядя Ибрагим – из того же племени, ясное дело.
– И давно вы в кувшине, дядя Ибрагим? – интересуется Алик, лихорадочно прикидывая: как мог кувшин попасть в Москву-реку? В самом деле: швырнули его в воду, вероятно, где-то в Аравии, либо в Красное море, либо чуть подале, в Чёрное. Или в Индийский океан. Или, на худой конец, в полноводную реку Нил, которая вынесла его в Средиземное море. А Москва-река берёт своё начало из среднерусских безымянных речушек, а те – из топей да болот… Впрочем, стоит предположить, что сосуды с джиннами по приказу великого и могучего Иблиса (или кого там ещё?) специально рассеивали по миру, чтобы впоследствии каждая страна имела хотя бы по нескольку экземпляров.
– Давно, отрок, – хлюпая простуженным носом, говорит джинн, сморкается в два пальца, вытирая их о шаровары. Алик внутренне передёрнулся, но виду не подал. – Так давно, что сам толком не помню. Ты сделал доброе дело, отыскав меня в этой аллахом проклятой речке. Полагается приз – по твоему выбору. Подумай как следует и сообщи. За мной не заржавеет. А я пока покочумаю чуток. – Тут он сворачивается калачиком на песке, сдвигает тюрбан на ухо и начинает храпеть.
Лексикон его мало чем отличается от того, каким щеголяют юные короли дворов. И Алику не чужд был такой лексикон, слыхивал он подобные выражения неоднократно, посему перевода ему не потребовалось. Раз джинн сказал: «не заржавеет», значит, выполнит он любое желание – как и положено джиннам! – не обманет, отвесит сполна.
«Что бы пожелать?» – думает Алик, хотя думать-то незачем – всё давно продумано, и сон этот творился как раз ради соответствующего желания, и джинн для того из кувшина вылупился – вполне доступный джинн, без всякой аравийско-сказочной терминологии, незнакомой, впрочем, Алику, так как сказок «Тысячи и одной ночи» он ещё всерьёз не читал. А исподтишка, втайне от родителей – так терминологию не запомнишь, так только бы сюжет уловить.
«Что бы пожелать?» – для приличия думает Алик, а на самом деле точно формулирует давно созревшее пожелание. И как только сформулировал, без застенчивости растолкал спящего джинна.
– Я готов!
– А? Чего? – спросонья не понимает джинн, протирает глаза, вертит головой. – Ну, говори-говори.
– Я хочу уметь прыгать в высоту как минимум по первому разряду, – сказал и замер от собственной наглости. Впрочем, добавляет для ясности: – По первому взрослому.
– Ого! – восклицает джинн. – Ну и аппетит… – садится поудобнее, начинает цену набивать: – Трудное дело. Не знаю, справлюсь ли: стар стал, растерял умение.
– Ну уж и растерял, – льстит ему Алик. – И потом, я у вас не три желания прошу исполнить – как положено, а всего одно махонькое-премахонькое. – Тут он даже голос до писка доводит и показывает пальцами, какое оно «премахонькое» – его желаньице заветное.
– Иблис с тобой, – грубо заявляет джинн, потирает руки, явно радуясь, что не три желания исполнять-мучиться, – покладистый клиент попался. – А за благородство тебе премию отвалю. Будешь, брат, прыгать не по первому разряду, а по «мастерам». Годится?
– Годится, – говорит Алик, немея от восторга и слушая, как сердце проваливается в желудок и возвращается на место: ещё бы – пульс у него сейчас порядка пятисот ударов в минуту, хотя так и не бывает. (Сон это сон, сколько раз повторять можно…)
– Ну, поехали.
Джинн выдирает из бороды три волоса, рвёт их на мелкие части, приговаривая про себя длинное арабское заклинание, непонятное и неведомое Алику, почему он его и не запомнил, прошло оно мимо сна. Бросает волосинки по ветру, дует, плюёт опять-таки трижды, хлопает в ладоши.
– Готово. Только… – тут он вроде бы смущается, не хочет договаривать.
– Что только? – Алик строг, как покупатель, которому всучили товар второго сорта.
– Да так, ерундистика…
– Короче, папаша!
– Условие одно тебе положу.
– Какое условие?
– Да ты не сомневайся, желание я исполнил – будь здоров, никто не придерётся. Только по инструкции такого типа желания исполняются с условием. И дар существует лишь до тех пор, пока его хозяин условие блюдёт.
– Да не тяните вы, в самом деле! – срывается на крик Алик.
– Не кричи. Ты не в степи, а я не глухой. Условие таково: будешь прыгать выше всех, пока не солжёшь – намеренно ли, нечаянно ли, по злобе или по глупости, из жалости или из вредности, и прочая и прочая.
– Как так не солжёшь?
– А вот так. Никогда и никому ни в чём не ври. Даже в мелочах. А соврёшь – дар мгновенно исчезнет, как не было. И плакали тогда твои прыжки «по мастерам».
«Плохо дело, – думает Алик. – Совсем не врать – это ж надо! А если никак нельзя не соврать – что тогда?»
– А если никак нельзя не соврать – что тогда? – спрашивает он с надеждой.
– Либо ври, либо рекорды ставь. Альтернатива ясна?
– Куда яснее, – горестно вздыхает Алик.
– А чего ты мучаешься? Я тебе ещё лёгкое условие поставил, бывают посложнее. Дерзай, юноша. Вперёд и выше. «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!» Так, что ли, в песне?
– Так.
– А раз так, я пошёл.
– Куда?
– Документы себе выправлю, на службу пристроюсь. Где тут у вас цирк помещается?
– Есть на Цветном бульваре, – машинально, ещё не придя в себя, отвечает Алик, – есть на проспекте Вернадского – совсем новый.
– Я на Цветной пойду, – решает джинн. – Старое – доброе, надёжное, по опыту сужу. Буду иллюзионистом…
И уходит.
И Алик уходит. Одевается, влезает по откосу, идёт во двор: пора завтракать и – в школу. И сон заканчивается, растекается, уплывает в какие-то чёрные глубины, вспыхивает вдалеке яркой точкой, как выключенная картинка на экране цветного «Рубина».
И ничего нет. Темнота и жар.
Будто бы Алик выходит из подъезда – эдак часиков в семь утра, когда во дворе никого: на работу или в школу – рановато, владельцы собак только-только готовятся вывести своих «братьев меньших» по большим и малым делам, а молодые дворники и дворничихи уже отмели своё, отполивали, разошлись по казённым квартирам – штудировать учебники для заочного обучения в институтах и техникумах.
И вот выходит Алик в пустынный двор, идёт вдоль газона, мимо зелёного могучего стола для игры в домино, мимо школьного забора, мимо стоянки частных автомобилей, выбирается на набережную Москвы-реки, топает по заросшим травой шпалам заброшенной железнодорожной ветки, которая когда-то вела к карандашной фабричке, держась за пыльные кусты, спускается по откосу к воде.
Жара.
Он сбрасывает джинсы, сандалеты, стаскивает футболочку с красным гоночной марки «феррари» на груди, остаётся в пёстрых сатиновых трусах, сшитых мамой. Осторожно, по-курортному, пробует ногой воду, вздрагивает от внезапно пронзившего тело холода, обхватывает себя длинными тощими руками, входит в реку, оскользаясь на зализанных волнами камнях.
Будто бы это – каждодневная, почти привычная «водная процедура». Так, по крайней мере, диктует фабула сна. А сон – абсолютно реален, и, соответственно, он – цветной, широкоформатный, стереоскопический, а эффект присутствия не вызывает и тени здорового научного сомнения.
Алик останавливается, когда вода доходит ему до пояса, до резиночки от трусов, которые цветным парусом вздулись на бёдрах, зачерпывает ладонями воду, смачивает себя под мышками. Потом по-поросячьи взвизгивает и ныряет – только пятки мелькают в воздухе, выныривает, отфыркивается, вытирает рукой лицо, плывёт подальше от берега – не по-собачьи, с шумом и брызгами, а ровным кролем, безупречным стилем.
Напомним: во сне бывает и не такое, незачем удивляться и путать сон с жестокой действительностью…
Поплавав так минут десять, Алик возвращается к берегу и несколько раз ныряет, пытаясь достать пальцами дно. Это ему, естественно, удаётся, а в последний раз он даже нащупывает что-то большое и тяжёлое, подхватывает это «что-то», выбирается на белый свет, на солнышко. «Что-то» оказывается пузатым узкогорлым кувшином с тонкой ручкой, древним сосудом, заросшим тиной, чёрной грязью, хрупкими речными ракушками. Алик скребёт грязь ногтем и видит позеленевшую от времени поверхность – то ли из меди-купрум, то ли из золота-аурум, покрытую прихотливой чеканной вязью. Если быть честным, то кувшин сильно смахивает на тот, что стоит у отца в кабинете, – из дагестанского аула Гицатль, где спокон веку живут прекрасные чеканщики и поэты.
Однако Алика сие сходство не смущает. Он твёрдой походкой рулит к берегу, и в груди его что-то сладко сжимается, а в животе холодно и пусто – как в предчувствии небывалого чуда. «Чувство чуда – седьмое чувство!» – сказал поэт.
И чудо не медлит. Оно бурлит в псевдогицатлинском кувшине, который, как живой, вздрагивает в чутких и ждущих руках Алика. Острым камнем он сбивает сургучную пробку и зачарованно смотрит на сизый дым, вырывающийся из горла, атомным грибом встающий над уроненным на песок кувшином. Дым этот клубится, меняет очертания и цвет, а внутри его возникают некие занятные турбулентности, которые постепенно приобретают строгие формы весьма пожилого гражданина в грязном тюрбане, в розовых – тоже грязных – шароварах, в короткой, похожей на джинсовую, жилеточке на голом теле и в золотых шлёпанцах без задников – явно из магазина «Армения» с улицы Горького.
Словом, всё, как положено в классике, – без навеянных современностью отклонений.
Гражданин некоторое время легкомысленно качается в воздухе над кувшином, машет руками, разгоняя дым, потом вдруг тяжело плюхается на землю, задрав ноги в шлёпанцах. Остолбеневший Алик всё же отмечает машинально, что пятки гражданина – под стать тюрбану с шароварами: да-алеко не первой свежести. Но – вежливый отрок! – он ждёт, пока гражданин отлежится на песке, сядет, скрестив по-турецки ноги, огладит длинную седую бороду, откашляется.

Тогда Алик без долгих вступлений спрашивает:
– Джинн?
– Так точно! – по-солдатски гаркает гражданин, на поверку оказавшийся джинном из многотомных сказок «Тысячи и одной ночи».
А могло быть иначе, как вы думаете?..
– Меня зовут Алик Радуга, – вежливо кланяется Алик, переступая на песке босыми ногами. Ноги мокрые, и песок кучками налип на них. – Извините меня за мой вид, но я, право, не ждал встречи…
– И зря, – лениво говорит джинн. – Мог бы и предусмотреть, ничего в том трудного нет.
Говорит он на хорошем русском языке, и это не должно вызывать удивления, во-первых, потому, что дело происходит во сне, а во-вторых, потому, что джинну безразлично, на каком наречии вести товарный диалог с благодетелем-освободителем.
– А вас как зовут? – спрашивает Алик, втайне и нелепо надеясь, что джинн назовёт с детства знакомое имя – Хоттабыч.
Не тут-то было.
– Зови меня дядя Ибрагим, – ответствует джинн, и Алик понимает, что напоролся на вполне оригинального, неизвестного мировой литературе джинна. И то правда: Хоттабыч – всего лишь один из многочисленного племени, исстари рассеянного по свету в кувшинах, бутылках, банках, графинах и прочих тюремных ёмкостях, и он уже давно обжился на грешной земле, поступил на службу, выработал себе пенсион и теперь нянчит внуков небезызвестного Вольки ибн Алёши.
Дядя Ибрагим – из того же племени, ясное дело.
– И давно вы в кувшине, дядя Ибрагим? – интересуется Алик, лихорадочно прикидывая: как мог кувшин попасть в Москву-реку? В самом деле: швырнули его в воду, вероятно, где-то в Аравии, либо в Красное море, либо чуть подале, в Чёрное. Или в Индийский океан. Или, на худой конец, в полноводную реку Нил, которая вынесла его в Средиземное море. А Москва-река берёт своё начало из среднерусских безымянных речушек, а те – из топей да болот… Впрочем, стоит предположить, что сосуды с джиннами по приказу великого и могучего Иблиса (или кого там ещё?) специально рассеивали по миру, чтобы впоследствии каждая страна имела хотя бы по нескольку экземпляров.
– Давно, отрок, – хлюпая простуженным носом, говорит джинн, сморкается в два пальца, вытирая их о шаровары. Алик внутренне передёрнулся, но виду не подал. – Так давно, что сам толком не помню. Ты сделал доброе дело, отыскав меня в этой аллахом проклятой речке. Полагается приз – по твоему выбору. Подумай как следует и сообщи. За мной не заржавеет. А я пока покочумаю чуток. – Тут он сворачивается калачиком на песке, сдвигает тюрбан на ухо и начинает храпеть.
Лексикон его мало чем отличается от того, каким щеголяют юные короли дворов. И Алику не чужд был такой лексикон, слыхивал он подобные выражения неоднократно, посему перевода ему не потребовалось. Раз джинн сказал: «не заржавеет», значит, выполнит он любое желание – как и положено джиннам! – не обманет, отвесит сполна.
«Что бы пожелать?» – думает Алик, хотя думать-то незачем – всё давно продумано, и сон этот творился как раз ради соответствующего желания, и джинн для того из кувшина вылупился – вполне доступный джинн, без всякой аравийско-сказочной терминологии, незнакомой, впрочем, Алику, так как сказок «Тысячи и одной ночи» он ещё всерьёз не читал. А исподтишка, втайне от родителей – так терминологию не запомнишь, так только бы сюжет уловить.
«Что бы пожелать?» – для приличия думает Алик, а на самом деле точно формулирует давно созревшее пожелание. И как только сформулировал, без застенчивости растолкал спящего джинна.
– Я готов!
– А? Чего? – спросонья не понимает джинн, протирает глаза, вертит головой. – Ну, говори-говори.
– Я хочу уметь прыгать в высоту как минимум по первому разряду, – сказал и замер от собственной наглости. Впрочем, добавляет для ясности: – По первому взрослому.
– Ого! – восклицает джинн. – Ну и аппетит… – садится поудобнее, начинает цену набивать: – Трудное дело. Не знаю, справлюсь ли: стар стал, растерял умение.
– Ну уж и растерял, – льстит ему Алик. – И потом, я у вас не три желания прошу исполнить – как положено, а всего одно махонькое-премахонькое. – Тут он даже голос до писка доводит и показывает пальцами, какое оно «премахонькое» – его желаньице заветное.
– Иблис с тобой, – грубо заявляет джинн, потирает руки, явно радуясь, что не три желания исполнять-мучиться, – покладистый клиент попался. – А за благородство тебе премию отвалю. Будешь, брат, прыгать не по первому разряду, а по «мастерам». Годится?
– Годится, – говорит Алик, немея от восторга и слушая, как сердце проваливается в желудок и возвращается на место: ещё бы – пульс у него сейчас порядка пятисот ударов в минуту, хотя так и не бывает. (Сон это сон, сколько раз повторять можно…)
– Ну, поехали.
Джинн выдирает из бороды три волоса, рвёт их на мелкие части, приговаривая про себя длинное арабское заклинание, непонятное и неведомое Алику, почему он его и не запомнил, прошло оно мимо сна. Бросает волосинки по ветру, дует, плюёт опять-таки трижды, хлопает в ладоши.
– Готово. Только… – тут он вроде бы смущается, не хочет договаривать.
– Что только? – Алик строг, как покупатель, которому всучили товар второго сорта.
– Да так, ерундистика…
– Короче, папаша!
– Условие одно тебе положу.
– Какое условие?
– Да ты не сомневайся, желание я исполнил – будь здоров, никто не придерётся. Только по инструкции такого типа желания исполняются с условием. И дар существует лишь до тех пор, пока его хозяин условие блюдёт.
– Да не тяните вы, в самом деле! – срывается на крик Алик.
– Не кричи. Ты не в степи, а я не глухой. Условие таково: будешь прыгать выше всех, пока не солжёшь – намеренно ли, нечаянно ли, по злобе или по глупости, из жалости или из вредности, и прочая и прочая.
– Как так не солжёшь?
– А вот так. Никогда и никому ни в чём не ври. Даже в мелочах. А соврёшь – дар мгновенно исчезнет, как не было. И плакали тогда твои прыжки «по мастерам».
«Плохо дело, – думает Алик. – Совсем не врать – это ж надо! А если никак нельзя не соврать – что тогда?»
– А если никак нельзя не соврать – что тогда? – спрашивает он с надеждой.
– Либо ври, либо рекорды ставь. Альтернатива ясна?
– Куда яснее, – горестно вздыхает Алик.
– А чего ты мучаешься? Я тебе ещё лёгкое условие поставил, бывают посложнее. Дерзай, юноша. Вперёд и выше. «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!» Так, что ли, в песне?
– Так.
– А раз так, я пошёл.
– Куда?
– Документы себе выправлю, на службу пристроюсь. Где тут у вас цирк помещается?
– Есть на Цветном бульваре, – машинально, ещё не придя в себя, отвечает Алик, – есть на проспекте Вернадского – совсем новый.
– Я на Цветной пойду, – решает джинн. – Старое – доброе, надёжное, по опыту сужу. Буду иллюзионистом…
И уходит.
И Алик уходит. Одевается, влезает по откосу, идёт во двор: пора завтракать и – в школу. И сон заканчивается, растекается, уплывает в какие-то чёрные глубины, вспыхивает вдалеке яркой точкой, как выключенная картинка на экране цветного «Рубина».
И ничего нет. Темнота и жар.
3
А потом начинается второй сон.
Будто бы идёт Алик в лес. А дело происходит в Подмосковье, на сорок шестом километре Щёлковского шоссе, в деревне Трубино, где родители Алика третий год подряд снимают дачу. Леса там, надо сказать, сказочные. Былинные леса. Как такие в Подмосковье сохранились – чудеса!
И вот идёт Алик в лес по грибы – любит он грибы искать, не возвращается домой без полного ведра – и знает, как отличить волнушку от маслёнка, а груздь от опёнка, что для хилого и загазованного горожанина достаточно почётно. Долго ли, коротко ли, а только забредает Алик невесть куда, в чащу тёмную, непролазную. Думает: пора и честь знать, оглобли поворачивать. Повернул. Идёт, идёт – вроде не туда. Неужто заблудился?
Прошёл ещё с полкилометра. Глядь – избушка. Похоже, лесник живёт. Продирается Алик сквозь кусты орешника, цепляется ковбойкой за шипы-колючки на диких розах, выбирается на тропинку, аккуратно посыпанную песком и огороженную по бокам крест-накрест короткими прутиками. Топает по ней, подходит к избушке – свят-свят, что же такое он зрит?
Стоит посередь участка малый домик, песчаная тропка в крыльцо упирается, окно раскрыто, на подоконнике – горшок с геранью, ситцевая занавеска на ветру полощется. Изба как изба – на первый взгляд. А на второй: вместо фундамента у неё – куриные ноги. Не натуральные, конечно, а, видно, из дерева резанные, стилизованные, да так умело, что не отличить от натуральных, только в сто раз увеличенных.
«Мастер делал, умелец», – решает про себя Алик и, не сомневаясь, подымается по лестнице, стучит в дверь.
А оттуда голос – старушечий, сварливый:
– Кого ещё чёрт принёс?
– Откройте, пожалуйста, – жалобно молит Алик.
Дверь распахивается. На пороге стоит довольно мерзкого вида старушенция – в ватнике не по-летнему, в чёрной суконной юбке, в коротких валенках с галошами, в шерстяном платке с рыночными розами. «Движенья быстры, лик ужасен» – как поэт сказал.
– Чего надо? – спрашивает.
– Извините, бабушка, – вежливо говорит Алик – умеет он быть предельно вежливым, галантным, знает, как действует такое обращение на старших. – Прискорбно беспокоить вас, сознаю, однако, заблудился я в вашем лесу. Не подскажете ли любезно, как мне выбраться на дорогу к деревне Трубино?
Будто бы идёт Алик в лес. А дело происходит в Подмосковье, на сорок шестом километре Щёлковского шоссе, в деревне Трубино, где родители Алика третий год подряд снимают дачу. Леса там, надо сказать, сказочные. Былинные леса. Как такие в Подмосковье сохранились – чудеса!
И вот идёт Алик в лес по грибы – любит он грибы искать, не возвращается домой без полного ведра – и знает, как отличить волнушку от маслёнка, а груздь от опёнка, что для хилого и загазованного горожанина достаточно почётно. Долго ли, коротко ли, а только забредает Алик невесть куда, в чащу тёмную, непролазную. Думает: пора и честь знать, оглобли поворачивать. Повернул. Идёт, идёт – вроде не туда. Неужто заблудился?
Прошёл ещё с полкилометра. Глядь – избушка. Похоже, лесник живёт. Продирается Алик сквозь кусты орешника, цепляется ковбойкой за шипы-колючки на диких розах, выбирается на тропинку, аккуратно посыпанную песком и огороженную по бокам крест-накрест короткими прутиками. Топает по ней, подходит к избушке – свят-свят, что же такое он зрит?
Стоит посередь участка малый домик, песчаная тропка в крыльцо упирается, окно раскрыто, на подоконнике – горшок с геранью, ситцевая занавеска на ветру полощется. Изба как изба – на первый взгляд. А на второй: вместо фундамента у неё – куриные ноги. Не натуральные, конечно, а, видно, из дерева резанные, стилизованные, да так умело, что не отличить от натуральных, только в сто раз увеличенных.
«Мастер делал, умелец», – решает про себя Алик и, не сомневаясь, подымается по лестнице, стучит в дверь.
А оттуда голос – старушечий, сварливый:
– Кого ещё чёрт принёс?
– Откройте, пожалуйста, – жалобно молит Алик.
Дверь распахивается. На пороге стоит довольно мерзкого вида старушенция – в ватнике не по-летнему, в чёрной суконной юбке, в коротких валенках с галошами, в шерстяном платке с рыночными розами. «Движенья быстры, лик ужасен» – как поэт сказал.
– Чего надо? – спрашивает.
– Извините, бабушка, – вежливо говорит Алик – умеет он быть предельно вежливым, галантным, знает, как действует такое обращение на старших. – Прискорбно беспокоить вас, сознаю, однако, заблудился я в вашем лесу. Не подскажете ли любезно, как мне выбраться на дорогу к деревне Трубино?
