Страница:
На другой день пришел тот – негодяй. Пришел заявить права на свою собственность. Он показал мне купчую крепость на меня и на детей. Я крикнула: «Будьте вы прокляты! Да мне лучше умереть, чем идти к вам!»
А он сказал: «Это как твоей душе угодно, но если ты не образумишься, детей своих тебе больше не видать, я их продам». И потом негодяй признался мне, что он решил завладеть мной с первого дня нашего знакомства и нарочно втянул Генри в карточную игру, чтобы тот запутался в долгах и продал меня. «А твои капризы и слезы мне не страшны, я своего добьюсь», – добавил он.
И я покорилась судьбе, потому что у меня были связаны руки. Мои дети оказались во власти этого Батлера, он, чуть что, грозил продать их, я уступала ему во всем. Что это была за жизнь! Сердце мое разрывалось от боли и все-таки продолжало любить, любить, несмотря ни на что, а мне приходилось мириться с присутствием ненавистного человека. В былое время с какой радостью я читала Генри вслух, играла, пела ему, танцевала с ним. А теперь все это стало тяжким бременем. Но отказать Батлеру я не смела ни в чем. Он обращался с детьми грубо, свысока. Эльси была робкая, застенчивая девочка, а Генри – весь в отца, горячий, непокорный. Этот человек придирался к моему мальчику, не прощал ему ни малейшей провинности, и я жила в вечном страхе за него. Ведь дети были мне дороже самой жизни. Я старалась внушить Генри уважение к Батлеру, старалась, чтобы они реже попадались друг другу на глаза. Но это ничему не помогло. Батлер продал их. Как-то днем этот негодяй повез меня кататься, а когда я вернулась домой, детей моих уже не было. Он сказал, что продал их обоих, он похвалялся деньгами, которые получил за них, – похвалялся ценой их крови! И тут разум оставил меня. Я пришла в бешенство, я осыпала проклятиями и бога и людей и, кажется, напугала Батлера. Но он продолжал стоять на своем. Он повторил, что дети мои проданы, а увижу ли я их когда-нибудь – это зависит от меня: если я не перестану безумствовать, им же будет хуже.
Ну что ж, ради детей женщина пойдет на все. Батлер заставил меня покориться своей воле. Я лелеяла надежду, что, может быть, он действительно выкупит Эльси и Генри. Миновала неделя, другая. Как-то днем я проходила мимо тюрьмы. Вижу, у ворот ее собралась толпа. И вдруг до меня донесся детский крик. Это был голос моего Генри. Он вырвался из рук мужчин, которые держали его, и вцепился мне в платье. За ним кинулись с бранью, и один человек – я в жизни не забуду его лица! – крикнул: «Нет, шалишь, от нас не уйдешь! В тюрьме так тебя проучат, что ты век будешь помнить!» Я просила, я умоляла их не трогать моего мальчика, но они только смеялись на все мои мольбы. Генри плакал, заглядывал мне в лицо, цеплялся за меня, и когда его все-таки оторвали, у него в руках остался клок от моей юбки. Он кричал: «Мама! Мама!», пока дверь тюрьмы не захлопнулась за ним.
Только один человек из всей толпы смотрел на меня с сочувствием. Я кинулась к нему, умоляла его вступиться за моего сына, предлагала все деньги, которые были при мне. Но он покачал головой и сказал, что хозяин Генри жаловался на его строптивость и говорил, что такого дрянного мальчишку может исправить только тюрьма. Я повернулась и побежала, и мне всю дорогу слышались сзади крики моего сына. Подбегаю к дому и не переводя дыхания, – прямо в гостиную, где сидел Батлер. Взмолилась: «Спасите Генри!» А он рассмеялся и сказал, что мальчишка получил по заслугам: «Его надо обломать как следует, и чем скорее это будет сделано, тем лучше. Не понимаю, чего ты хочешь!»
И тогда в голове у меня помутилось от ярости, перед глазами пошли круги. Помню только, я увидела большой охотничий нож на столе, схватила его и бросилась с ним на Батлера. А потом все вдруг заволокло туманом, и дальше я уже ничего не сознавала.
Так прошло немало дней. Но наконец я очнулась и увидела, что лежу в какой-то чужой хорошей комнате. За мной ухаживала старушка негритянка, меня навещал доктор. Пожаловаться я ни на что не могла. А потом выяснилось, что Батлер уехал из Нового Орлеана и велел меня продать. Вот почему обо мне так заботились в этом доме.
Я не хотела выздоравливать и призывала к себе смерть. Но болезнь моя прошла, силы вернулись, пришлось встать. И тогда мне было велено наряжаться каждое утро и выходить к разным господам, которые разглядывали меня, покуривая сигары, заставляли отвечать на их вопросы и приценялись ко мне. Но кому была нужна угрюмая, молчаливая женщина? Наконец мне сказали: «Если не будешь веселее и любезнее, высечем». И вот в один прекрасный день в этот дом пришел джентльмен, по фамилии Стюарт. Он, видно, сжалился надо мной, почувствовав, что у меня какое-то страшное горе, и стал часто ходить к нам. Мы виделись с ним наедине, и, уступив наконец его просьбам, я рассказала ему все. Вскоре Стюарт купил меня и пообещал вернуть мне моих детей. Он пошел в гостиницу, где работал Генри, но там ему сказали, что мальчика продали какому-то плантатору с Жемчужной реки. Больше я ничего не слышала о своем сыне. Потом Стюарт узнал и о судьбе Эльси. Она жила у одной пожилой женщины. Стюарт предложил за нее громадные деньги, но ему ответили отказом. Батлер проведал, кто хочет ее купить, и написал мне, что я никогда не увижу свою дочь. У капитана Стюарта я жила очень хорошо. Он увез меня на свою плантацию. Через год у нас родился сын. Как он был дорог мне! Как он был похож на моего несчастного Генри! Но я решила твердо: ему незачем жить – и, обливаясь слезами, покрывая поцелуями его личико, дала ему, двухнедельному крошке, опия, и он уснул навсегда у меня на руках. Как я горевала, как оплакивала своего сына! Все, разумеется, решили, что тут произошла ошибка. И это один из немногих моих поступков, которым я не перестаю гордиться. Хоть одного ребенка мне удалось уберечь от страданий. Смерть – лучший удел для него… А потом Стюарт заболел холерой и умер. Все, кому хотелось жить, все умирали, а я сама звала к себе смерть и не могла дозваться ее. Меня опять продали, и я стала переходить от одного хозяина к другому. Молодость моя прошла, появились морщины, а тут еще лихорадка… И в конце концов я попала вот сюда, к этому негодяю.
Касси умолкла. Она рассказала историю своей жизни быстро, горячо, то обращаясь к Тому, то забывая о нем и говоря сама с собой. И в словах этой женщины было столько страсти и покоряющей силы, что Том уже не чувствовал собственных страданий и, приподнявшись на локте, следил, как она беспокойно шагает из угла в угол и как длинные темные волосы тяжелой волной переливаются у нее за плечами.
Вдруг она остановилась и снова заговорила:
– Ты мне сказал, что на небе есть бог, который смотрит на землю и видит все, что здесь творится. Так почему же он допускает такое? Нет, я не буду дожидаться его помощи, я сама отомщу за себя и за своих детей, и скоро отомщу! – Она сжала кулаки, и ее черные глаза вспыхнули, как у безумной. – Я его отправлю куда следует, а там пусть меня хоть сожгут заживо!
Прошла минута-вторая. Несчастная женщина успокоилась и, подойдя к Тому, спросила:
– Чем я могу тебе помочь, бедняга? Хочешь еще воды?
Жалость, звучавшая в ее голосе, мягкость ее движений так не вязались с недавней одержимостью!
Том выпил воды, хотел сказать что-то, но Касси остановила его:
– Молчи, не надо говорить. Попробуй лучше заснуть.
Она поставила кувшин поближе к нему, оправила его жалкую постель и вышла из чулана.
А он сказал: «Это как твоей душе угодно, но если ты не образумишься, детей своих тебе больше не видать, я их продам». И потом негодяй признался мне, что он решил завладеть мной с первого дня нашего знакомства и нарочно втянул Генри в карточную игру, чтобы тот запутался в долгах и продал меня. «А твои капризы и слезы мне не страшны, я своего добьюсь», – добавил он.
И я покорилась судьбе, потому что у меня были связаны руки. Мои дети оказались во власти этого Батлера, он, чуть что, грозил продать их, я уступала ему во всем. Что это была за жизнь! Сердце мое разрывалось от боли и все-таки продолжало любить, любить, несмотря ни на что, а мне приходилось мириться с присутствием ненавистного человека. В былое время с какой радостью я читала Генри вслух, играла, пела ему, танцевала с ним. А теперь все это стало тяжким бременем. Но отказать Батлеру я не смела ни в чем. Он обращался с детьми грубо, свысока. Эльси была робкая, застенчивая девочка, а Генри – весь в отца, горячий, непокорный. Этот человек придирался к моему мальчику, не прощал ему ни малейшей провинности, и я жила в вечном страхе за него. Ведь дети были мне дороже самой жизни. Я старалась внушить Генри уважение к Батлеру, старалась, чтобы они реже попадались друг другу на глаза. Но это ничему не помогло. Батлер продал их. Как-то днем этот негодяй повез меня кататься, а когда я вернулась домой, детей моих уже не было. Он сказал, что продал их обоих, он похвалялся деньгами, которые получил за них, – похвалялся ценой их крови! И тут разум оставил меня. Я пришла в бешенство, я осыпала проклятиями и бога и людей и, кажется, напугала Батлера. Но он продолжал стоять на своем. Он повторил, что дети мои проданы, а увижу ли я их когда-нибудь – это зависит от меня: если я не перестану безумствовать, им же будет хуже.
Ну что ж, ради детей женщина пойдет на все. Батлер заставил меня покориться своей воле. Я лелеяла надежду, что, может быть, он действительно выкупит Эльси и Генри. Миновала неделя, другая. Как-то днем я проходила мимо тюрьмы. Вижу, у ворот ее собралась толпа. И вдруг до меня донесся детский крик. Это был голос моего Генри. Он вырвался из рук мужчин, которые держали его, и вцепился мне в платье. За ним кинулись с бранью, и один человек – я в жизни не забуду его лица! – крикнул: «Нет, шалишь, от нас не уйдешь! В тюрьме так тебя проучат, что ты век будешь помнить!» Я просила, я умоляла их не трогать моего мальчика, но они только смеялись на все мои мольбы. Генри плакал, заглядывал мне в лицо, цеплялся за меня, и когда его все-таки оторвали, у него в руках остался клок от моей юбки. Он кричал: «Мама! Мама!», пока дверь тюрьмы не захлопнулась за ним.
Только один человек из всей толпы смотрел на меня с сочувствием. Я кинулась к нему, умоляла его вступиться за моего сына, предлагала все деньги, которые были при мне. Но он покачал головой и сказал, что хозяин Генри жаловался на его строптивость и говорил, что такого дрянного мальчишку может исправить только тюрьма. Я повернулась и побежала, и мне всю дорогу слышались сзади крики моего сына. Подбегаю к дому и не переводя дыхания, – прямо в гостиную, где сидел Батлер. Взмолилась: «Спасите Генри!» А он рассмеялся и сказал, что мальчишка получил по заслугам: «Его надо обломать как следует, и чем скорее это будет сделано, тем лучше. Не понимаю, чего ты хочешь!»
И тогда в голове у меня помутилось от ярости, перед глазами пошли круги. Помню только, я увидела большой охотничий нож на столе, схватила его и бросилась с ним на Батлера. А потом все вдруг заволокло туманом, и дальше я уже ничего не сознавала.
Так прошло немало дней. Но наконец я очнулась и увидела, что лежу в какой-то чужой хорошей комнате. За мной ухаживала старушка негритянка, меня навещал доктор. Пожаловаться я ни на что не могла. А потом выяснилось, что Батлер уехал из Нового Орлеана и велел меня продать. Вот почему обо мне так заботились в этом доме.
Я не хотела выздоравливать и призывала к себе смерть. Но болезнь моя прошла, силы вернулись, пришлось встать. И тогда мне было велено наряжаться каждое утро и выходить к разным господам, которые разглядывали меня, покуривая сигары, заставляли отвечать на их вопросы и приценялись ко мне. Но кому была нужна угрюмая, молчаливая женщина? Наконец мне сказали: «Если не будешь веселее и любезнее, высечем». И вот в один прекрасный день в этот дом пришел джентльмен, по фамилии Стюарт. Он, видно, сжалился надо мной, почувствовав, что у меня какое-то страшное горе, и стал часто ходить к нам. Мы виделись с ним наедине, и, уступив наконец его просьбам, я рассказала ему все. Вскоре Стюарт купил меня и пообещал вернуть мне моих детей. Он пошел в гостиницу, где работал Генри, но там ему сказали, что мальчика продали какому-то плантатору с Жемчужной реки. Больше я ничего не слышала о своем сыне. Потом Стюарт узнал и о судьбе Эльси. Она жила у одной пожилой женщины. Стюарт предложил за нее громадные деньги, но ему ответили отказом. Батлер проведал, кто хочет ее купить, и написал мне, что я никогда не увижу свою дочь. У капитана Стюарта я жила очень хорошо. Он увез меня на свою плантацию. Через год у нас родился сын. Как он был дорог мне! Как он был похож на моего несчастного Генри! Но я решила твердо: ему незачем жить – и, обливаясь слезами, покрывая поцелуями его личико, дала ему, двухнедельному крошке, опия, и он уснул навсегда у меня на руках. Как я горевала, как оплакивала своего сына! Все, разумеется, решили, что тут произошла ошибка. И это один из немногих моих поступков, которым я не перестаю гордиться. Хоть одного ребенка мне удалось уберечь от страданий. Смерть – лучший удел для него… А потом Стюарт заболел холерой и умер. Все, кому хотелось жить, все умирали, а я сама звала к себе смерть и не могла дозваться ее. Меня опять продали, и я стала переходить от одного хозяина к другому. Молодость моя прошла, появились морщины, а тут еще лихорадка… И в конце концов я попала вот сюда, к этому негодяю.
Касси умолкла. Она рассказала историю своей жизни быстро, горячо, то обращаясь к Тому, то забывая о нем и говоря сама с собой. И в словах этой женщины было столько страсти и покоряющей силы, что Том уже не чувствовал собственных страданий и, приподнявшись на локте, следил, как она беспокойно шагает из угла в угол и как длинные темные волосы тяжелой волной переливаются у нее за плечами.
Вдруг она остановилась и снова заговорила:
– Ты мне сказал, что на небе есть бог, который смотрит на землю и видит все, что здесь творится. Так почему же он допускает такое? Нет, я не буду дожидаться его помощи, я сама отомщу за себя и за своих детей, и скоро отомщу! – Она сжала кулаки, и ее черные глаза вспыхнули, как у безумной. – Я его отправлю куда следует, а там пусть меня хоть сожгут заживо!
Прошла минута-вторая. Несчастная женщина успокоилась и, подойдя к Тому, спросила:
– Чем я могу тебе помочь, бедняга? Хочешь еще воды?
Жалость, звучавшая в ее голосе, мягкость ее движений так не вязались с недавней одержимостью!
Том выпил воды, хотел сказать что-то, но Касси остановила его:
– Молчи, не надо говорить. Попробуй лучше заснуть.
Она поставила кувшин поближе к нему, оправила его жалкую постель и вышла из чулана.
ГЛАВА XXXV
Талисман
Гостиной в доме Легри служила длинная, просторная комната с большим камином. Когда-то она была оклеена дорогими пестрыми обоями, но теперь от них остались только бесцветные клочья, свисавшие с покрытых плесенью стен. В воздухе стоял тот нездоровый запах сырости, пыли и запустения, которым обычно бывают пропитаны заброшенные старые дома. На обоях виднелись пивные и винные пятна, какие-то записи мелом и длинные столбики цифр, словно кто-то занимался тут арифметикой. В камине была поставлена жаровня с тлеющими углями, так как в этой огромной комнате даже в теплую погоду по вечерам чувствовались сырость и холод. Кроме того, Легри всегда надо было иметь под рукой угли, чтобы закуривать сигару и греть воду для пунша. Жаровня бросала багровые блики по стенам, обнаруживая всю неприглядность этой гостиной, заваленной седлами, уздечками, сбруей, кнутами и разной одеждой, на которой с удобством располагались уже известные нам собаки.
Легри готовил себе пунш и, наливая в стакан горячую воду из треснувшего, с отбитым носиком кувшина, ворчал:
– Пропади он пропадом, этот Сэмбо! Натравил меня на новых невольников в такое горячее время! Теперь Том с неделю будет в лежку лежать.
– Пеняй на себя! – послышался голос позади его кресла.
Это сказала Касси, незаметно прокравшаяся в комнату.
– А, чертовка, вернулась?
– Да, вернулась, – холодно ответила она. – И опять примусь за свое.
– Врешь! Как я сказал, так и будет. Возьмись за ум, а не возьмешься, проваливай в поселок и работай вместе со всеми и харч получай там же.
– Да мне в тысячу раз лучше валяться в грязной лачуге, чем жить под твоим копытом! – воскликнула Касси.
– От моего копыта никуда не денешься, – сказал Легри и схватил ее за руку.
– Берегись, Саймон Легри! – крикнула Касси, бешено сверкнув глазами. – А все-таки ты меня боишься, – насмешливо добавила она, – и неспроста боишься: ведь во мне сидит сатана. Так будь же осторожней!
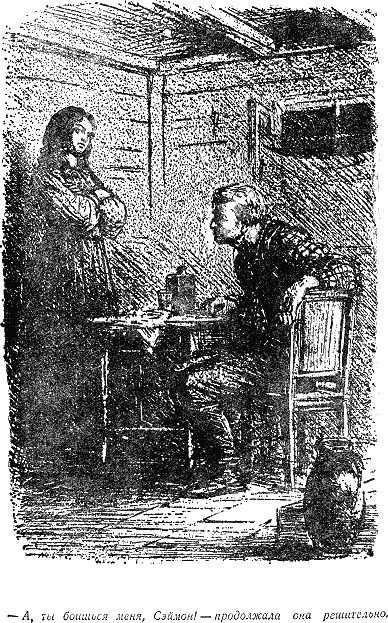
Последние слова Касси проговорила свистящим шепотом в самое ухо Легри.
– Перестань! Ты и вправду с сатаной спуталась! – крикнул он, отталкивая ее от себя. Взгляд у него был испуганный. – Слушай, Касси! Давай будем друзьями, как прежде!
– Друзьями?! – повторила она и не могла больше выговорить ни слова от нахлынувшей на нее ярости.
Легри всегда ощущал над собой власть Касси – власть сильного, безудержного в своих чувствах существа, которое способно покорять даже самые грубые натуры. Но за последнее время, изнемогая под страшным гнетом рабства, Касси стала беспокойной и вспыльчивой, как никогда. Вспыльчивость ее иной раз граничила с безумием, что приводило в трепет Легри, который, подобно всем невежественным людям, питал суеверный страх перед сумасшедшими. Когда в доме появилась Эммелина, чувство, глубоко таившееся в окаменевшем сердце Касси, вспыхнуло ярким пламенем, она вступилась за девушку и с яростью набросилась на Легри. Тот, выведенный из себя, пригрозил послать Касси на полевые работы, если она не образумится. Касси гордо ответила, что это ее не страшит. И, как мы уже видели, проработала в поле до позднего вечера, выказав этим свое пренебрежение к угрозам хозяина.
Весь тот день Легри было не по себе, ибо Касси все время занимала его мысли. Когда она поставила свою корзину на весы, у него мелькнула надежда на примирение, и он заговорил с ней, стараясь полунасмешливо задобрить строптивую женщину, но из этой попытки ничего не вышло.
Зверская расправа с несчастным Томом окончательно взбесила Касси, и она вернулась домой только для того, чтобы отчитать Легри за его бесчеловечность.
– Перестань буйствовать, Касси, – сказал он, – будь благоразумной.
– И ты смеешь говорить о благоразумии! А сам что натворил? Кто искалечил лучшего работника на всей плантации? И нашел время, когда это делать, – в самую горячую пору! Вот до чего тебя твоя злоба доводит!
– Что верно, то верно. Не следовало мне, дураку, с ним связываться, – сказал Легри. – Однако если раб заартачится, ему нельзя потворствовать, надо его образумить.
– Ну, Тома тебе не удастся образумить.
– Не удастся? – крикнул Легри, вскакивая с кресла. – А вот посмотрим! Нет таких негров на свете, которые устоят передо мной. Я ему все кости переломаю, а своего добьюсь.
В эту минуту дверь приоткрылась, и за ней показался Сэмбо. Он с поклоном протянул Легри какой-то маленький сверток.
– Что это у тебя? – спросил тот.
– Талисман, хозяин.
– Что за талисман?
– Это такая штука, которую негры достают у колдуний. Она отводит боль. С ней им любая порка не страшна. А Том носил ее на шее на черном шнурке.
Подобно многим невежественным и жестоким людям, Легри был суеверен. Он взял бумажный сверток у Сэмбо из рук и с опаской развернул его.
Оттуда выпал серебряный доллар и длинная золотистая прядь волос, которая, словно живая, обвилась вокруг пальца Легри.
– Проклятие! – крикнул он, в бешенстве топая ногами и швыряя локон в камин. – Где ты взял его? Сжечь, сжечь немедленно!
Сэмбо смотрел на хозяина с разинутым ртом, а Касси остановилась на пороге, не понимая причины такой ярости.
– Не смей больше приносить мне всякую чертовщину! – Легри замахнулся кулаком на Сэмбо, потом схватил серебряный доллар и вышвырнул его в окно.
Сэмбо был рад унести ноги. Когда дверь за ним захлопнулась, Легри, видимо, устыдившись своей вспышки, сел в кресло и стал молча потягивать пунш, а Касси тем временем незаметно выскользнула из комнаты и пошла навестить несчастного Тома, о чем мы уже рассказывали.
Что же произошло с Легри? Почему столь невинная вещь, как прядь светлых волос, привела в такой ужас человека, которого, казалось бы, ничем нельзя было смутить? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны познакомить читателя с его прошлым.
Было время, когда погрязший в пороках Саймон знавал материнскую ласку и засыпал, младенцем, в объятиях матери. Эта кроткая женщина с терпением и любовью растила своего единственного сына, но он, не внимая ее советам, ее уговорам, пошел по стопам деспотичного, жестокосердого отца, рано покинул материнский кров и отправился искать счастья в море.
С тех пор Саймон побывал дома только раз. И мать, не перестававшая любить свое беспутное детище, сделала все, чтобы отвратить его от греховной жизни и наставить добру.
Легри колебался, готовый склониться на ее мольбы, но порочность взяла в нем верх. Он стал пьянствовать и однажды ночью, когда несчастная женщина в порыве отчаяния упала перед ним на колени, ударил ее ногой, с проклятиями выбежал из дому и вернулся на свой корабль.
Прошло немало времени, прежде чем Саймон снова вспомнил свою мать. Как-то раз в самый разгар кутежа ему подали письмо. Он распечатал конверт; оттуда выпал длинный локон – выпал и обвился вокруг его пальцев. А в письме было сказано, что мать Саймона Легри умерла и что, умирая, она простила сына и послала ему свое благословение.
Легри сжег и письмо и локон, но глядя, как огонь пожирает их, он внутренне содрогался, думая об адском пламени. С тех пор чем он только ни пытался заглушить в себе воспоминания об этом – попойками, разгулом, богохульством, – ему ничто не помогало. И по ночам, когда среди глубокой тишины Саймон оставался наедине со своей неспокойной совестью, перед ним вдруг вставал бледный призрак матери, он чувствовал, как ее локон мягко обвивается вокруг его пальцев, и, весь в холодном поту, вскакивал с постели.
– Проклятый негр! – бормотал Легри между глотками пунша. – Где он достал эту штуку? Ни дать ни взять тот самый… Уф! Я думал, все забыто, да где тут забыть! Ох, тоска какая! Эмми, что ли, позвать? Она ненавидит меня, да я на это не посмотрю, заставлю ее спуститься вниз!
Он вышел в большой вестибюль, в дальнем конце которого виднелась лестница во второй этаж. И лестница и вестибюль, когда-то пышно убранные, были теперь завалены всяким хламом, заставлены ящиками. Голые ступеньки уходили во тьму. В разбитое полукруглое окно над дверью лился слабый лунный свет. Воздух здесь был затхлый, в нем чувствовалась пронизывающая сырость словно в склепе.
Легри остановился у лестницы и прислушался. Наверху кто-то пел. Как странно и жутко было слышать пение в этом запущенном старом доме! А может, у него просто нервы разгулялись? Тсс!..
Сильный и нежный голос пел песню, излюбленную рабами:
Но ответом ему послужило эхо, насмешливо повторившее его зов. А звонкий девичий голос продолжал:
– Теперь мне ясно одно, – прошептал он, нетвердыми шагами возвращаясь в гостиную, – этого негра надо оставить в покое. Тут без колдовства не обошлось. Иначе с чего бы меня так знобило и прошибало потом! Откуда он взял этот локон? Неужто тот самый? Да нет, не может быть! Ведь тот я сжег, сжег собственными руками. Не из пепла же он возродился!.. Довольно вам спать! – Легри засвистал и топнул ногой на собак.
Но те сонно повели на него глазами и не двинулись с места.
– Сэмбо и Квимбо, что ли, позвать? – продолжал Легри говорить сам с собой. – Пусть спляшут, повеселят меня, разгонят эти черные мысли.
Он надел шляпу, вышел на веранду и затрубил в рог, призывая к себе своих верных приспешников.
Когда Легри бывал в хорошем расположении духа, он часто призывал к себе Квимбо и Сэмбо и, предварительно напоив этих головорезов, развлекался их пением, плясками или дракой – в зависимости от настроения.
Возвращаясь от Тома около двух часов ночи, Касси услышала несущиеся из дома дикие крики, посвист и улюлюканье вперемешку с оглушительным лаем собак.
Она поднялась на веранду и заглянула в окно гостиной. Легри и оба надсмотрщика, вдребезги пьяные, горланили песни, орали, метались по комнате, опрокидывая стулья, и строили друг другу нелепые и страшные рожи.
Касси отвела рукой створку ставни и долго смотрела на то, что творилось в гостиной. Ее темные глаза горели страхом, презрением и яростной злобой.
– Неужели грешно избавить мир от такого мерзавца? – прошептала она.
Потом круто повернулась, вошла в дом с черного хода и, поднявшись по лестнице, постучалась к Эммелине.
Легри готовил себе пунш и, наливая в стакан горячую воду из треснувшего, с отбитым носиком кувшина, ворчал:
– Пропади он пропадом, этот Сэмбо! Натравил меня на новых невольников в такое горячее время! Теперь Том с неделю будет в лежку лежать.
– Пеняй на себя! – послышался голос позади его кресла.
Это сказала Касси, незаметно прокравшаяся в комнату.
– А, чертовка, вернулась?
– Да, вернулась, – холодно ответила она. – И опять примусь за свое.
– Врешь! Как я сказал, так и будет. Возьмись за ум, а не возьмешься, проваливай в поселок и работай вместе со всеми и харч получай там же.
– Да мне в тысячу раз лучше валяться в грязной лачуге, чем жить под твоим копытом! – воскликнула Касси.
– От моего копыта никуда не денешься, – сказал Легри и схватил ее за руку.
– Берегись, Саймон Легри! – крикнула Касси, бешено сверкнув глазами. – А все-таки ты меня боишься, – насмешливо добавила она, – и неспроста боишься: ведь во мне сидит сатана. Так будь же осторожней!
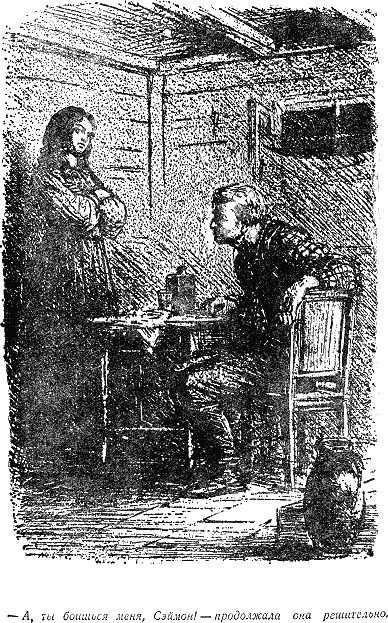
Последние слова Касси проговорила свистящим шепотом в самое ухо Легри.
– Перестань! Ты и вправду с сатаной спуталась! – крикнул он, отталкивая ее от себя. Взгляд у него был испуганный. – Слушай, Касси! Давай будем друзьями, как прежде!
– Друзьями?! – повторила она и не могла больше выговорить ни слова от нахлынувшей на нее ярости.
Легри всегда ощущал над собой власть Касси – власть сильного, безудержного в своих чувствах существа, которое способно покорять даже самые грубые натуры. Но за последнее время, изнемогая под страшным гнетом рабства, Касси стала беспокойной и вспыльчивой, как никогда. Вспыльчивость ее иной раз граничила с безумием, что приводило в трепет Легри, который, подобно всем невежественным людям, питал суеверный страх перед сумасшедшими. Когда в доме появилась Эммелина, чувство, глубоко таившееся в окаменевшем сердце Касси, вспыхнуло ярким пламенем, она вступилась за девушку и с яростью набросилась на Легри. Тот, выведенный из себя, пригрозил послать Касси на полевые работы, если она не образумится. Касси гордо ответила, что это ее не страшит. И, как мы уже видели, проработала в поле до позднего вечера, выказав этим свое пренебрежение к угрозам хозяина.
Весь тот день Легри было не по себе, ибо Касси все время занимала его мысли. Когда она поставила свою корзину на весы, у него мелькнула надежда на примирение, и он заговорил с ней, стараясь полунасмешливо задобрить строптивую женщину, но из этой попытки ничего не вышло.
Зверская расправа с несчастным Томом окончательно взбесила Касси, и она вернулась домой только для того, чтобы отчитать Легри за его бесчеловечность.
– Перестань буйствовать, Касси, – сказал он, – будь благоразумной.
– И ты смеешь говорить о благоразумии! А сам что натворил? Кто искалечил лучшего работника на всей плантации? И нашел время, когда это делать, – в самую горячую пору! Вот до чего тебя твоя злоба доводит!
– Что верно, то верно. Не следовало мне, дураку, с ним связываться, – сказал Легри. – Однако если раб заартачится, ему нельзя потворствовать, надо его образумить.
– Ну, Тома тебе не удастся образумить.
– Не удастся? – крикнул Легри, вскакивая с кресла. – А вот посмотрим! Нет таких негров на свете, которые устоят передо мной. Я ему все кости переломаю, а своего добьюсь.
В эту минуту дверь приоткрылась, и за ней показался Сэмбо. Он с поклоном протянул Легри какой-то маленький сверток.
– Что это у тебя? – спросил тот.
– Талисман, хозяин.
– Что за талисман?
– Это такая штука, которую негры достают у колдуний. Она отводит боль. С ней им любая порка не страшна. А Том носил ее на шее на черном шнурке.
Подобно многим невежественным и жестоким людям, Легри был суеверен. Он взял бумажный сверток у Сэмбо из рук и с опаской развернул его.
Оттуда выпал серебряный доллар и длинная золотистая прядь волос, которая, словно живая, обвилась вокруг пальца Легри.
– Проклятие! – крикнул он, в бешенстве топая ногами и швыряя локон в камин. – Где ты взял его? Сжечь, сжечь немедленно!
Сэмбо смотрел на хозяина с разинутым ртом, а Касси остановилась на пороге, не понимая причины такой ярости.
– Не смей больше приносить мне всякую чертовщину! – Легри замахнулся кулаком на Сэмбо, потом схватил серебряный доллар и вышвырнул его в окно.
Сэмбо был рад унести ноги. Когда дверь за ним захлопнулась, Легри, видимо, устыдившись своей вспышки, сел в кресло и стал молча потягивать пунш, а Касси тем временем незаметно выскользнула из комнаты и пошла навестить несчастного Тома, о чем мы уже рассказывали.
Что же произошло с Легри? Почему столь невинная вещь, как прядь светлых волос, привела в такой ужас человека, которого, казалось бы, ничем нельзя было смутить? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны познакомить читателя с его прошлым.
Было время, когда погрязший в пороках Саймон знавал материнскую ласку и засыпал, младенцем, в объятиях матери. Эта кроткая женщина с терпением и любовью растила своего единственного сына, но он, не внимая ее советам, ее уговорам, пошел по стопам деспотичного, жестокосердого отца, рано покинул материнский кров и отправился искать счастья в море.
С тех пор Саймон побывал дома только раз. И мать, не перестававшая любить свое беспутное детище, сделала все, чтобы отвратить его от греховной жизни и наставить добру.
Легри колебался, готовый склониться на ее мольбы, но порочность взяла в нем верх. Он стал пьянствовать и однажды ночью, когда несчастная женщина в порыве отчаяния упала перед ним на колени, ударил ее ногой, с проклятиями выбежал из дому и вернулся на свой корабль.
Прошло немало времени, прежде чем Саймон снова вспомнил свою мать. Как-то раз в самый разгар кутежа ему подали письмо. Он распечатал конверт; оттуда выпал длинный локон – выпал и обвился вокруг его пальцев. А в письме было сказано, что мать Саймона Легри умерла и что, умирая, она простила сына и послала ему свое благословение.
Легри сжег и письмо и локон, но глядя, как огонь пожирает их, он внутренне содрогался, думая об адском пламени. С тех пор чем он только ни пытался заглушить в себе воспоминания об этом – попойками, разгулом, богохульством, – ему ничто не помогало. И по ночам, когда среди глубокой тишины Саймон оставался наедине со своей неспокойной совестью, перед ним вдруг вставал бледный призрак матери, он чувствовал, как ее локон мягко обвивается вокруг его пальцев, и, весь в холодном поту, вскакивал с постели.
– Проклятый негр! – бормотал Легри между глотками пунша. – Где он достал эту штуку? Ни дать ни взять тот самый… Уф! Я думал, все забыто, да где тут забыть! Ох, тоска какая! Эмми, что ли, позвать? Она ненавидит меня, да я на это не посмотрю, заставлю ее спуститься вниз!
Он вышел в большой вестибюль, в дальнем конце которого виднелась лестница во второй этаж. И лестница и вестибюль, когда-то пышно убранные, были теперь завалены всяким хламом, заставлены ящиками. Голые ступеньки уходили во тьму. В разбитое полукруглое окно над дверью лился слабый лунный свет. Воздух здесь был затхлый, в нем чувствовалась пронизывающая сырость словно в склепе.
Легри остановился у лестницы и прислушался. Наверху кто-то пел. Как странно и жутко было слышать пение в этом запущенном старом доме! А может, у него просто нервы разгулялись? Тсс!..
Сильный и нежный голос пел песню, излюбленную рабами:
– Вот проклятая! Придушить ее мало! – пробормотал Легри. Потом крикнул: – Эмми! Эмми!
Слезы, слезы,
Плач и слезы у престола господня.
Но ответом ему послужило эхо, насмешливо повторившее его зов. А звонкий девичий голос продолжал:
Легри поднялся на одну ступеньку и снова замер. Он постыдился бы признаться в этом самому себе, но крупные капли пота выступили у него на лбу, сердце ёкнуло от страха. Ему показалось даже, будто во тьме перед ним мелькнуло что-то белое. Уж не призрак ли это покойной матери?
Расстаются навеки,
Расстаются навеки
Мать и сын у престола господня.
– Теперь мне ясно одно, – прошептал он, нетвердыми шагами возвращаясь в гостиную, – этого негра надо оставить в покое. Тут без колдовства не обошлось. Иначе с чего бы меня так знобило и прошибало потом! Откуда он взял этот локон? Неужто тот самый? Да нет, не может быть! Ведь тот я сжег, сжег собственными руками. Не из пепла же он возродился!.. Довольно вам спать! – Легри засвистал и топнул ногой на собак.
Но те сонно повели на него глазами и не двинулись с места.
– Сэмбо и Квимбо, что ли, позвать? – продолжал Легри говорить сам с собой. – Пусть спляшут, повеселят меня, разгонят эти черные мысли.
Он надел шляпу, вышел на веранду и затрубил в рог, призывая к себе своих верных приспешников.
Когда Легри бывал в хорошем расположении духа, он часто призывал к себе Квимбо и Сэмбо и, предварительно напоив этих головорезов, развлекался их пением, плясками или дракой – в зависимости от настроения.
Возвращаясь от Тома около двух часов ночи, Касси услышала несущиеся из дома дикие крики, посвист и улюлюканье вперемешку с оглушительным лаем собак.
Она поднялась на веранду и заглянула в окно гостиной. Легри и оба надсмотрщика, вдребезги пьяные, горланили песни, орали, метались по комнате, опрокидывая стулья, и строили друг другу нелепые и страшные рожи.
Касси отвела рукой створку ставни и долго смотрела на то, что творилось в гостиной. Ее темные глаза горели страхом, презрением и яростной злобой.
– Неужели грешно избавить мир от такого мерзавца? – прошептала она.
Потом круто повернулась, вошла в дом с черного хода и, поднявшись по лестнице, постучалась к Эммелине.
ГЛАВА XXXVI
Эммелина и Касси
Касси открыла дверь и увидела, что Эммелина, бледная от страха, сидит, забившись в дальний угол комнаты. Девушка вздрогнула, но, узнав Касси, бросилась к ней, схватила ее за руку и сказала:
– Касси! Как я рада! Я думала, что… Боже мой, если б ты знала, что там делается весь вечер!
– Мне ли не знать! – сухо сказала та. – Я не в первый раз это слышу.
– Касси! Если бы убежать отсюда! Все равно куда: на болота, где змеи, – куда угодно! Неужели нам отрезаны все пути?
– Отсюда только один путь – в могилу, – сказала Касси.
– И ты никогда не пробовала убежать?
– Другие пробовали, а я видела, чем это кончалось.
– Я готова скитаться по болотам, глотать древесную кору. Пусть там змеи! Лучше жить среди змей, чем около этого человека! – волнуясь, говорила Эммелина.
– Многие так думали, – ответила ей Касси. – Но на болотах долго не пробудешь: выследят с собаками, приведут обратно, а потом… потом…
– А что он сделает, если поймает? – Девушка жадно всматривалась ей в лицо, дожидаясь ответа.
– Спроси лучше, чего он не сделает, – сказала Касси. – Этот человек изучил свое подлое ремесло среди пиратов в Вест-Индии. Ты потеряешь сон, если послушаешь, что мне приходилось видеть здесь, и узнаешь, как он похваляется своими подвигами. У меня, бывало, по неделям стояли в ушах вопли его жертв. Ты еще не видела пустырь за поселком, не видела сухое дерево с обуглившимся стволом, а под ним горы золы. Спроси, кого хочешь, что там делалось, и тебе никто не посмеет сказать правду.
– Какую правду?
– И я тебе не скажу. Мне даже вспомнить об этом страшно. А что будет завтра, если Том не покорится ему?
– Боже мой! – прошептала Эммелина, и лицо ее побелело от ужаса. – Что же делать, Касси?
– То, что делаю я: пить! Сначала мне тоже было трудно привыкнуть к этому, а теперь не могу без вина. Надо же иметь какую-то радость в жизни. Выпьешь, и кажется, что не так уж все страшно вокруг.
– Моя мать предостерегала меня: никогда не пей, – сказала Эммелина.
– Мать тебя предостерегала! – с горечью воскликнула Касси. – Кому нужны материнские наставления! Нас покупают, за нас платят деньги, и мы не принадлежим самим себе. Вот так-то! Пей, Эммелина, пей, сколько сможешь, и тебе станет легче.
– Касси, Касси, пожалей меня!
– Пожалеть? А разве я не жалею? Ведь у меня тоже была дочь! Где она? Кто над ней сейчас властвует, одному богу известно. Наверно, пошла по стопам своей матери. И ее детей ждет та же участь. И не будет этому конца, ибо над нами тяготеет вечное проклятие!
– Лучше бы мне не родиться на свет божий! – воскликнула Эммелина.
– Я тоже не раз говорила это и давно наложила бы на себя руки, да вот только решимости не хватает, – сказала Касси, устремив в темноту тяжелый, полный отчаяния взгляд.
– Это большой грех, – прошептала Эммелина.
– А разве не грех жить так, как мы живем?
Эммелина отвернулась от нее и закрыла лицо руками.
Пока обе женщины разговаривали наверху, попойка в гостиной кончилась, и мертвецки пьяный Легри успел заснуть.
Сон у него был неспокойный, полный странных видений. Вот перед ним вдруг выросла женская фигура, закутанная в саван. Холодная рука легко коснулась его лба. Он узнал, кто это, узнал, не видя лица, и задрожал всем телом. Потом все тот же локон обвился вокруг его пальцев, скользнул выше и, словно петлей, сдавил ему шею, не давая дышать. Послышался леденящий кровь шепот. И вдруг перед ним разверзлась бездна, чьи-то руки толкали его туда, он отбивался от них, не помня себя от ужаса, и, оглянувшись, увидел Касси. Она смеялась и тоже протягивала к нему руки, а за ее спиной стоял тот призрак… но уже без савана, и это была его мать. Она медленно отвернулась от своего сына, и он, не удержавшись на краю бездны, полетел вниз под дьявольские визги, крик и хохот.
Ночь миновала. Розовый свет спокойной утренней зари уже проникал в окна. Легри открыл глаза и прежде всего выругался. Разве для него свершалось ежедневное чудо утра, разве для него играли золотом и пурпуром лучи восходящего солнца? Не замечая всего этого, он встал, пошатываясь, со своего ложа, налил себе стакан коньяку и опорожнил его до половины.
– Ну и ночка выдалась! – пожаловался он Касси, которая в эту минуту вошла в гостиную.
– Это не последняя. Таких ночек у тебя еще много будет, – сухо сказала она.
– Почему это?
– Скоро узнаешь почему, – тем же тоном ответила Касси. – А теперь, Саймон Легри, послушайся моего совета.
– Очень они мне нужны, твои советы!
– Послушайся меня и оставь Тома в покое, – продолжала Касси, прибирая комнату.
– А почему ты о нем заботишься?
– Почему? Да я сама не знаю почему. Если тебе ничего не стоит искалечить в самое горячее время работника, за которого уплачено тысяча двести долларов, то меня это и подавно не касается. Я все, что могла, для него сделала.
– Вот как! А кто тебя просит вмешиваться?
– Никто не просит. Я не первый раз выхаживаю твоих невольников, спасаю тебе немалые деньги, и вот какая меня ждет благодарность! Проиграешь ты свое пари, еще как проиграешь!
У Легри, подобно многим из его собратьев, была только одна цель в жизни: снять как можно больше хлопка со своих полей, и он держал пари с другими плантаторами, что у него будет самый богатый урожай в этом году. Таким образом, Касси с чисто женской хитростью затронула в нем самую чувствительную струнку.
– Ну ладно, на сей раз с него хватит, – сказал Легри, – только пусть попросит у меня прощения и даст слово больше не дурить.
– Этого он не сделает, – сказала Касси.
– Не сделает?
– Нет.
– А позвольте узнать почему? – с величайшим презрением спросил Легри.
– Потому что он поступил правильно и прекрасно знает это. Выходит, каяться ему не в чем.
– Касси! Как я рада! Я думала, что… Боже мой, если б ты знала, что там делается весь вечер!
– Мне ли не знать! – сухо сказала та. – Я не в первый раз это слышу.
– Касси! Если бы убежать отсюда! Все равно куда: на болота, где змеи, – куда угодно! Неужели нам отрезаны все пути?
– Отсюда только один путь – в могилу, – сказала Касси.
– И ты никогда не пробовала убежать?
– Другие пробовали, а я видела, чем это кончалось.
– Я готова скитаться по болотам, глотать древесную кору. Пусть там змеи! Лучше жить среди змей, чем около этого человека! – волнуясь, говорила Эммелина.
– Многие так думали, – ответила ей Касси. – Но на болотах долго не пробудешь: выследят с собаками, приведут обратно, а потом… потом…
– А что он сделает, если поймает? – Девушка жадно всматривалась ей в лицо, дожидаясь ответа.
– Спроси лучше, чего он не сделает, – сказала Касси. – Этот человек изучил свое подлое ремесло среди пиратов в Вест-Индии. Ты потеряешь сон, если послушаешь, что мне приходилось видеть здесь, и узнаешь, как он похваляется своими подвигами. У меня, бывало, по неделям стояли в ушах вопли его жертв. Ты еще не видела пустырь за поселком, не видела сухое дерево с обуглившимся стволом, а под ним горы золы. Спроси, кого хочешь, что там делалось, и тебе никто не посмеет сказать правду.
– Какую правду?
– И я тебе не скажу. Мне даже вспомнить об этом страшно. А что будет завтра, если Том не покорится ему?
– Боже мой! – прошептала Эммелина, и лицо ее побелело от ужаса. – Что же делать, Касси?
– То, что делаю я: пить! Сначала мне тоже было трудно привыкнуть к этому, а теперь не могу без вина. Надо же иметь какую-то радость в жизни. Выпьешь, и кажется, что не так уж все страшно вокруг.
– Моя мать предостерегала меня: никогда не пей, – сказала Эммелина.
– Мать тебя предостерегала! – с горечью воскликнула Касси. – Кому нужны материнские наставления! Нас покупают, за нас платят деньги, и мы не принадлежим самим себе. Вот так-то! Пей, Эммелина, пей, сколько сможешь, и тебе станет легче.
– Касси, Касси, пожалей меня!
– Пожалеть? А разве я не жалею? Ведь у меня тоже была дочь! Где она? Кто над ней сейчас властвует, одному богу известно. Наверно, пошла по стопам своей матери. И ее детей ждет та же участь. И не будет этому конца, ибо над нами тяготеет вечное проклятие!
– Лучше бы мне не родиться на свет божий! – воскликнула Эммелина.
– Я тоже не раз говорила это и давно наложила бы на себя руки, да вот только решимости не хватает, – сказала Касси, устремив в темноту тяжелый, полный отчаяния взгляд.
– Это большой грех, – прошептала Эммелина.
– А разве не грех жить так, как мы живем?
Эммелина отвернулась от нее и закрыла лицо руками.
Пока обе женщины разговаривали наверху, попойка в гостиной кончилась, и мертвецки пьяный Легри успел заснуть.
Сон у него был неспокойный, полный странных видений. Вот перед ним вдруг выросла женская фигура, закутанная в саван. Холодная рука легко коснулась его лба. Он узнал, кто это, узнал, не видя лица, и задрожал всем телом. Потом все тот же локон обвился вокруг его пальцев, скользнул выше и, словно петлей, сдавил ему шею, не давая дышать. Послышался леденящий кровь шепот. И вдруг перед ним разверзлась бездна, чьи-то руки толкали его туда, он отбивался от них, не помня себя от ужаса, и, оглянувшись, увидел Касси. Она смеялась и тоже протягивала к нему руки, а за ее спиной стоял тот призрак… но уже без савана, и это была его мать. Она медленно отвернулась от своего сына, и он, не удержавшись на краю бездны, полетел вниз под дьявольские визги, крик и хохот.
Ночь миновала. Розовый свет спокойной утренней зари уже проникал в окна. Легри открыл глаза и прежде всего выругался. Разве для него свершалось ежедневное чудо утра, разве для него играли золотом и пурпуром лучи восходящего солнца? Не замечая всего этого, он встал, пошатываясь, со своего ложа, налил себе стакан коньяку и опорожнил его до половины.
– Ну и ночка выдалась! – пожаловался он Касси, которая в эту минуту вошла в гостиную.
– Это не последняя. Таких ночек у тебя еще много будет, – сухо сказала она.
– Почему это?
– Скоро узнаешь почему, – тем же тоном ответила Касси. – А теперь, Саймон Легри, послушайся моего совета.
– Очень они мне нужны, твои советы!
– Послушайся меня и оставь Тома в покое, – продолжала Касси, прибирая комнату.
– А почему ты о нем заботишься?
– Почему? Да я сама не знаю почему. Если тебе ничего не стоит искалечить в самое горячее время работника, за которого уплачено тысяча двести долларов, то меня это и подавно не касается. Я все, что могла, для него сделала.
– Вот как! А кто тебя просит вмешиваться?
– Никто не просит. Я не первый раз выхаживаю твоих невольников, спасаю тебе немалые деньги, и вот какая меня ждет благодарность! Проиграешь ты свое пари, еще как проиграешь!
У Легри, подобно многим из его собратьев, была только одна цель в жизни: снять как можно больше хлопка со своих полей, и он держал пари с другими плантаторами, что у него будет самый богатый урожай в этом году. Таким образом, Касси с чисто женской хитростью затронула в нем самую чувствительную струнку.
– Ну ладно, на сей раз с него хватит, – сказал Легри, – только пусть попросит у меня прощения и даст слово больше не дурить.
– Этого он не сделает, – сказала Касси.
– Не сделает?
– Нет.
– А позвольте узнать почему? – с величайшим презрением спросил Легри.
– Потому что он поступил правильно и прекрасно знает это. Выходит, каяться ему не в чем.
