Смысл этих слов не сразу стал понятен Ганнону, и незнакомцу пришлось повторить свой вопрос.
Ганнон вздрогнул. «Значит, есть люди ещё более несчастные, чем я, — подумал он. — У меня отняли Синту, а этот человек продаёт своего сына, продаст его каждому, кто хочет принести Тиннит кровавую жертву!»
— Зачем ты продаёшь своего ребёнка? — ужаснулся Ганнон.
Незнакомец уловил во взгляде Ганнона сочувствие.
— Я одолжил зерно у богатого соседа, но новая жатва даже не вернула мне семена. Если завтра не возвращу долга, у меня отберут участок. Я и пришёл в город. Хотел отдать сына своего Гискона в обучение кузнецу и получить плату вперёд. Кузнец обругал меня: «Ты думаешь, я кую деньги?» Горшечник Мисдесс, чья лавка у Горшечных ворот, сказал нам: «Зачем людям горшки, когда в них нечего класть?» Вот мы и пришли сюда.
Рассказ землепашца взволновал Ганнона. Он увидел что-то общее в судьбе этого мальчугана и Синты. Мальчик должен стать жертвой Магарбала. Нет, он этого не допустит.
Ганнон достал мешочек и отсчитал десять кожаных монет.
— Возьми! — сказал он, протягивая деньги. — Отдай долг.
Широко раскрыв глаза, бедняк смотрел на Ганнона. Десять кожаных монет! Их хватит не только на уплату долга с процентами, но и на покупку зерна для нового урожая.
— Так это мои деньги? — недоверчиво спросил землепашец.
— Ну да, твои! — Ганнон положил монеты в его руку.
Повернувшись, Ганнон хотел было идти, но землепашец поспешно тронул его за плечо.
— А мальчик? Почему ты не берёшь мальчика?
— Мне ничего не нужно от Тиннит, — ответил Ганнон. — Я уже принёс на её алтарь дар, самую дорогую жертву.
— Может быть, тебе нужен слуга?
— Мне не надобны слуги, — молвил нетерпеливо Ганнон. — К тому же я не кузнец и не горшечник, — добавил он, прочитав недоумение на лице землепашца. — Какому ремеслу я могу обучить твоего сына? Я ведь моряк.
Услышав слово «моряк», мальчик, всё время безучастно слушавший разговор отца с незнакомцем, встрепенулся.
— О господин, — взмолился он, — научи меня морскому делу! Возьми меня к себе!
Ганнон взглянул на святилище. В глазах его блеснул огонёк. «Не сами ли боги посылают мне этого мальчика?» — подумал он и положил руку на худенькое детское плечико:
— Ну что ж, Гискон, идём! Я сделаю из тебя моряка!
Таинственная табличка
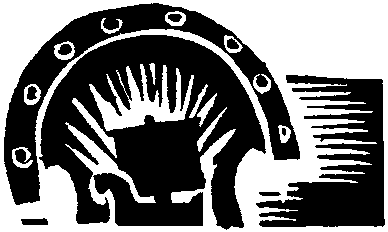 Ганнон стоял в углу, спиной к двери, и перебирал щиты. Под Гимерой Ганнон потерял всё своё оружие, и вот теперь он отправился в оружейную лавку, чтобы купить меч и щит.
Ганнон стоял в углу, спиной к двери, и перебирал щиты. Под Гимерой Ганнон потерял всё своё оружие, и вот теперь он отправился в оружейную лавку, чтобы купить меч и щит.
Ганнону понравился меч лидийской работы со слегка изогнутой рукояткой. А вот щит по своему вкусу он никак не может найти. Все щиты были деревянные.
— А нет ли у тебя какого-нибудь металлического щита? — обратился он к оружейнику, услужливо державшему перед, ним светильник.
— Есть один, — как-то нерешительно отозвался оружейник и, чуть помедлив, удалился в заднюю комнату, служившую ему жилищем.
Он вынес оттуда продолговатый щит, завёрнутый в кусок холста. В бронзу, позеленевшую от времени, были искусно вставлены кусочки серебра, золота и слоновой кости. Мозаика из металла! Ганнон подошёл к двери, поставил щит на ребро, так, что на его поверхность упали солнечные лучи, и его взору открылось море, покрытое мелкими чешуйками волн. Из воды поднимались две скалы. Между ними, в самой середине щита, проходил корабль. Его борт был выложен из маленьких кусочков серебра, а квадратный парус — из олова. На палубе можно было разглядеть крошечные фигурки моряков. На изогнутом, как лебединая шея, носу — женщина. Она вдвое больше человечков. Её длинные волосы развеваются на ветру. В обнажённых руках женщина держит двух змей. В верхней части щита, у самого обода, — золотой солнечный диск, наполовину затонувший в волнах.
— Откуда у тебя этот щит? — воскликнул в восхищении Ганнон.
— Мне оставил его в залог незнакомый эллинский моряк, — отвечал оружейник. — Это было года два назад. Он просил год не продавать щит. Обещал не только вернуть залог, но и дать столько серебра, сколько весит этот щит.
— Моряку нелегко держать своё слово, — заметил Ганнон. — На долю моряка выпадает столько опасностей! Против него и бури, и подводные камни, и морские чудовища.
— Да, — согласился оружейник. — Я тоже думаю, что этого эллина давно уже сожрали рыбы. Чего же лежать щиту? Купи его, если он тебе нравится.
Рассчитавшись с оружейником, Ганнон взял свои покупки и отправился домой. Повесив меч на стену над своей постелью, он позвал Гискона. Мальчик уже более недели жил в его доме.
— Вот тебе и занятие, — обратился к Гискону Ганнон, передавая щит. — Почистить его, чтобы блестел. Только смотри не поломай. Это древний щит и очень дорогой.
— Хорошо, господин! — радостно отозвался мальчик. Ему было приятно хоть чем-нибудь быть полезным Ганнону.
Ганнон прилёг и сразу же сомкнул глаза. Его разбудил крик:
— Господин! Господин!
Лицо мальчика выражало огорчение. Ганнон встревоженно поднял голову:
— Что случилось?
— Господин! — Мальчуган смотрел на него глазами, полными слёз. — Я не виноват. В задней стенке щита прогнила дощечка. Выпало вот это. — Гискон протянул белую пластинку.
Одна сторона этой костяной пластинки была гладкой, а на другой в две строки были нацарапаны какие-то значки. Под ними стояло по-гречески: «Атлантида». Эти знаки ни о чём не говорили Ганнону. Буквы ли это какого-то неизвестного письма или просто забавные рисунки? Ганнон разглядел человечков, животных и птиц. «А что означает слово «Атлантида»? Может быть, это женское имя или название какой-нибудь страны? Один Мидаклит может раскрыть смысл этого слова», — подумал Ганнон, накидывая на плечи плащ.
Мидаклит
 За столом сидит пожилой человек. Седые волосы ниспадают на высокий лоб. Человек настолько углублён в чтение, что не замечает вошедшего в комнату Ганнона.
За столом сидит пожилой человек. Седые волосы ниспадают на высокий лоб. Человек настолько углублён в чтение, что не замечает вошедшего в комнату Ганнона.
Мидаклит — учитель Ганнона, и живёт он в Карфагене с того дня, как его родной город Милет был разрушен персами. [16]Он поселился в предместье, заселённом эллинскими купцами и ремесленниками. Бабушка Ганнона, родом из Мессаны, [17]хотела обучить внука языку своих отцов и пригласила Мидаклита к себе в дом. Гамилькар поддержал намерение своей матери. Ганнону запомнились его слова: «Эллины — наши враги и соперники. Ты должен знать язык врагов Карфагена». И Ганнон научился языку эллинов, как этого хотел отец. Более того: он полюбил этот красивый, звучный язык. После смерти бабушки Ганнон всё реже встречался с учителем, а с того времени, как вышел в море, не видел его ни разу.
В своём маленьком, наполовину вросшем в землю домике Мидаклит проводил время за египетскими, финикийскими, еврейскими свитками. Он не относился, подобно многим своим соотечественникам, презрительно ко всему неэллинскому. Он не называл египтян, карфагенян, евреев варварами. Мидаклит хорошо знал, что в то время, когда египтяне сооружали свои пирамиды и храмы, пользуясь законами геометрии, его собственные предки ещё были дикарями и, одетые в звериные шкуры, бродили по горам. Ему было известно, что задолго до Гомера жили вавилонские певцы, слагавшие гимны о богах и героях, и что ассирийцы умели определять солнечные затмения за четыреста лет до Фалеса, [18]а сидонянин Мох ещё до Троянской войны разработал учение об атомах. Он знал также и о том, что в то время как эллины верили сказкам, что Столбы Геракла — предел света, финикийцы вышли в океан. «Многому нужно поучиться у варваров», — любил повторять Мидаклит. Особенно понял он это здесь, в Карфагене.
— Над чем ты задумался, учитель? — послышалось вдруг.
Мидаклит обернулся.
— Это ты, Ганнон? — радостно воскликнул эллин, поднимаясь навстречу гостю. — Как я рад, что ты не забыл дорогу к моему дому!
— Я её найду и с закрытыми глазами, учитель, — улыбнулся Ганнон. — Это дорога моего детства, а тогда я был так счастлив!
— Я слышал о бедах, свалившихся на твои плечи. Пусть боги вдохнут в тебя мужество!
— Не будем об этом говорить. — Ганнон нахмурился. — Я принёс тебе одну вещь. Думаю, она тебя заинтересует. Вот! — и он протянул эллину табличку.
Мидаклит взял табличку, перевернул её, поднёс к глазам. Ганнон видел, как задрожали его руки, а кончики пальцев, державшие пластинку, побелели.
— Откуда она? — выдохнул эллин.
— Из этого щита. Выпала.
Эллин взял щит обеими руками, и на лице его появилось выражение восторга и удивления. Выставив вперёд правую руку, он стал читать нараспев:
Он знал страстную любовь учителя к этому певцу и немного посмеивался над ней. Многое из того, что Ганнон слышал от Мидаклита о войнах и странствиях, описанных Гомером, казалось ему вымыслом, красивой сказкой, не более.
— Да, — отвечал эллин, — и щит, который ты мне принёс, может быть, столь же древен и знаменит, как доспехи, выкованные для Ахилла [19]и воспетые в «Илиаде». Только на этом щите изображены не сельские труды и не сечи, как на Ахилловом, а великий подвиг мореходов, впервые вышедших за Столбы Геракла.
— За Столбы Геракла? — воскликнул Ганнон. В голосе его прозвучало недоверие.
— За Столбы Геракла! — подтвердил эллин. — Или за Столбы Мелькарта, как называете их вы, карфагеняне. Видишь, сколь искусно древний художник изобразил две скалы, встающие из волн? Это и есть рубеж Внутреннего моря и Океана, обтекающего землю. Корабль плывёт на запад, дорогой солнца. Великое светило наполовину погружено в царство ночи.
— Но что это за люди? Чьё это судно? — опросил Ганнон, повернув щит к себе. — Смотри, как высока у него корма, а нос заканчивается раздвоенным тараном. Гребцов защищает верхняя палуба. А вот выступает руль, а не два кормовых весла, как у древних финикийских и египетских кораблей. Нет, это не финикийское судно! А между тем все знают, что мои предки первыми вышли в океан и основали на его берегах поселения в то время, когда твой Гомер помещал у Столбов великанов, держащих на спине небо, и рассказывал другие ещё более невероятные басни.
— Я плохо разбираюсь в кораблях, — сказал эллин. — Признаюсь тебе со стыдом, для меня они все похожи друг на друга. Но смотри, какой странный наряд у этой девы со змеями. Пеплос у неё до щиколоток, а груди обнажены. Это богиня. Но не финикийская. И не эллинская, — добавил он после некоторой паузы.
— Почему же ты думаешь, что это богиня?
— Видишь, она выше других людей. Змеи — это признак божественной власти. Наша богиня Афина часто изображается со змеями.
— На алтаре владычицы Тиннит тоже нарисованы змеи, — вспомнил Ганнон.
— Богиня указывает мореходам путь, — размышлял вслух эллин. — Но куда? Может быть, в Атлантиду? Ведь не случайно табличка с надписью спрятана в этом щите.
— Атлантида — это страна? — спросил Ганнон, присаживаясь на коврик. — Я ничего о ней не слышал. И ты мне о ней не рассказывал.
Эллин подошёл к столу и достал оттуда свиток, перевязанный синей тесьмой.
— Этот свиток, — начал Мидаклит, садясь рядом с Ганноном, — недавно попал в мои руки. Его написал греческий мудрец Солон.
— Не тот ли это Солон, который дал афинянам законы, а после отправился в добровольное изгнание?
— Да, это он, — подтвердил эллин. — У тебя хорошая память… Солон, — продолжал Мидаклит, — много путешествовал и однажды побывал в самой древней стране мира, в Египте. От жрецов прославленного храма богини Нэйт в Саисе Солон [20]узнал о существовании большого острова, расположенного к западу от Столбов Геракла, и записал всё, что ему рассказали египтяне. Остров этот, или, вернее, материк, был заселён мудрым и деятельным народом — атлантами. Ими управляли цари. Атланты, как и древние египтяне, перерезали свою страну каналами, и она расцвела, как весенний цветок. Они возвели прекрасные дворцы и храмы богу моря. На своих судах они совершали далёкие плавания. Не было на земле народа богаче и счастливее атлантов. Но однажды послышался страшный подземный гул. Земля под ногами атлантов разверзлась. Хлынули волны, и Атлантида исчезла в пучине океана.
— У наших жрецов, — заметил Ганнон, — ты услышишь и не такие басни. Где это видано, чтобы целый материк исчез под водой! Должно же было что-нибудь от него остаться. И почему об Атлантиде ничего не знают в Карфагене?
— По словам Солона, — возразил Мидаклит, — катастрофа произошла десять тысяч лет назад. Тогда не было ни Карфагена, ни его отца — древнего Тира. [21]Поэтому твой народ и не слышал об Атлантиде. Египтяне же древнее вас. Остатки Атлантиды надо искать за Столбами.
— Что ж, давай их поищем с тобой?
— Ты смеёшься над своим старым учителем! Думаешь, я не знаю, что эллинам под страхом смерти запрещено выходить за Столбы? Ведь закон этот принят по настоянию твоего родителя, да будут к нему милостивы подземные боги.
— Я не смеюсь над тобой. — Ганнон взял эллина за руку. — Закон грозит смертью эллинским купцам, а не тебе. Я не смеюсь, учитель! Ты знаешь, что я задумал? Мы обоснуем на землях Ливии колонии, а после этого на нескольких кораблях выйдем в океан. Мы должны узнать, можно ли обогнуть Ливию. Мы поищем твою Атлантиду! Поедешь со мной?
Вместо ответа Мидаклит заключил Ганнона в объятия.
В Совете Тридцати
 За длинным прямоугольным столом сидят раби,
[22]с каждой стороны по четырнадцать. В зале жарко. Лица советников покрыты капельками пота. Многие дышат, как рыбы, вытащенные из воды.
За длинным прямоугольным столом сидят раби,
[22]с каждой стороны по четырнадцать. В зале жарко. Лица советников покрыты капельками пота. Многие дышат, как рыбы, вытащенные из воды.
У узкой стороны стола — два сиденья со спинками из слоновой кости. На одном из них восседает Миркан. В одежде суффета он кажется ещё более тучным. Место другого суффета пустует: новый суффет, вместо погибшего Гамилькара, ещё не избран. Выборы должны состояться через несколько дней.
Распахнулись двери из жёлтого кедра. На пороге появился Ганнон. Приветствуя советников почтительным поклоном, он произносит:
— Да снизойдут на вас милость и благословение богов!
— Что тебе нужно от Совета? — спрашивает Миркан, не поворачивая головы.
— О мудрейшие из мудрых! — ещё раз поклонившись, начинает Ганнон. — В Сицилии мне пришлось пережить горький день Гимеры. На родине я узнал страдания народа нашего. Знойный ветер иссушил поля. Люди насытились горем и напились слезами, как вином. Город не может помочь своим сыновьям. У нас нет хлеба. У нас нет серебра и золота, чтобы купить хлеб. Но за Столбами лежат благодатные земли. Там хватит места для всех, и там много золота. Если вы мне дадите корабли, я доставлю людей в эти земли. Я привезу золото, столько золота, что можно будет иметь тысячи наёмников и построить новый флот. Мы заставим эллинов убраться из Сицилии. Наши порты будут открыты только для друзей. Мы погасим многолетний долг отцу нашего города — Тиру. Я знаю, вас страшит риск. Но попадёт ли птица в петлю, когда силок не натянут? Вздуются ли паруса, если нет ветра? Заполнятся ли сокровищницы, если мы будем сидеть сложа руки?
Наступило долгое молчание. Раби ждали, что скажет суффет, а Миркан не мог никак собраться с мыслями. Как ответить этому мальчишке, едва не ставшему его зятем? Мысль об основании новых колоний очень притягательна. Стоит её высказать — и народ пойдёт за Ганионом, как стадо баранов за вожаком, и снова род Магонидов, к которому принадлежит Ганнон, возвысится, и тогда сыну Миркана Шеломбалу не видать кресла суффета, как собственных ушей. Надо уговорить Ганнона, надо убедить его отказаться от своего замысла.
— Отцы раби! — начал Миркан. — Вы выслушали Ганнона. Я его знаю больше, чем вы, и поэтому утверждаю, что он храбрый юноша. Сердце его обращено к добру, но он ещё молод и горяч. Ганнон призывает вывезти людей за Столбы сейчас, когда враги осмелели. Сегодня мы отправим корабли к Столбам, а завтра эллины подступят к стенам нашего обезлюдевшего города, и ливийцы сразу же придут им на помощь. Ганнон обещает нам привезти золото. Да, нам нужно золото, много золота. Но можем ли мы ради него рисковать кораблями? Вспомните, что говорит мореход Гимилькон о плавании за Столбы. Вспомни и ты, Ганнон! Ведь это пишет твой дядя. И, может быть, ты поверишь ему больше, чем мне. «Сердце содрогается, когда слышишь о стране безветрия и безмолвия, о кораблях, занесённых в ил или в заросли морских растений, о туманах, о горах изо льда, выступающих из моря». Ганнон! Откажись от своей безумной затеи! Отправляйся в Сицилию. Мы дадим тебе наёмников. Отомсти за смерть своего отца, удостоенного высшего в республике почёта.
Вслед за Мирканом заговорил купец Габибаал. Ганнон немало слышал о его несметных богатствах, нажитых торговлей с Гадесом. [23]
— Отцы! — промолвил купец. — Я позволю себе показать вам эту лампу. — Он поднял над головой простой глиняный светильник с двумя клювами. — Если вы заглянете внутрь этого светильника, то увидите на дне его осадок. Такой осадок есть и в нашем городе. Это чернь, источник вечных волнений и беспокойств. Суффет Миркан советует оставить этот осадок, но всякий знает, что от этого лампа будет чадить. Надо вычерпать чернь со дна нашего славного города. Пусть едет себе на край света! Поможем ей в этом. Избавившись от черни, город и все благонамеренные люди только выиграют.
Последние слова купца потонули в шуме неодобрительных голосов.
Ганнон вышел на площадь и окинул взглядом раскинувшийся перед ним город. Карфаген поднимал вверх головы своих храмов и выпячивал каменную грудь стен и башен. Казалось, он говорил: «Смотри, путник, как я богат, как великолепны мои дома, сколько кораблей в моих гаванях, сколько оружия в арсеналах! Есть ли на берегах Внутреннего моря другой город, который может со мной сравниться?» Но эта внешняя роскошь могла обмануть разве лишь чужеземца. Ганнон знал, что за этими высокими домами прячутся лачуги, жалкие жилища бедняков. У обитателей этих лачуг нет даже масла для светильников, и они живут, как кроты, в темноте. У оград храмов продают детей для кровавых жертв. Габибаал называет бедняков чернью. Он предлагает вычерпать чернь со дна Карфагена, как нечистоты. Но разве не сам Габибаал и те, кто с ним, виноваты в нищете народа? Это ведь не какие-нибудь рабы, а свободные карфагеняне. С ними не считаются. Говорят от их имени, словно у них нет голоса.
Совет Тридцати не поддержал Ганнона. Но неудача не сломит его. Он пойдёт к кузнецам и валяльщикам, пекарям и горшечникам, он отправится к землепашцам, стонущим от податей и налогов. Они должны его понять! Они помогут ему!
На площади собраний
 Огромная площадь Собраний с утра запружена народом. Сегодня выборы второго суффета. В толпе больше всего ремесленников. Они пришли с улицы Пекарей и площади Валяльщиков, от Горшечных и Кузнечных ворот. Их одежда в муке и саже. Немало в толпе и землепашцев в рваных туниках.
Огромная площадь Собраний с утра запружена народом. Сегодня выборы второго суффета. В толпе больше всего ремесленников. Они пришли с улицы Пекарей и площади Валяльщиков, от Горшечных и Кузнечных ворот. Их одежда в муке и саже. Немало в толпе и землепашцев в рваных туниках.
У самого помоста кучкой стоят отцы города. Тучный человек в красном колпаке, косясь на толпу, говорит Миркану:
— Зачем сюда позвали этих людей? Горшечники вертят ногами свой деревянный круг, и мысли их вращаются вокруг сосуда. Разве они могут быть мудрыми? Дым иссушает тела кузнецов, жар изнуряет их головы, удары молота оглушают их. Как может стать мудрым тот, кто правит плугом и погоняет волов? Он разговаривает со своими волами и смыслит в управлении государством не больше, чем они.
— Ты прав, — отвечает Миркан. — Но, клянусь Тиннит, никто не звал сюда этих людей. Они пришли сами. И я не помню, чтобы на площади Собраний было когда-нибудь столько народа.
В толпе шныряют какие-то юркие, надоедливые люди. Они нашёптывают землепашцам и ремесленникам: «Не голосуйте за беглеца!..»
Но их никто не слушает. Имя Ганнона у всех на устах. Ему готовы простить и то, что он принадлежит к этому заносчивому роду Магонидов, и даже то, что он был под Гимерой, которая наложила на всех моряков Карфагена чёрное пятно.
Ганнон обещал народу, что, если его изберут суффетом, он снарядит корабли за Столбы Мелькарта и доставит всех, кто только пожелает, в благодатные края. Там не дуют жаркие, иссушающие ветры. По ночам не крадутся к загонам львы. По каменистым склонам там вьётся виноград, и его завязям не угрожают прожорливые черви. В тенистых лесах живут непуганые звери, и янтарный мёд стекает из дупел. С горных высот бегут говорливые струи. Там не надо платить за воду, там нет изгородей и запруд. Взрыхляй тучную почву, бросай в неё зёрна и радуйся щедрости земли!
Говорил ли им об этом Ганнон? Нет. Он просто обещал повезти их за Столбы Мелькарта. Рассказы о благодатных землях передавались из уст в уста, обрастая новыми яркими подробностями. Тот, кто вчера рассказывал о них соседу, сегодня выслушивал от него свой же собственный рассказ и не узнавал его.
Но вот на помост поднялись глашатаи. Призывно загудели рога. Заколыхалось море голов. Люди устремились к мосткам. Проходя по ним, они бросали камешки в стоявшие внизу пифосы.
Пифосы стояли по обе стороны мостков, но те, что слева, были полны камешками до краёв, а в тех, что справа, проглядывало дно.
Отцы города ещё теснее прижались к помосту, потрясённые и напуганные невиданным проявлением воли народа. Им было ясно, что Ганнона изберут суффетом. И тогда ему без труда удастся провести через народное собрание любой закон. Это они понимали. И это внушало им страх.
Внезапно раздался крик:
— Ганнон!
Звук, наподобие громового раската, прокатился по площади Собраний, прокатился, подхваченный тысячами голосов, на всех шести улицах, выходящих на эту площадь, и замер у стен Бирсы. [24]Люди рукоплескали, что-то кричали. Они радовались победе своей мечты.
«Серебряный якорь»
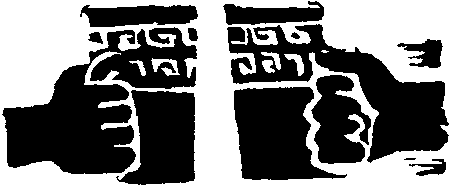 Четыре месяца прошло с того дня, как Ганнон стал суффетом. В обязанности суффета не входило руководство армией и флотом. Для этого имелись специальные военачальники и навархи, непосредственно подчинённые совету старейшин. Но Ганнон со свойственной ему энергией взял на себя и их обязанности. Почти всё время он проводил в Кафоне. Здесь готовился к далёкому и трудному пути карфагенский флот. Всё надо проверить самому: крепки ли канаты и паруса, хорошо ли законопачены щели в бортах. Нужно подобрать матросов. В море трусливый и неопытный спутник опаснее мачты с трещиной или прогнившей килевой доски. Вот почему Ганнон так придирчив и требователен к тем, кого он должен взять с собой в море. Шестьдесят кораблей — свыше тысячи моряков. И с каждым надо поговорить, узнать, что это за человек и можно ли на него положиться. Правда, ему помогает кормчий Малх, достойный потомок отважных финикийских мореходов. Малх служил ещё у Магона.
[25]Тогда Малху было всего лишь пятнадцать лет. А теперь ему все пятьдесят. Он так долго плавал по морю, что, кажется, его грудь и руки покрылись вместо волос морским мхом и водорослями.
Четыре месяца прошло с того дня, как Ганнон стал суффетом. В обязанности суффета не входило руководство армией и флотом. Для этого имелись специальные военачальники и навархи, непосредственно подчинённые совету старейшин. Но Ганнон со свойственной ему энергией взял на себя и их обязанности. Почти всё время он проводил в Кафоне. Здесь готовился к далёкому и трудному пути карфагенский флот. Всё надо проверить самому: крепки ли канаты и паруса, хорошо ли законопачены щели в бортах. Нужно подобрать матросов. В море трусливый и неопытный спутник опаснее мачты с трещиной или прогнившей килевой доски. Вот почему Ганнон так придирчив и требователен к тем, кого он должен взять с собой в море. Шестьдесят кораблей — свыше тысячи моряков. И с каждым надо поговорить, узнать, что это за человек и можно ли на него положиться. Правда, ему помогает кормчий Малх, достойный потомок отважных финикийских мореходов. Малх служил ещё у Магона.
[25]Тогда Малху было всего лишь пятнадцать лет. А теперь ему все пятьдесят. Он так долго плавал по морю, что, кажется, его грудь и руки покрылись вместо волос морским мхом и водорослями.
В таверне «Серебряный якорь» часто можно увидеть Ганнона и Малха в окружении моряков или купцов. Вот и сейчас оба потягивают вино из толстых кружек. Напротив них сидит человек лет тридцати. Лицо его кажется безобразным, так как от уха до носа оно изуродовано шрамом. Но если присмотреться внимательнее, у него правильные черты лица, живые и ясные глаза. Тёмно-каштановые волосы образовывают на голове шапку, едва тронутую у висков сединой. Огромные, как глиняные гири, кулаки лежат на столе.
— Ну, а дальше? — спрашивает нетерпеливо Малх, отставляя пустую кружку.
— Потом пираты меня продали тирянам, — продолжает свой рассказ незнакомец. — Они заставили меня спускаться на дно за раковинами-багрянками. Из них выделывается вот эта драгоценная краска. — И человек бережно касается края плаща Ганнона, окрашенного в пурпур. — Мои товарищи утверждали, что легче быть каменотёсом, мельником, чем ныряльщиком. Но у нас было одно преимущество: нас не держали в оковах. Я не думаю, что хозяин пожалел бы для нас железа. Палок ведь ему не было жалко. Просто он понимал, что под водой нужны свободные руки. Однажды я воспользовался этим и уплыл в море. Меня подобрал эллинский корабль. Кормчий продал меня купцам, промышлявшим добычей губок. Год я вылавливал эти губки. Эллины верят, что губки, повешенные у постели больного, приносят ему исцеление. Я спал на этих губках, но, заболев однажды, чуть не умер. Меня отходила добрая рабыня. Да будут к ней милостивы подземные боги! Хозяин засёк её до смерти. В год, когда на Элладу напал персидский царь Ксеркс, [26]мне удалось бежать. Эллинам было не до рабов. И вот я здесь. Иной раз поможешь нагрузить корабль. Кому сейчас нужны ныряльщики! — Незнакомец вздохнул, видимо думая о Гимере, где был уничтожен флот Карфагена. — Возьми меня, Ганнон! — взмолился он. — Я могу продержаться под водой столько времени, сколько понадобится, чтобы заделать пробоины на днище. Я могу срезать незаметно якоря вражеских кораблей. И с парусами справляюсь неплохо.
Ганнон вздрогнул. «Значит, есть люди ещё более несчастные, чем я, — подумал он. — У меня отняли Синту, а этот человек продаёт своего сына, продаст его каждому, кто хочет принести Тиннит кровавую жертву!»
— Зачем ты продаёшь своего ребёнка? — ужаснулся Ганнон.
Незнакомец уловил во взгляде Ганнона сочувствие.
— Я одолжил зерно у богатого соседа, но новая жатва даже не вернула мне семена. Если завтра не возвращу долга, у меня отберут участок. Я и пришёл в город. Хотел отдать сына своего Гискона в обучение кузнецу и получить плату вперёд. Кузнец обругал меня: «Ты думаешь, я кую деньги?» Горшечник Мисдесс, чья лавка у Горшечных ворот, сказал нам: «Зачем людям горшки, когда в них нечего класть?» Вот мы и пришли сюда.
Рассказ землепашца взволновал Ганнона. Он увидел что-то общее в судьбе этого мальчугана и Синты. Мальчик должен стать жертвой Магарбала. Нет, он этого не допустит.
Ганнон достал мешочек и отсчитал десять кожаных монет.
— Возьми! — сказал он, протягивая деньги. — Отдай долг.
Широко раскрыв глаза, бедняк смотрел на Ганнона. Десять кожаных монет! Их хватит не только на уплату долга с процентами, но и на покупку зерна для нового урожая.
— Так это мои деньги? — недоверчиво спросил землепашец.
— Ну да, твои! — Ганнон положил монеты в его руку.
Повернувшись, Ганнон хотел было идти, но землепашец поспешно тронул его за плечо.
— А мальчик? Почему ты не берёшь мальчика?
— Мне ничего не нужно от Тиннит, — ответил Ганнон. — Я уже принёс на её алтарь дар, самую дорогую жертву.
— Может быть, тебе нужен слуга?
— Мне не надобны слуги, — молвил нетерпеливо Ганнон. — К тому же я не кузнец и не горшечник, — добавил он, прочитав недоумение на лице землепашца. — Какому ремеслу я могу обучить твоего сына? Я ведь моряк.
Услышав слово «моряк», мальчик, всё время безучастно слушавший разговор отца с незнакомцем, встрепенулся.
— О господин, — взмолился он, — научи меня морскому делу! Возьми меня к себе!
Ганнон взглянул на святилище. В глазах его блеснул огонёк. «Не сами ли боги посылают мне этого мальчика?» — подумал он и положил руку на худенькое детское плечико:
— Ну что ж, Гискон, идём! Я сделаю из тебя моряка!
Таинственная табличка
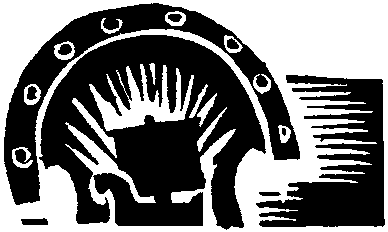
Ганнону понравился меч лидийской работы со слегка изогнутой рукояткой. А вот щит по своему вкусу он никак не может найти. Все щиты были деревянные.
— А нет ли у тебя какого-нибудь металлического щита? — обратился он к оружейнику, услужливо державшему перед, ним светильник.
— Есть один, — как-то нерешительно отозвался оружейник и, чуть помедлив, удалился в заднюю комнату, служившую ему жилищем.
Он вынес оттуда продолговатый щит, завёрнутый в кусок холста. В бронзу, позеленевшую от времени, были искусно вставлены кусочки серебра, золота и слоновой кости. Мозаика из металла! Ганнон подошёл к двери, поставил щит на ребро, так, что на его поверхность упали солнечные лучи, и его взору открылось море, покрытое мелкими чешуйками волн. Из воды поднимались две скалы. Между ними, в самой середине щита, проходил корабль. Его борт был выложен из маленьких кусочков серебра, а квадратный парус — из олова. На палубе можно было разглядеть крошечные фигурки моряков. На изогнутом, как лебединая шея, носу — женщина. Она вдвое больше человечков. Её длинные волосы развеваются на ветру. В обнажённых руках женщина держит двух змей. В верхней части щита, у самого обода, — золотой солнечный диск, наполовину затонувший в волнах.
— Откуда у тебя этот щит? — воскликнул в восхищении Ганнон.
— Мне оставил его в залог незнакомый эллинский моряк, — отвечал оружейник. — Это было года два назад. Он просил год не продавать щит. Обещал не только вернуть залог, но и дать столько серебра, сколько весит этот щит.
— Моряку нелегко держать своё слово, — заметил Ганнон. — На долю моряка выпадает столько опасностей! Против него и бури, и подводные камни, и морские чудовища.
— Да, — согласился оружейник. — Я тоже думаю, что этого эллина давно уже сожрали рыбы. Чего же лежать щиту? Купи его, если он тебе нравится.
Рассчитавшись с оружейником, Ганнон взял свои покупки и отправился домой. Повесив меч на стену над своей постелью, он позвал Гискона. Мальчик уже более недели жил в его доме.
— Вот тебе и занятие, — обратился к Гискону Ганнон, передавая щит. — Почистить его, чтобы блестел. Только смотри не поломай. Это древний щит и очень дорогой.
— Хорошо, господин! — радостно отозвался мальчик. Ему было приятно хоть чем-нибудь быть полезным Ганнону.
Ганнон прилёг и сразу же сомкнул глаза. Его разбудил крик:
— Господин! Господин!
Лицо мальчика выражало огорчение. Ганнон встревоженно поднял голову:
— Что случилось?
— Господин! — Мальчуган смотрел на него глазами, полными слёз. — Я не виноват. В задней стенке щита прогнила дощечка. Выпало вот это. — Гискон протянул белую пластинку.
Одна сторона этой костяной пластинки была гладкой, а на другой в две строки были нацарапаны какие-то значки. Под ними стояло по-гречески: «Атлантида». Эти знаки ни о чём не говорили Ганнону. Буквы ли это какого-то неизвестного письма или просто забавные рисунки? Ганнон разглядел человечков, животных и птиц. «А что означает слово «Атлантида»? Может быть, это женское имя или название какой-нибудь страны? Один Мидаклит может раскрыть смысл этого слова», — подумал Ганнон, накидывая на плечи плащ.
Мидаклит

Мидаклит — учитель Ганнона, и живёт он в Карфагене с того дня, как его родной город Милет был разрушен персами. [16]Он поселился в предместье, заселённом эллинскими купцами и ремесленниками. Бабушка Ганнона, родом из Мессаны, [17]хотела обучить внука языку своих отцов и пригласила Мидаклита к себе в дом. Гамилькар поддержал намерение своей матери. Ганнону запомнились его слова: «Эллины — наши враги и соперники. Ты должен знать язык врагов Карфагена». И Ганнон научился языку эллинов, как этого хотел отец. Более того: он полюбил этот красивый, звучный язык. После смерти бабушки Ганнон всё реже встречался с учителем, а с того времени, как вышел в море, не видел его ни разу.
В своём маленьком, наполовину вросшем в землю домике Мидаклит проводил время за египетскими, финикийскими, еврейскими свитками. Он не относился, подобно многим своим соотечественникам, презрительно ко всему неэллинскому. Он не называл египтян, карфагенян, евреев варварами. Мидаклит хорошо знал, что в то время, когда египтяне сооружали свои пирамиды и храмы, пользуясь законами геометрии, его собственные предки ещё были дикарями и, одетые в звериные шкуры, бродили по горам. Ему было известно, что задолго до Гомера жили вавилонские певцы, слагавшие гимны о богах и героях, и что ассирийцы умели определять солнечные затмения за четыреста лет до Фалеса, [18]а сидонянин Мох ещё до Троянской войны разработал учение об атомах. Он знал также и о том, что в то время как эллины верили сказкам, что Столбы Геракла — предел света, финикийцы вышли в океан. «Многому нужно поучиться у варваров», — любил повторять Мидаклит. Особенно понял он это здесь, в Карфагене.
— Над чем ты задумался, учитель? — послышалось вдруг.
Мидаклит обернулся.
— Это ты, Ганнон? — радостно воскликнул эллин, поднимаясь навстречу гостю. — Как я рад, что ты не забыл дорогу к моему дому!
— Я её найду и с закрытыми глазами, учитель, — улыбнулся Ганнон. — Это дорога моего детства, а тогда я был так счастлив!
— Я слышал о бедах, свалившихся на твои плечи. Пусть боги вдохнут в тебя мужество!
— Не будем об этом говорить. — Ганнон нахмурился. — Я принёс тебе одну вещь. Думаю, она тебя заинтересует. Вот! — и он протянул эллину табличку.
Мидаклит взял табличку, перевернул её, поднёс к глазам. Ганнон видел, как задрожали его руки, а кончики пальцев, державшие пластинку, побелели.
— Откуда она? — выдохнул эллин.
— Из этого щита. Выпала.
Эллин взял щит обеими руками, и на лице его появилось выражение восторга и удивления. Выставив вперёд правую руку, он стал читать нараспев:
— Твой любимый Гомер? — с улыбкой спросил Ганнон.
Щит из пяти сложил он листов, и на круге широком
Много чудесного бог, творец вдохновенный, представил.
Изобразил он и землю, и синее небо, и море,
Солнце в пути неистомное, полный серебряный месяц,
Все прекрасные звёзды, какими увенчано небо.
Он знал страстную любовь учителя к этому певцу и немного посмеивался над ней. Многое из того, что Ганнон слышал от Мидаклита о войнах и странствиях, описанных Гомером, казалось ему вымыслом, красивой сказкой, не более.
— Да, — отвечал эллин, — и щит, который ты мне принёс, может быть, столь же древен и знаменит, как доспехи, выкованные для Ахилла [19]и воспетые в «Илиаде». Только на этом щите изображены не сельские труды и не сечи, как на Ахилловом, а великий подвиг мореходов, впервые вышедших за Столбы Геракла.
— За Столбы Геракла? — воскликнул Ганнон. В голосе его прозвучало недоверие.
— За Столбы Геракла! — подтвердил эллин. — Или за Столбы Мелькарта, как называете их вы, карфагеняне. Видишь, сколь искусно древний художник изобразил две скалы, встающие из волн? Это и есть рубеж Внутреннего моря и Океана, обтекающего землю. Корабль плывёт на запад, дорогой солнца. Великое светило наполовину погружено в царство ночи.
— Но что это за люди? Чьё это судно? — опросил Ганнон, повернув щит к себе. — Смотри, как высока у него корма, а нос заканчивается раздвоенным тараном. Гребцов защищает верхняя палуба. А вот выступает руль, а не два кормовых весла, как у древних финикийских и египетских кораблей. Нет, это не финикийское судно! А между тем все знают, что мои предки первыми вышли в океан и основали на его берегах поселения в то время, когда твой Гомер помещал у Столбов великанов, держащих на спине небо, и рассказывал другие ещё более невероятные басни.
— Я плохо разбираюсь в кораблях, — сказал эллин. — Признаюсь тебе со стыдом, для меня они все похожи друг на друга. Но смотри, какой странный наряд у этой девы со змеями. Пеплос у неё до щиколоток, а груди обнажены. Это богиня. Но не финикийская. И не эллинская, — добавил он после некоторой паузы.
— Почему же ты думаешь, что это богиня?
— Видишь, она выше других людей. Змеи — это признак божественной власти. Наша богиня Афина часто изображается со змеями.
— На алтаре владычицы Тиннит тоже нарисованы змеи, — вспомнил Ганнон.
— Богиня указывает мореходам путь, — размышлял вслух эллин. — Но куда? Может быть, в Атлантиду? Ведь не случайно табличка с надписью спрятана в этом щите.
— Атлантида — это страна? — спросил Ганнон, присаживаясь на коврик. — Я ничего о ней не слышал. И ты мне о ней не рассказывал.
Эллин подошёл к столу и достал оттуда свиток, перевязанный синей тесьмой.
— Этот свиток, — начал Мидаклит, садясь рядом с Ганноном, — недавно попал в мои руки. Его написал греческий мудрец Солон.
— Не тот ли это Солон, который дал афинянам законы, а после отправился в добровольное изгнание?
— Да, это он, — подтвердил эллин. — У тебя хорошая память… Солон, — продолжал Мидаклит, — много путешествовал и однажды побывал в самой древней стране мира, в Египте. От жрецов прославленного храма богини Нэйт в Саисе Солон [20]узнал о существовании большого острова, расположенного к западу от Столбов Геракла, и записал всё, что ему рассказали египтяне. Остров этот, или, вернее, материк, был заселён мудрым и деятельным народом — атлантами. Ими управляли цари. Атланты, как и древние египтяне, перерезали свою страну каналами, и она расцвела, как весенний цветок. Они возвели прекрасные дворцы и храмы богу моря. На своих судах они совершали далёкие плавания. Не было на земле народа богаче и счастливее атлантов. Но однажды послышался страшный подземный гул. Земля под ногами атлантов разверзлась. Хлынули волны, и Атлантида исчезла в пучине океана.
— У наших жрецов, — заметил Ганнон, — ты услышишь и не такие басни. Где это видано, чтобы целый материк исчез под водой! Должно же было что-нибудь от него остаться. И почему об Атлантиде ничего не знают в Карфагене?
— По словам Солона, — возразил Мидаклит, — катастрофа произошла десять тысяч лет назад. Тогда не было ни Карфагена, ни его отца — древнего Тира. [21]Поэтому твой народ и не слышал об Атлантиде. Египтяне же древнее вас. Остатки Атлантиды надо искать за Столбами.
— Что ж, давай их поищем с тобой?
— Ты смеёшься над своим старым учителем! Думаешь, я не знаю, что эллинам под страхом смерти запрещено выходить за Столбы? Ведь закон этот принят по настоянию твоего родителя, да будут к нему милостивы подземные боги.
— Я не смеюсь над тобой. — Ганнон взял эллина за руку. — Закон грозит смертью эллинским купцам, а не тебе. Я не смеюсь, учитель! Ты знаешь, что я задумал? Мы обоснуем на землях Ливии колонии, а после этого на нескольких кораблях выйдем в океан. Мы должны узнать, можно ли обогнуть Ливию. Мы поищем твою Атлантиду! Поедешь со мной?
Вместо ответа Мидаклит заключил Ганнона в объятия.
В Совете Тридцати

У узкой стороны стола — два сиденья со спинками из слоновой кости. На одном из них восседает Миркан. В одежде суффета он кажется ещё более тучным. Место другого суффета пустует: новый суффет, вместо погибшего Гамилькара, ещё не избран. Выборы должны состояться через несколько дней.
Распахнулись двери из жёлтого кедра. На пороге появился Ганнон. Приветствуя советников почтительным поклоном, он произносит:
— Да снизойдут на вас милость и благословение богов!
— Что тебе нужно от Совета? — спрашивает Миркан, не поворачивая головы.
— О мудрейшие из мудрых! — ещё раз поклонившись, начинает Ганнон. — В Сицилии мне пришлось пережить горький день Гимеры. На родине я узнал страдания народа нашего. Знойный ветер иссушил поля. Люди насытились горем и напились слезами, как вином. Город не может помочь своим сыновьям. У нас нет хлеба. У нас нет серебра и золота, чтобы купить хлеб. Но за Столбами лежат благодатные земли. Там хватит места для всех, и там много золота. Если вы мне дадите корабли, я доставлю людей в эти земли. Я привезу золото, столько золота, что можно будет иметь тысячи наёмников и построить новый флот. Мы заставим эллинов убраться из Сицилии. Наши порты будут открыты только для друзей. Мы погасим многолетний долг отцу нашего города — Тиру. Я знаю, вас страшит риск. Но попадёт ли птица в петлю, когда силок не натянут? Вздуются ли паруса, если нет ветра? Заполнятся ли сокровищницы, если мы будем сидеть сложа руки?
Наступило долгое молчание. Раби ждали, что скажет суффет, а Миркан не мог никак собраться с мыслями. Как ответить этому мальчишке, едва не ставшему его зятем? Мысль об основании новых колоний очень притягательна. Стоит её высказать — и народ пойдёт за Ганионом, как стадо баранов за вожаком, и снова род Магонидов, к которому принадлежит Ганнон, возвысится, и тогда сыну Миркана Шеломбалу не видать кресла суффета, как собственных ушей. Надо уговорить Ганнона, надо убедить его отказаться от своего замысла.
— Отцы раби! — начал Миркан. — Вы выслушали Ганнона. Я его знаю больше, чем вы, и поэтому утверждаю, что он храбрый юноша. Сердце его обращено к добру, но он ещё молод и горяч. Ганнон призывает вывезти людей за Столбы сейчас, когда враги осмелели. Сегодня мы отправим корабли к Столбам, а завтра эллины подступят к стенам нашего обезлюдевшего города, и ливийцы сразу же придут им на помощь. Ганнон обещает нам привезти золото. Да, нам нужно золото, много золота. Но можем ли мы ради него рисковать кораблями? Вспомните, что говорит мореход Гимилькон о плавании за Столбы. Вспомни и ты, Ганнон! Ведь это пишет твой дядя. И, может быть, ты поверишь ему больше, чем мне. «Сердце содрогается, когда слышишь о стране безветрия и безмолвия, о кораблях, занесённых в ил или в заросли морских растений, о туманах, о горах изо льда, выступающих из моря». Ганнон! Откажись от своей безумной затеи! Отправляйся в Сицилию. Мы дадим тебе наёмников. Отомсти за смерть своего отца, удостоенного высшего в республике почёта.
Вслед за Мирканом заговорил купец Габибаал. Ганнон немало слышал о его несметных богатствах, нажитых торговлей с Гадесом. [23]
— Отцы! — промолвил купец. — Я позволю себе показать вам эту лампу. — Он поднял над головой простой глиняный светильник с двумя клювами. — Если вы заглянете внутрь этого светильника, то увидите на дне его осадок. Такой осадок есть и в нашем городе. Это чернь, источник вечных волнений и беспокойств. Суффет Миркан советует оставить этот осадок, но всякий знает, что от этого лампа будет чадить. Надо вычерпать чернь со дна нашего славного города. Пусть едет себе на край света! Поможем ей в этом. Избавившись от черни, город и все благонамеренные люди только выиграют.
Последние слова купца потонули в шуме неодобрительных голосов.
Ганнон вышел на площадь и окинул взглядом раскинувшийся перед ним город. Карфаген поднимал вверх головы своих храмов и выпячивал каменную грудь стен и башен. Казалось, он говорил: «Смотри, путник, как я богат, как великолепны мои дома, сколько кораблей в моих гаванях, сколько оружия в арсеналах! Есть ли на берегах Внутреннего моря другой город, который может со мной сравниться?» Но эта внешняя роскошь могла обмануть разве лишь чужеземца. Ганнон знал, что за этими высокими домами прячутся лачуги, жалкие жилища бедняков. У обитателей этих лачуг нет даже масла для светильников, и они живут, как кроты, в темноте. У оград храмов продают детей для кровавых жертв. Габибаал называет бедняков чернью. Он предлагает вычерпать чернь со дна Карфагена, как нечистоты. Но разве не сам Габибаал и те, кто с ним, виноваты в нищете народа? Это ведь не какие-нибудь рабы, а свободные карфагеняне. С ними не считаются. Говорят от их имени, словно у них нет голоса.
Совет Тридцати не поддержал Ганнона. Но неудача не сломит его. Он пойдёт к кузнецам и валяльщикам, пекарям и горшечникам, он отправится к землепашцам, стонущим от податей и налогов. Они должны его понять! Они помогут ему!
На площади собраний

У самого помоста кучкой стоят отцы города. Тучный человек в красном колпаке, косясь на толпу, говорит Миркану:
— Зачем сюда позвали этих людей? Горшечники вертят ногами свой деревянный круг, и мысли их вращаются вокруг сосуда. Разве они могут быть мудрыми? Дым иссушает тела кузнецов, жар изнуряет их головы, удары молота оглушают их. Как может стать мудрым тот, кто правит плугом и погоняет волов? Он разговаривает со своими волами и смыслит в управлении государством не больше, чем они.
— Ты прав, — отвечает Миркан. — Но, клянусь Тиннит, никто не звал сюда этих людей. Они пришли сами. И я не помню, чтобы на площади Собраний было когда-нибудь столько народа.
В толпе шныряют какие-то юркие, надоедливые люди. Они нашёптывают землепашцам и ремесленникам: «Не голосуйте за беглеца!..»
Но их никто не слушает. Имя Ганнона у всех на устах. Ему готовы простить и то, что он принадлежит к этому заносчивому роду Магонидов, и даже то, что он был под Гимерой, которая наложила на всех моряков Карфагена чёрное пятно.
Ганнон обещал народу, что, если его изберут суффетом, он снарядит корабли за Столбы Мелькарта и доставит всех, кто только пожелает, в благодатные края. Там не дуют жаркие, иссушающие ветры. По ночам не крадутся к загонам львы. По каменистым склонам там вьётся виноград, и его завязям не угрожают прожорливые черви. В тенистых лесах живут непуганые звери, и янтарный мёд стекает из дупел. С горных высот бегут говорливые струи. Там не надо платить за воду, там нет изгородей и запруд. Взрыхляй тучную почву, бросай в неё зёрна и радуйся щедрости земли!
Говорил ли им об этом Ганнон? Нет. Он просто обещал повезти их за Столбы Мелькарта. Рассказы о благодатных землях передавались из уст в уста, обрастая новыми яркими подробностями. Тот, кто вчера рассказывал о них соседу, сегодня выслушивал от него свой же собственный рассказ и не узнавал его.
Но вот на помост поднялись глашатаи. Призывно загудели рога. Заколыхалось море голов. Люди устремились к мосткам. Проходя по ним, они бросали камешки в стоявшие внизу пифосы.
Пифосы стояли по обе стороны мостков, но те, что слева, были полны камешками до краёв, а в тех, что справа, проглядывало дно.
Отцы города ещё теснее прижались к помосту, потрясённые и напуганные невиданным проявлением воли народа. Им было ясно, что Ганнона изберут суффетом. И тогда ему без труда удастся провести через народное собрание любой закон. Это они понимали. И это внушало им страх.
Внезапно раздался крик:
— Ганнон!
Звук, наподобие громового раската, прокатился по площади Собраний, прокатился, подхваченный тысячами голосов, на всех шести улицах, выходящих на эту площадь, и замер у стен Бирсы. [24]Люди рукоплескали, что-то кричали. Они радовались победе своей мечты.
«Серебряный якорь»
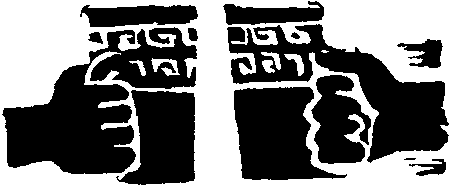
В таверне «Серебряный якорь» часто можно увидеть Ганнона и Малха в окружении моряков или купцов. Вот и сейчас оба потягивают вино из толстых кружек. Напротив них сидит человек лет тридцати. Лицо его кажется безобразным, так как от уха до носа оно изуродовано шрамом. Но если присмотреться внимательнее, у него правильные черты лица, живые и ясные глаза. Тёмно-каштановые волосы образовывают на голове шапку, едва тронутую у висков сединой. Огромные, как глиняные гири, кулаки лежат на столе.
— Ну, а дальше? — спрашивает нетерпеливо Малх, отставляя пустую кружку.
— Потом пираты меня продали тирянам, — продолжает свой рассказ незнакомец. — Они заставили меня спускаться на дно за раковинами-багрянками. Из них выделывается вот эта драгоценная краска. — И человек бережно касается края плаща Ганнона, окрашенного в пурпур. — Мои товарищи утверждали, что легче быть каменотёсом, мельником, чем ныряльщиком. Но у нас было одно преимущество: нас не держали в оковах. Я не думаю, что хозяин пожалел бы для нас железа. Палок ведь ему не было жалко. Просто он понимал, что под водой нужны свободные руки. Однажды я воспользовался этим и уплыл в море. Меня подобрал эллинский корабль. Кормчий продал меня купцам, промышлявшим добычей губок. Год я вылавливал эти губки. Эллины верят, что губки, повешенные у постели больного, приносят ему исцеление. Я спал на этих губках, но, заболев однажды, чуть не умер. Меня отходила добрая рабыня. Да будут к ней милостивы подземные боги! Хозяин засёк её до смерти. В год, когда на Элладу напал персидский царь Ксеркс, [26]мне удалось бежать. Эллинам было не до рабов. И вот я здесь. Иной раз поможешь нагрузить корабль. Кому сейчас нужны ныряльщики! — Незнакомец вздохнул, видимо думая о Гимере, где был уничтожен флот Карфагена. — Возьми меня, Ганнон! — взмолился он. — Я могу продержаться под водой столько времени, сколько понадобится, чтобы заделать пробоины на днище. Я могу срезать незаметно якоря вражеских кораблей. И с парусами справляюсь неплохо.
