Лена переоделась в старое пальтишко, обула валенки и повязала голову платком. Она выглядела теперь деревенской девочкой с большими синими глазами и прямым носиком.
– Пошли за дровами, – сказала она Игорю.
– Мы принесем! – закричали мальчики. – Покажите где.
Всей гурьбой вышли во двор. Лена отперла сарай. Миша и Генка начали колоть дрова. Слава и Игорь носили их в дом. Лена, позвякивая ведрами, ушла за водой.
Генка вошел в азарт.
– Мы их все переколем, – бормотал он, замахиваясь топором. – Зачем вам каждый раз возиться…
Полено никак не поддавалось.
– Брось ты его, – сказал Миша, – возьми другое.
– Нет, – Генка раскраснелся, буденовка его сдвинулась на самую макушку, – полено упрямое, но и я тоже…
Вскоре обе печи в доме запылали ярким пламенем. Ребята уселись вокруг печи в маленькой кухне: Лена и Слава на стульях, а остальные – на полу.
– Вот так и живем, как видите, – сказала Лена. – Приезжаем сюда только в свободные дни, когда не выступаем.
– Нужно переехать в Москву, – пробасил Игорь.
– А мне жалко, – сказала Лена, – здесь папа и мама жили…
Пламя в трубе протяжно завывало, огненные пятна заплясали на полу.
– Мы здесь всю неделю будем, – сказала Лена. – Приезжайте к нам в гости.
– Не знаю, – сказал Миша, – на этой неделе мы будем очень заняты. Завтра на сборе отряда решается вопрос о передаче в комсомол. Если нас передадут, то нужно пройти бюро ячейки, ячейку, райком.
– Вы уже комсомольцами будете? – удивилась Лена.
– Да. – Миша помолчал, потом спросил: – Скажи, у вас есть чердак?
– Есть.
– Из него виден двор Терентьевых?
– Виден. Зачем тебе?
– Хочу посмотреть.
– Пойдем, покажу.
Миша и Лена вышли в холодные сени и по крутой лестнице поднялись на чердак.
– Дай руку, – сказала Лена, – а то упадешь.
Они перелезли через стропила и подошли к слуховому окну.
Поселок лежал большими квадратами кварталов; за ним темнел лес, разрезанный надвое дальней железнодорожной колеей.
От домов, сараев, заборов повсюду чернели на снегу длинные тени. Телеграфные провода струились от столба к столбу, фарфоровые ролики комочками ютились на перекладинах. Было светло почти как днем.
Лена стояла рядом с Мишей. Лицо ее, освещенное луной, казалось совсем прозрачным, только чернели на нем тонкие брови и длинные, загнутые вверх ресницы. Она держала Мишу за руку, и оба они молчали… Миша посмотрел на соседний терентьевский двор. Он был большой и пустой. Вдоль забора тянулись постройки и лежали сваленные бревна.
Завыл где-то гудок паровоза и сразу оборвался.
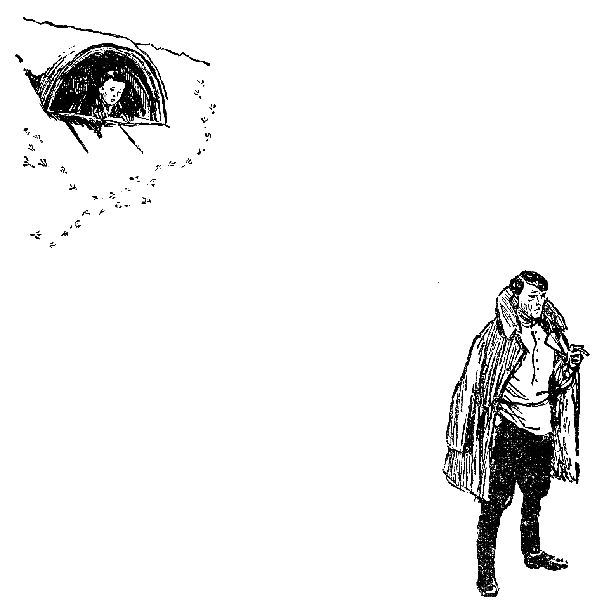 Миша смотрел на терентьевский двор и вдруг увидел, что дверь дома открылась. На заднее крыльцо вышел высокий человек в накинутом на плечи полушубке. Он стоял спиной к Мише и курил. Потом он бросил окурок в снег и медленно повернулся. Миша изо всех сил сжал руку Лены.
Миша смотрел на терентьевский двор и вдруг увидел, что дверь дома открылась. На заднее крыльцо вышел высокий человек в накинутом на плечи полушубке. Он стоял спиной к Мише и курил. Потом он бросил окурок в снег и медленно повернулся. Миша изо всех сил сжал руку Лены.
Это был Никитский…
Глава 70
Глава 71
Глава 72
Глава 73
Глава 74
– Пошли за дровами, – сказала она Игорю.
– Мы принесем! – закричали мальчики. – Покажите где.
Всей гурьбой вышли во двор. Лена отперла сарай. Миша и Генка начали колоть дрова. Слава и Игорь носили их в дом. Лена, позвякивая ведрами, ушла за водой.
Генка вошел в азарт.
– Мы их все переколем, – бормотал он, замахиваясь топором. – Зачем вам каждый раз возиться…
Полено никак не поддавалось.
– Брось ты его, – сказал Миша, – возьми другое.
– Нет, – Генка раскраснелся, буденовка его сдвинулась на самую макушку, – полено упрямое, но и я тоже…
Вскоре обе печи в доме запылали ярким пламенем. Ребята уселись вокруг печи в маленькой кухне: Лена и Слава на стульях, а остальные – на полу.
– Вот так и живем, как видите, – сказала Лена. – Приезжаем сюда только в свободные дни, когда не выступаем.
– Нужно переехать в Москву, – пробасил Игорь.
– А мне жалко, – сказала Лена, – здесь папа и мама жили…
Пламя в трубе протяжно завывало, огненные пятна заплясали на полу.
– Мы здесь всю неделю будем, – сказала Лена. – Приезжайте к нам в гости.
– Не знаю, – сказал Миша, – на этой неделе мы будем очень заняты. Завтра на сборе отряда решается вопрос о передаче в комсомол. Если нас передадут, то нужно пройти бюро ячейки, ячейку, райком.
– Вы уже комсомольцами будете? – удивилась Лена.
– Да. – Миша помолчал, потом спросил: – Скажи, у вас есть чердак?
– Есть.
– Из него виден двор Терентьевых?
– Виден. Зачем тебе?
– Хочу посмотреть.
– Пойдем, покажу.
Миша и Лена вышли в холодные сени и по крутой лестнице поднялись на чердак.
– Дай руку, – сказала Лена, – а то упадешь.
Они перелезли через стропила и подошли к слуховому окну.
Поселок лежал большими квадратами кварталов; за ним темнел лес, разрезанный надвое дальней железнодорожной колеей.
От домов, сараев, заборов повсюду чернели на снегу длинные тени. Телеграфные провода струились от столба к столбу, фарфоровые ролики комочками ютились на перекладинах. Было светло почти как днем.
Лена стояла рядом с Мишей. Лицо ее, освещенное луной, казалось совсем прозрачным, только чернели на нем тонкие брови и длинные, загнутые вверх ресницы. Она держала Мишу за руку, и оба они молчали… Миша посмотрел на соседний терентьевский двор. Он был большой и пустой. Вдоль забора тянулись постройки и лежали сваленные бревна.
Завыл где-то гудок паровоза и сразу оборвался.
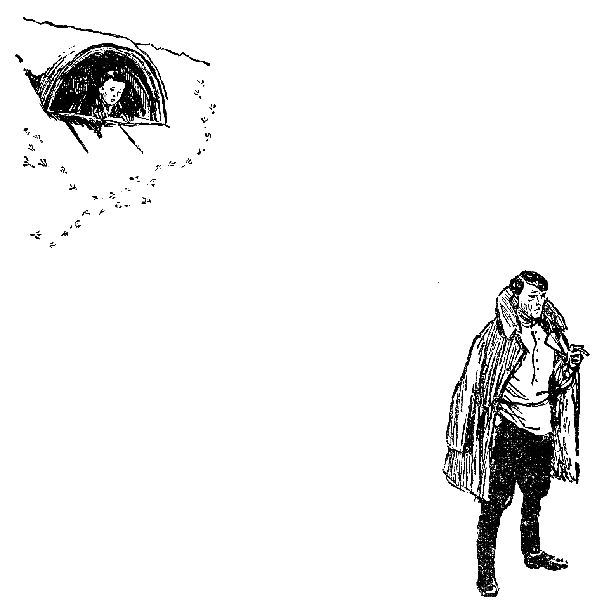
Это был Никитский…
Глава 70
Отец
Домой ребята вернулись поздно вечером.
Мама сидела за столом и читала книгу. Она обернулась к Мише и молча укоризненно покачала головой.
– Понимаешь, мама, – быстро заговорил Миша, – встретили в Пушкине знакомых, вот и задержались. Я там и поужинал, так что ты не беспокойся. – Он заглянул через ее плечо в книгу. – Ты что читаешь? А… «Анна Каренина»…
Она почувствовала в его голосе равнодушие и спросила:
– Тебе не нравится?
– Не особенно. Я больше «Войну и мир» люблю. – Миша сел на кровать и начал раздеваться.
– Почему?
– Почему? В «Войне и мире» герои все серьезные: Болконский, Безухов, Ростов… А здесь не поймешь, что это за люди. Стива этот – бездельник какой-то. Ему сорок лет, а он из себя все деточку строит.
– Не все герои легкомысленны, – возразила мама. – Например, Левин.
– Да, Левин, конечно, посерьезней. Да и то его ничего, кроме своего хозяйства, не интересует.
– Видишь ли, – мама медленно подбирала слова, – это были люди своего времени, своего общества…
– Я понимаю. – Миша уже лежал под одеялом, заложив руки под голову. – Это великосветское общество. Но и в «Войне и мире» тоже рисуется великосветское общество. А посмотри, какая разница. Там люди имеют какие-то цели, стремления, сознают свой долг перед обществом, а здесь не поймешь, для чего живут эти люди – например, Вронский, Стива. Вот скажи: ведь человек должен иметь какую-то цель в жизни?
– Конечно, должен, – сказала мама, – но, по-моему, каждый из героев «Анны Карениной» имеет цель. Правда, эти цели сугубо личные: например, личное счастье, жизнь с любимым человеком. Маленькие цели, но всё же цели.
Миша поднялся на локте:
– Какая же это цель, мама! Если так рассуждать, то каждый человек имеет цель. Выходит, у алкоголика тоже есть цель: каждый день пьянствовать. И у нэпмана: деньги копить. Я вовсе не о такой цели говорю.
– А о какой же?
– Ну, как бы тебе сказать… Цель должна быть возвышенной, понимаешь? Благородной.
– Всё же?
– Ну, например, мы вот на днях разговаривали с Константином Алексеевичем. Он сам рассказывал. Раньше он служил только из-за денег. Где больше платят, там и служит. Значит, у него цель не возвышенная. А если он сейчас работает круглые сутки и хочет восстановить фабрику, чтобы у нас в стране было много товаров, – значит, у него цель благородная. Может быть, я привел неудачный пример, но я так понимаю.
– Чем же он виноват? Ведь раньше он не мог ставить себе такой цели. Он работал у капиталиста, и, конечно, ничто, кроме жалованья, его не интересовало.
– Значит, он не должен был работать, – решительно ответил Миша. – Ведь папа не работал на капиталистов.
– Не совсем так, – мама качнула головою, – папе приходилось работать и у капиталистов.
– Это совсем другое дело. Он работал, чтобы заработать на существование. Но ведь не это было главным в его жизни. Ведь он был революционер. И отдал жизнь за революцию. Значит, у него была в жизни самая возвышенная, самая благородная цель.
Они помолчали.
– Знаешь, мама, – сказал Миша, – я себе очень хорошо представляю папу. Мне вот кажется, что он никогда ничего не боялся.
– Да, – сказала мама, – он был очень смелый человек.
– И потом, – продолжал Миша, – мне кажется, что он никогда не думал о себе, о своем благополучии, и самое высшее для него были интересы партии.
Они замолчали. Миша знал, что маме тяжело вспоминать об отце, и он больше не задавал ей вопросов.
Потом мама закрыла книгу, потушила свет и тоже легла в постель, а Миша еще долго лежал с открытыми глазами, всматриваясь в лунные блики, скользившие по комнате.
Разговор с матерью взволновал его. Может быть, только сейчас, когда они говорили о цели в жизни, он впервые отчетливо почувствовал, что детство кончается и он вступает в жизнь.
И, думая о своем будущем, он не хотел никакой другой жизни, кроме такой, какую прожил отец и такие люди, как отец, – люди, отдавшие свою жизнь великому делу революции…
Мама сидела за столом и читала книгу. Она обернулась к Мише и молча укоризненно покачала головой.
– Понимаешь, мама, – быстро заговорил Миша, – встретили в Пушкине знакомых, вот и задержались. Я там и поужинал, так что ты не беспокойся. – Он заглянул через ее плечо в книгу. – Ты что читаешь? А… «Анна Каренина»…
Она почувствовала в его голосе равнодушие и спросила:
– Тебе не нравится?
– Не особенно. Я больше «Войну и мир» люблю. – Миша сел на кровать и начал раздеваться.
– Почему?
– Почему? В «Войне и мире» герои все серьезные: Болконский, Безухов, Ростов… А здесь не поймешь, что это за люди. Стива этот – бездельник какой-то. Ему сорок лет, а он из себя все деточку строит.
– Не все герои легкомысленны, – возразила мама. – Например, Левин.
– Да, Левин, конечно, посерьезней. Да и то его ничего, кроме своего хозяйства, не интересует.
– Видишь ли, – мама медленно подбирала слова, – это были люди своего времени, своего общества…
– Я понимаю. – Миша уже лежал под одеялом, заложив руки под голову. – Это великосветское общество. Но и в «Войне и мире» тоже рисуется великосветское общество. А посмотри, какая разница. Там люди имеют какие-то цели, стремления, сознают свой долг перед обществом, а здесь не поймешь, для чего живут эти люди – например, Вронский, Стива. Вот скажи: ведь человек должен иметь какую-то цель в жизни?
– Конечно, должен, – сказала мама, – но, по-моему, каждый из героев «Анны Карениной» имеет цель. Правда, эти цели сугубо личные: например, личное счастье, жизнь с любимым человеком. Маленькие цели, но всё же цели.
Миша поднялся на локте:
– Какая же это цель, мама! Если так рассуждать, то каждый человек имеет цель. Выходит, у алкоголика тоже есть цель: каждый день пьянствовать. И у нэпмана: деньги копить. Я вовсе не о такой цели говорю.
– А о какой же?
– Ну, как бы тебе сказать… Цель должна быть возвышенной, понимаешь? Благородной.
– Всё же?
– Ну, например, мы вот на днях разговаривали с Константином Алексеевичем. Он сам рассказывал. Раньше он служил только из-за денег. Где больше платят, там и служит. Значит, у него цель не возвышенная. А если он сейчас работает круглые сутки и хочет восстановить фабрику, чтобы у нас в стране было много товаров, – значит, у него цель благородная. Может быть, я привел неудачный пример, но я так понимаю.
– Чем же он виноват? Ведь раньше он не мог ставить себе такой цели. Он работал у капиталиста, и, конечно, ничто, кроме жалованья, его не интересовало.
– Значит, он не должен был работать, – решительно ответил Миша. – Ведь папа не работал на капиталистов.
– Не совсем так, – мама качнула головою, – папе приходилось работать и у капиталистов.
– Это совсем другое дело. Он работал, чтобы заработать на существование. Но ведь не это было главным в его жизни. Ведь он был революционер. И отдал жизнь за революцию. Значит, у него была в жизни самая возвышенная, самая благородная цель.
Они помолчали.
– Знаешь, мама, – сказал Миша, – я себе очень хорошо представляю папу. Мне вот кажется, что он никогда ничего не боялся.
– Да, – сказала мама, – он был очень смелый человек.
– И потом, – продолжал Миша, – мне кажется, что он никогда не думал о себе, о своем благополучии, и самое высшее для него были интересы партии.
Они замолчали. Миша знал, что маме тяжело вспоминать об отце, и он больше не задавал ей вопросов.
Потом мама закрыла книгу, потушила свет и тоже легла в постель, а Миша еще долго лежал с открытыми глазами, всматриваясь в лунные блики, скользившие по комнате.
Разговор с матерью взволновал его. Может быть, только сейчас, когда они говорили о цели в жизни, он впервые отчетливо почувствовал, что детство кончается и он вступает в жизнь.
И, думая о своем будущем, он не хотел никакой другой жизни, кроме такой, какую прожил отец и такие люди, как отец, – люди, отдавшие свою жизнь великому делу революции…
Глава 71
Генкина ошибка
О том, что он видел Никитского, Миша рассказал товарищу Свиридову. Свиридов велел ребятам ждать и в Пушкино больше не ездить.
Впрочем, другие заботы владели теперь нашими друзьями. Совет отряда постановил передать в комсомол группу пионеров, в их числе Мишу, Генку, Славу, Шуру Огуреева и Зину Круглову. Ячейка РКСМ уже их приняла, и они готовились к приемной комиссии райкома.
Миша очень волновался. Ему никак не верилось, что он станет комсомольцем. Неужели исполнится его самая сокровенная мечта? Он с тайной завистью поглядывал на комсомольцев, заполнявших коридоры и комнаты райкома. Какие веселые, непринужденные ребята! Интересно, что они испытывали, когда проходили приемную комиссию? Тоже, наверно, волновались. Но для них все это позади, а он, Миша, робко стоит перед большой, увешанной объявлениями дверью. За этой дверью заседает комиссия, и там скоро решится его судьба.
Первым вызвали Генку.
– Ну что? – кинулись к нему ребята, когда он вышел из комнаты.
– Все в порядке! – Генка молодецки сдвинул свою буденовку набок. – Ответил на все вопросы.
Он перечислил заданные ему вопросы, в том числе: какой кандидатский стаж положен для учащихся.
– Я ответил, что шесть месяцев, – сказал Генка.
– Вот и неправильно, – сказал Миша. – Год.
– Нет, шесть месяцев! – настаивал Генка. – Я так ответил, и председатель сказал, что правильно.
– Как же так, – недоумевал Миша, – я сам читал устав.
Вызвали Мишу. Он вошел в большую комнату. За одним из столов заседала комиссия. Сбоку стола сидел Коля Севостьянов. Миша робко сел на стул и с волнением ждал вопросов.
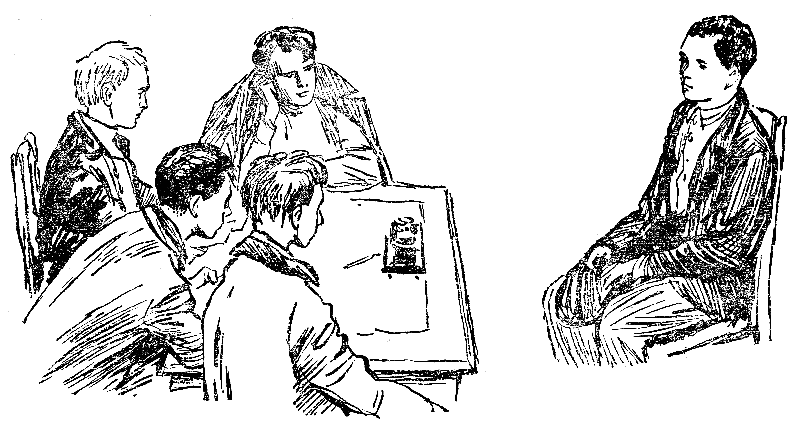 Председатель, молоденький белобрысый паренек в косоворотке и кожаной куртке, торопливо прочел Мишину анкету, поминутно вставляя слово «так»: «Поляков – так, Михаил Григорьевич – так, учащийся – так…»
Председатель, молоденький белобрысый паренек в косоворотке и кожаной куртке, торопливо прочел Мишину анкету, поминутно вставляя слово «так»: «Поляков – так, Михаил Григорьевич – так, учащийся – так…»
– Это наш актив, – улыбнулся Коля Севостьянов, – вожатый звена и член учкома.
– Ты своих не хвали, – отрезал председатель, – сами разберемся.
Миша ответил на все вопросы. Последним был вопрос о кандидатском стаже. Миша знал, что год, но Генка… И он нерешительно сказал:
– Шесть месяцев…
– Неправильно, – сказал председатель. – год. Ладно, иди…
Из райкома ребята поспешили к Свиридову, вызвавшему их на десять часов утра, и всю дорогу Миша и Слава ругали Генку. Слава тоже неправильно ответил.
– Теперь начинай все сначала, – говорил Миша. – Всех примут, а нас нет. Позор на всю школу!
– Зато у него большие успехи по конькам! – сказал Слава. – Целые дни на катке пропадает, даже газеты в руки не берет.
Подавленный всем случившимся, Генка молчал и только яростно дышал на замерзшее стекло трамвая. Однако молчание ему не помогало. Друзья продолжали его ругать и, самое обидное, говорили о нем в третьем лице, даже не обращались к нему.
– У нас все в порядке, – передразнил Миша Генку, – знай наших! Мы сами с усами, лаптем щи хлебаем.
– Шапками закидаем, – добавил Слава.
– Он все о кладе мечтает, – не унимался Миша, – все клад и клад. Какой кладовщик нашелся!..
– Он в миллионеры метит, – добавил Слава, но более мягко. Ему, видно, стало жаль удрученного Генку.
Они доехали до большого здания, где внизу их ожидал пропуск в комнату № 203, к товарищу Свиридову.
– Что же вы, друзья, опаздываете? – строго спросил Свиридов, когда они явились к нему.
– В райкоме задержались, на приемной комиссии, – ответил Миша.
– Ого! – Свиридов поднял брови. – Поздравляю молодых комсомольцев.
Мальчики сокрушенно вздохнули.
– Что вы? – спросил Свиридов и внимательно посмотрел на них. – Что случилось?
– Провалились, – глядя в сторону, сказал Миша.
– Провалились? – удивился Свиридов. – На чем?
– На вопросе о кандидатском стаже.
– Это я виноват, – угрюмо произнес Генка.
– А на остальные вопросы как вы ответили?
– Как будто правильно.
– Что ж вы горюете? – рассмеялся Свиридов. – Из-за одного неправильного ответа вам не откажут. Кто хочет и достоин быть комсомольцем, тот им будет. Так что не огорчайтесь… А теперь, ребята, приступим к делу. Слушайте меня внимательно. Никитский упорно именует себя Сергеем Ивановичем Никольским. При этом он ссылается на ряд свидетелей, в том числе и на Филина. – Свиридов усмехнулся. – Хотя после пропажи ножен они все передрались: Филин сваливает на филателиста, филателист – на Филина. Между прочим, – он внимательно посмотрел на ребят, – свой склад они заблаговременно ликвидировали: видимо, их кто-то спугнул.
Мальчики покраснели и молча уставились в пол.
– Да, – едва заметно улыбнувшись, повторил Свиридов, – кто-то их спугнул. А сейчас будет очная ставка между каждым из вас и Никитским. Вы должны рассказать все, что знаете. На все вопросы отвечайте честно, так, как оно есть на самом деле, ничего не выдумывая. Теперь идите в соседнюю комнату и ждите. Когда надо будет, вас вызовут. Да, еще… – Свиридов вынул из ящика кортик и протянул его Мише: – Когда я спрошу, из-за чего Никитский убил Терентьева, то ты, Поляков, предъявишь кортик.
Впрочем, другие заботы владели теперь нашими друзьями. Совет отряда постановил передать в комсомол группу пионеров, в их числе Мишу, Генку, Славу, Шуру Огуреева и Зину Круглову. Ячейка РКСМ уже их приняла, и они готовились к приемной комиссии райкома.
Миша очень волновался. Ему никак не верилось, что он станет комсомольцем. Неужели исполнится его самая сокровенная мечта? Он с тайной завистью поглядывал на комсомольцев, заполнявших коридоры и комнаты райкома. Какие веселые, непринужденные ребята! Интересно, что они испытывали, когда проходили приемную комиссию? Тоже, наверно, волновались. Но для них все это позади, а он, Миша, робко стоит перед большой, увешанной объявлениями дверью. За этой дверью заседает комиссия, и там скоро решится его судьба.
Первым вызвали Генку.
– Ну что? – кинулись к нему ребята, когда он вышел из комнаты.
– Все в порядке! – Генка молодецки сдвинул свою буденовку набок. – Ответил на все вопросы.
Он перечислил заданные ему вопросы, в том числе: какой кандидатский стаж положен для учащихся.
– Я ответил, что шесть месяцев, – сказал Генка.
– Вот и неправильно, – сказал Миша. – Год.
– Нет, шесть месяцев! – настаивал Генка. – Я так ответил, и председатель сказал, что правильно.
– Как же так, – недоумевал Миша, – я сам читал устав.
Вызвали Мишу. Он вошел в большую комнату. За одним из столов заседала комиссия. Сбоку стола сидел Коля Севостьянов. Миша робко сел на стул и с волнением ждал вопросов.
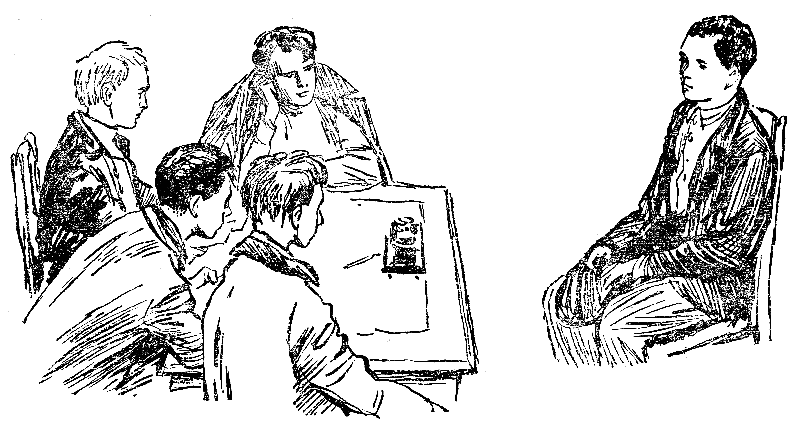
– Это наш актив, – улыбнулся Коля Севостьянов, – вожатый звена и член учкома.
– Ты своих не хвали, – отрезал председатель, – сами разберемся.
Миша ответил на все вопросы. Последним был вопрос о кандидатском стаже. Миша знал, что год, но Генка… И он нерешительно сказал:
– Шесть месяцев…
– Неправильно, – сказал председатель. – год. Ладно, иди…
Из райкома ребята поспешили к Свиридову, вызвавшему их на десять часов утра, и всю дорогу Миша и Слава ругали Генку. Слава тоже неправильно ответил.
– Теперь начинай все сначала, – говорил Миша. – Всех примут, а нас нет. Позор на всю школу!
– Зато у него большие успехи по конькам! – сказал Слава. – Целые дни на катке пропадает, даже газеты в руки не берет.
Подавленный всем случившимся, Генка молчал и только яростно дышал на замерзшее стекло трамвая. Однако молчание ему не помогало. Друзья продолжали его ругать и, самое обидное, говорили о нем в третьем лице, даже не обращались к нему.
– У нас все в порядке, – передразнил Миша Генку, – знай наших! Мы сами с усами, лаптем щи хлебаем.
– Шапками закидаем, – добавил Слава.
– Он все о кладе мечтает, – не унимался Миша, – все клад и клад. Какой кладовщик нашелся!..
– Он в миллионеры метит, – добавил Слава, но более мягко. Ему, видно, стало жаль удрученного Генку.
Они доехали до большого здания, где внизу их ожидал пропуск в комнату № 203, к товарищу Свиридову.
– Что же вы, друзья, опаздываете? – строго спросил Свиридов, когда они явились к нему.
– В райкоме задержались, на приемной комиссии, – ответил Миша.
– Ого! – Свиридов поднял брови. – Поздравляю молодых комсомольцев.
Мальчики сокрушенно вздохнули.
– Что вы? – спросил Свиридов и внимательно посмотрел на них. – Что случилось?
– Провалились, – глядя в сторону, сказал Миша.
– Провалились? – удивился Свиридов. – На чем?
– На вопросе о кандидатском стаже.
– Это я виноват, – угрюмо произнес Генка.
– А на остальные вопросы как вы ответили?
– Как будто правильно.
– Что ж вы горюете? – рассмеялся Свиридов. – Из-за одного неправильного ответа вам не откажут. Кто хочет и достоин быть комсомольцем, тот им будет. Так что не огорчайтесь… А теперь, ребята, приступим к делу. Слушайте меня внимательно. Никитский упорно именует себя Сергеем Ивановичем Никольским. При этом он ссылается на ряд свидетелей, в том числе и на Филина. – Свиридов усмехнулся. – Хотя после пропажи ножен они все передрались: Филин сваливает на филателиста, филателист – на Филина. Между прочим, – он внимательно посмотрел на ребят, – свой склад они заблаговременно ликвидировали: видимо, их кто-то спугнул.
Мальчики покраснели и молча уставились в пол.
– Да, – едва заметно улыбнувшись, повторил Свиридов, – кто-то их спугнул. А сейчас будет очная ставка между каждым из вас и Никитским. Вы должны рассказать все, что знаете. На все вопросы отвечайте честно, так, как оно есть на самом деле, ничего не выдумывая. Теперь идите в соседнюю комнату и ждите. Когда надо будет, вас вызовут. Да, еще… – Свиридов вынул из ящика кортик и протянул его Мише: – Когда я спрошу, из-за чего Никитский убил Терентьева, то ты, Поляков, предъявишь кортик.
Глава 72
Очная ставка
Сначала вызвали Славу, за ним Генку и наконец Мишу.
Когда Миша вошел в комнату, за столом, кроме Свиридова, сидел еще один пожилой человек, в флотской форме, с трубкой во рту. Генка и Слава чинно сидели у стены, держа на коленях свои шапки.
У дверей, с винтовкой в руках, стоял часовой. В середине комнаты, против стола Свиридова, сидел на стуле Никитский.
Одетый в защитный френч, синие галифе и сапоги, он сидел в небрежной позе, положив ногу на ногу. Его черные волосы были аккуратно зачесаны назад.
Блестящие солнечные блики двигались по комнате.
Когда Миша вошел, Никитский бросил на него быстрый колючий взгляд. Но здесь был не Ревск и не будка обходчика. Миша смотрел прямо на Никитского. Он смотрел на Никитского и видел Полевого, избитого и окровавленного, разобранные рельсы и зеленое поле, по которому бегали кони, потерявшие всадников.
– Вы знаете этого человека? – спросил Свиридов и указал на Никитского.
– Знаю.
– Кто он такой?
– Никитский Валерий Сигизмундович, – твердо ответил Миша, продолжая смотреть на Никитского.
Никитский сидел не шевелясь.
– Расскажите подробно, откуда вы его знаете, – сказал Свиридов.
Миша рассказал о налете на Ревск, о нападении на эшелон, о складе Филина.
– Что вы на это скажете, гражданин Никитский? – спросил Свиридов.
– Я уже сказал, – спокойно ответил Никитский, – у вас есть более авторитетные показания, нежели измышления этого ребенка.
– Вы продолжаете утверждать, что вы Сергей Иванович Никольский?
– Да.
– И вы проживали в доме Марии Гавриловны Терентьевой как бывший подчиненный ее сына, Владимира Владимировича Терентьева?
– Да. Она может это подтвердить.
– Вы продолжаете утверждать, что Владимир Владимирович Терентьев погиб при взрыве линкора?
– Да. Это всем известно. Я пытался его спасти, но безуспешно. Меня самого подобрал катер.
– Значит, вы пытались его спасти?
– Да.
– Хорошо… Теперь вы, Поляков, скажите… – Свиридов помедлил и, не отрывая пристального взгляда от Никитского, спросил: – Не знаете ли вы, кто застрелил Терентьева?
– Он! – решительно ответил Миша и показал на Никитского.
Никитский сидел по-прежнему не шевелясь.
– Мне Полевой рассказывал, он сам видел.
– Что вы на это скажете? – обратился Свиридов к Никитскому.
Никитский криво усмехнулся:
– Это такая нелепость… И после этого живу в доме его матери! Если вы склонны верить таким бредням…
– Поляков! Какие у вас есть доказательства?
Миша вынул кортик и положил его перед Свиридовым. Никитский не отрываясь смотрел на кортик.
Свиридов вынул из ножен клинок, выдернул рукоятку и вытянул пластинку. Потом не торопясь снова собрал кортик. Никитский неотступно следил за его руками.
– Ну-с, гражданин Никитский, знаком вам этот предмет?
Никитский тяжело откинулся на спинку стула:
– Я впервые его вижу.
– Продолжаете упорствовать, – спокойно сказал Свиридов и положил кортик под бумаги. – Пойдем дальше… Введите свидетельницу Марию Гавриловну Терентьеву, – приказал он часовому.
В комнату медленно вошла высокая пожилая женщина в черном пальто и черном платке, из-под которого выбивались седые волосы.
– Пожалуйста, садитесь. – Свиридов указал на стул.
Она села на стул и устало закрыла глаза.
– Гражданка Терентьева, назовите имя этого человека, – сказал Свиридов.
– Сергей Иванович Никольский, – не поднимая глаз, тихо произнесла Терентьева.
– Где, когда и при каких обстоятельствах вы с ним познакомились?
– Во время войны он приезжал ко мне с письмом от сына.
– Как звали вашего сына?
– Владимир Владимирович.
– Где он?
– Погиб.
– Когда?
– Седьмого октября тысяча девятьсот шестнадцатого года при взрыве линкора «Императрица Мария».
– Вы уверены, что он погиб именно при взрыве?
– Конечно, – она подняла глаза и с недоумением посмотрела на Свиридова, – конечно. Я получила извещение.
– Вам прислали его вещи?
– Нет. Разве их могли прислать? Кто мог спасти его вещи?
– Значит, все вещи вашего сына пропали?
– Я думаю.
– Подойдите к столу.
Терентьева тяжело поднялась и медленно подошла к столу.
Свиридов вынул из-под бумаг кортик и протянул его Терентьевой.
– Вы узнаете кортик вашего сына? – жестко спросил он.
– Да… – произнесла Терентьева, разглядывая кортик. – Да… – Она растерянно посмотрела на Никитского, он сидел не шевелясь. – Да… это наш… это его кортик… Владимира…
– Вас не удивляет, что все вещи вашего сына погибли, а кортик остался цел?
Терентьева ничего не отвечала. Пальцы ее дрожали на краю стола.
– Вы молчите, – сказал Свиридов. – Тогда ответьте мне… я вас спрашиваю в последний раз: кто этот человек? – Он указал на Никитского.
– Никольский, – едва слышно произнесла Терентьева.
– Так вот, – Свиридов встал и протянул руку по направлению к Никитскому, – он убийца вашего сына!
Терентьева покачнулась, дрожащие ее пальцы впились в край стола.
– Что… – задыхаясь, прошептала она, – что вы сказали?
Не глядя на нее, Свиридов сухим, официальным голосом прочитал:
– «Седьмого октября тысяча девятьсот шестнадцатого года лейтенант Никитский выстрелом из пистолета убил капитана второго ранга Терентьева Владимира Владимировича… Целью убийства было похищение кортика».
В комнате стало совсем тихо. Часовой переступил с ноги на ногу, приклад винтовки чуть слышно стукнул о ковер. Никитский сидел не шевелясь, устремив взгляд на носок своего сапога. Терентьева стояла неподвижно. Она смотрела на Никитского, и ее длинные, сухие пальцы сжимали краешек стола.
– Валерий… – прошептала она, – Валерий…
Ее помертвевшее лицо белым пятном разрезало синеву комнаты. Свиридов и моряк бросились ее поднимать.
Когда Миша вошел в комнату, за столом, кроме Свиридова, сидел еще один пожилой человек, в флотской форме, с трубкой во рту. Генка и Слава чинно сидели у стены, держа на коленях свои шапки.
У дверей, с винтовкой в руках, стоял часовой. В середине комнаты, против стола Свиридова, сидел на стуле Никитский.
Одетый в защитный френч, синие галифе и сапоги, он сидел в небрежной позе, положив ногу на ногу. Его черные волосы были аккуратно зачесаны назад.
Блестящие солнечные блики двигались по комнате.
Когда Миша вошел, Никитский бросил на него быстрый колючий взгляд. Но здесь был не Ревск и не будка обходчика. Миша смотрел прямо на Никитского. Он смотрел на Никитского и видел Полевого, избитого и окровавленного, разобранные рельсы и зеленое поле, по которому бегали кони, потерявшие всадников.
– Вы знаете этого человека? – спросил Свиридов и указал на Никитского.
– Знаю.
– Кто он такой?
– Никитский Валерий Сигизмундович, – твердо ответил Миша, продолжая смотреть на Никитского.
Никитский сидел не шевелясь.
– Расскажите подробно, откуда вы его знаете, – сказал Свиридов.
Миша рассказал о налете на Ревск, о нападении на эшелон, о складе Филина.
– Что вы на это скажете, гражданин Никитский? – спросил Свиридов.
– Я уже сказал, – спокойно ответил Никитский, – у вас есть более авторитетные показания, нежели измышления этого ребенка.
– Вы продолжаете утверждать, что вы Сергей Иванович Никольский?
– Да.
– И вы проживали в доме Марии Гавриловны Терентьевой как бывший подчиненный ее сына, Владимира Владимировича Терентьева?
– Да. Она может это подтвердить.
– Вы продолжаете утверждать, что Владимир Владимирович Терентьев погиб при взрыве линкора?
– Да. Это всем известно. Я пытался его спасти, но безуспешно. Меня самого подобрал катер.
– Значит, вы пытались его спасти?
– Да.
– Хорошо… Теперь вы, Поляков, скажите… – Свиридов помедлил и, не отрывая пристального взгляда от Никитского, спросил: – Не знаете ли вы, кто застрелил Терентьева?
– Он! – решительно ответил Миша и показал на Никитского.
Никитский сидел по-прежнему не шевелясь.
– Мне Полевой рассказывал, он сам видел.
– Что вы на это скажете? – обратился Свиридов к Никитскому.
Никитский криво усмехнулся:
– Это такая нелепость… И после этого живу в доме его матери! Если вы склонны верить таким бредням…
– Поляков! Какие у вас есть доказательства?
Миша вынул кортик и положил его перед Свиридовым. Никитский не отрываясь смотрел на кортик.
Свиридов вынул из ножен клинок, выдернул рукоятку и вытянул пластинку. Потом не торопясь снова собрал кортик. Никитский неотступно следил за его руками.
– Ну-с, гражданин Никитский, знаком вам этот предмет?
Никитский тяжело откинулся на спинку стула:
– Я впервые его вижу.
– Продолжаете упорствовать, – спокойно сказал Свиридов и положил кортик под бумаги. – Пойдем дальше… Введите свидетельницу Марию Гавриловну Терентьеву, – приказал он часовому.
В комнату медленно вошла высокая пожилая женщина в черном пальто и черном платке, из-под которого выбивались седые волосы.
– Пожалуйста, садитесь. – Свиридов указал на стул.
Она села на стул и устало закрыла глаза.
– Гражданка Терентьева, назовите имя этого человека, – сказал Свиридов.
– Сергей Иванович Никольский, – не поднимая глаз, тихо произнесла Терентьева.
– Где, когда и при каких обстоятельствах вы с ним познакомились?
– Во время войны он приезжал ко мне с письмом от сына.
– Как звали вашего сына?
– Владимир Владимирович.
– Где он?
– Погиб.
– Когда?
– Седьмого октября тысяча девятьсот шестнадцатого года при взрыве линкора «Императрица Мария».
– Вы уверены, что он погиб именно при взрыве?
– Конечно, – она подняла глаза и с недоумением посмотрела на Свиридова, – конечно. Я получила извещение.
– Вам прислали его вещи?
– Нет. Разве их могли прислать? Кто мог спасти его вещи?
– Значит, все вещи вашего сына пропали?
– Я думаю.
– Подойдите к столу.
Терентьева тяжело поднялась и медленно подошла к столу.
Свиридов вынул из-под бумаг кортик и протянул его Терентьевой.
– Вы узнаете кортик вашего сына? – жестко спросил он.
– Да… – произнесла Терентьева, разглядывая кортик. – Да… – Она растерянно посмотрела на Никитского, он сидел не шевелясь. – Да… это наш… это его кортик… Владимира…
– Вас не удивляет, что все вещи вашего сына погибли, а кортик остался цел?
Терентьева ничего не отвечала. Пальцы ее дрожали на краю стола.
– Вы молчите, – сказал Свиридов. – Тогда ответьте мне… я вас спрашиваю в последний раз: кто этот человек? – Он указал на Никитского.
– Никольский, – едва слышно произнесла Терентьева.
– Так вот, – Свиридов встал и протянул руку по направлению к Никитскому, – он убийца вашего сына!
Терентьева покачнулась, дрожащие ее пальцы впились в край стола.
– Что… – задыхаясь, прошептала она, – что вы сказали?
Не глядя на нее, Свиридов сухим, официальным голосом прочитал:
– «Седьмого октября тысяча девятьсот шестнадцатого года лейтенант Никитский выстрелом из пистолета убил капитана второго ранга Терентьева Владимира Владимировича… Целью убийства было похищение кортика».
В комнате стало совсем тихо. Часовой переступил с ноги на ногу, приклад винтовки чуть слышно стукнул о ковер. Никитский сидел не шевелясь, устремив взгляд на носок своего сапога. Терентьева стояла неподвижно. Она смотрела на Никитского, и ее длинные, сухие пальцы сжимали краешек стола.
– Валерий… – прошептала она, – Валерий…
Ее помертвевшее лицо белым пятном разрезало синеву комнаты. Свиридов и моряк бросились ее поднимать.
Глава 73
Семья Терентьевых
По Ярославскому шоссе мчалась большая легковая машина. В ней сидели Свиридов, моряк, Терентьева и мальчики. За широкими обочинами шоссе мелькали маленькие домики московских пригородов, мачты высоковольтной передачи, стальная излучина Окружной железной дороги. Потом потянулись сосновые леса, кюветы с серым, рыхлым снегом, подмосковные деревни.
– Этот кортик, – рассказывала Мария Гавриловна, – принадлежал Поликарпу Терентьеву, известному оружейнику, жившему сто пятьдесят лет назад. По преданию, он вывез его с Востока во время одного из своих походов.
Миша толкнул ребят и многозначительно поднял палец.
– При Елизавете Петровне, – продолжала Мария Гавриловна, – Поликарп Терентьев попал в опалу, претерпел ряд злоключений и удалился в свое поместье, где устроил в доме тайник. Вероятно, его принудили к этому обстоятельства того тревожного времени, а может быть, страсть к механике, которой отличался старик. В доме до сих пор сохранились сделанные им вещи: шкатулка с секретами, особенные блоки, подъемники, даже часы собственной конструкции. Самым сильным его увлечением было водолазное дело. Но все его проекты водолазного прибора и подъема какого-то затонувшего корабля были для того времени, конечно, фантастическими. Между прочим, водолазное и судоподъемное дело стало традиционным в нашей фамилии. Этим занимались сын и внук Поликарпа Терентьева и мой сын Владимир. Многие из них участвовали в экспедициях. Дед Владимира несколько лет пробыл даже на острове Цейлон, всё какой-то корабль поднимали, да так и не подняли. А отец Владимира собирал материал о «Черном принце». Но все эти работы были окружены тайной, ставшей в семье традиционной.
– Интересно! – сказал Свиридов.
– Особенность тайника, – продолжала Мария Гавриловна, – заключалась в том, что о нем знал только один человек в доме – глава семьи. Мы, женщины, этим не интересовались. Шифр, указывающий местонахождение тайника, старик заделал в кортик. Мой сын Владимир был последним представителем рода Терентьевых. Он получил кортик от моего мужа в декабре пятнадцатого года. Владимир специально приезжал в Пушкино. Тогда-то и произошла ссора его с женой Ксенией. Она требовала, чтобы он оставил ей кортик и показал тайник. Большую роль в этой ссоре сыграл брат Ксении, Валерий Никитский. Возможно, он был уверен, что в тайнике хранились ценности. Он, конечно, ошибался. Если бы это было так, то Владимир, уезжая на войну, несомненно оставил бы мне кортик.
Миша и Слава ехидно посмотрели на Генку.
– В прошлом году, – продолжала свой рассказ Мария Гавриловна, – приехал Валерий. Он уверил меня, что в тайнике хранятся компрометирующие Владимира документы. Он говорил, что Владимир умер у него на руках и перед смертью будто бы просил эти документы уничтожить и тем спасти его честь. Для этой цели Валерий якобы остался в России и вынужден скрываться…
Машина въехала в Пушкино и остановилась возле дома Терентьевой.
Дом был каменный, старинной постройки, с колоннами на фасаде. Многочисленные дворовые постройки были запущены, частью разрушены, но дом сохранился. Нетронутый снег на правой стороне участка и замерзшие окна показывали, что под жилье используется только левая его половина.
В столовой, куда все вошли, стоял длинный обеденный стол на круглых резных ножках. Один угол скатерти был откинут. На клеенке лежали три кучки гречневой крупы: ее, видимо, перебирали.
– Часов в доме много, – сказала Мария Гавриловна, – но какие из них, я не знаю.
– Вероятней всего, те, о которых вы упоминали, – сказал Свиридов.
– Тогда пройдем в кабинет.
В кабинете, в глубокой нише, стояли высокие часы в деревянном футляре. За стеклом желтел циферблат. В нем рядом с отверстием для завода часов виднелась едва приметная узкая щель. Свиридов открыл дверцу часов. Маятник криво качнулся и звякнул.
Свиридов перевел стрелки на двенадцать часов без одной минуты, вставил в щель змейку кортика и, осторожно поворачивая ее вправо, завел часы.
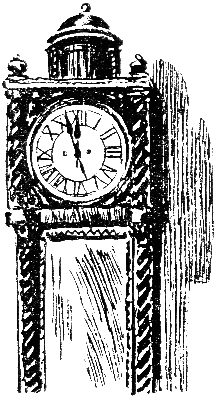 Все присутствующие напряженно ожидали. Генка стоял, широко раскрыв рот.
Все присутствующие напряженно ожидали. Генка стоял, широко раскрыв рот.
Минутная стрелка дрогнула, подвинулась – открылась дверца над циферблатом, оттуда выскочила кукушка. Она двенадцать раз прокуковала, потом часы захрипели, кукушка дернулась вперед, вслед за ней дернулась вся башня часов, открывая верхнюю часть футляра. Футляр был с двойными стенками. Хитроумие тайника заключалось в том, что снаружи башня часов и футляр казались неотделимыми, сделанными из цельного куска дерева. Только после завода часов змейкой внутренняя пружина поднимала башню и открывала тайник, представлявший собой глубокий квадратный ящик, наполненный бумагами.
Здесь лежали свернутые трубкой и обвязанные ниткой чертежи с примятыми, обтрепанными краями, папки, туго набитые пожелтевшими от времени листками бумаги, тетради, большой блокнот в сафьяновом переплете.
Свиридов и моряк осторожно вынули все эти документы, разложили на столе и начали их внимательно рассматривать, изредка перебрасываясь короткими фразами. Мальчики жались к столу, тоже пытаясь что-нибудь увидеть.
– Все разложено по морям, – говорил моряк. – Вот даже Индийский океан. – Он прочитал на обложке одной папки: – «Английский корабль «Гросвенор». Затонул в 1782 году у острова Цейлон. Груз: золото и драгоценные камни». «Бриг «Бетси»…»
– Давайте-ка лучше свои моря поглядим, – перебил его Свиридов.
– Так. – Моряк перебрал папки и развязал одну из них. – Черное море. Вот оглавление: «Трапезунд», корабль крымского хана Девлет-Гирея… «Черный принц» – затонул двадцать четвертого ноября 1854 года в Балаклавской бухте, разбившись во время шторма о прибрежные скалы, груз – пять миллионов рублей золотом…» Да тут целый список! – Он перелистал бумаги, покачал головой. – Какие сведения! Точные координаты места гибели, показания очевидцев, огромный справочный материал…
– Крепко! – весело сказал Свиридов. – Для нашей новой организации «Судоподъем» все это пригодится.
– Да, – подтвердил моряк, – материал неоценимый.
– Этот кортик, – рассказывала Мария Гавриловна, – принадлежал Поликарпу Терентьеву, известному оружейнику, жившему сто пятьдесят лет назад. По преданию, он вывез его с Востока во время одного из своих походов.
Миша толкнул ребят и многозначительно поднял палец.
– При Елизавете Петровне, – продолжала Мария Гавриловна, – Поликарп Терентьев попал в опалу, претерпел ряд злоключений и удалился в свое поместье, где устроил в доме тайник. Вероятно, его принудили к этому обстоятельства того тревожного времени, а может быть, страсть к механике, которой отличался старик. В доме до сих пор сохранились сделанные им вещи: шкатулка с секретами, особенные блоки, подъемники, даже часы собственной конструкции. Самым сильным его увлечением было водолазное дело. Но все его проекты водолазного прибора и подъема какого-то затонувшего корабля были для того времени, конечно, фантастическими. Между прочим, водолазное и судоподъемное дело стало традиционным в нашей фамилии. Этим занимались сын и внук Поликарпа Терентьева и мой сын Владимир. Многие из них участвовали в экспедициях. Дед Владимира несколько лет пробыл даже на острове Цейлон, всё какой-то корабль поднимали, да так и не подняли. А отец Владимира собирал материал о «Черном принце». Но все эти работы были окружены тайной, ставшей в семье традиционной.
– Интересно! – сказал Свиридов.
– Особенность тайника, – продолжала Мария Гавриловна, – заключалась в том, что о нем знал только один человек в доме – глава семьи. Мы, женщины, этим не интересовались. Шифр, указывающий местонахождение тайника, старик заделал в кортик. Мой сын Владимир был последним представителем рода Терентьевых. Он получил кортик от моего мужа в декабре пятнадцатого года. Владимир специально приезжал в Пушкино. Тогда-то и произошла ссора его с женой Ксенией. Она требовала, чтобы он оставил ей кортик и показал тайник. Большую роль в этой ссоре сыграл брат Ксении, Валерий Никитский. Возможно, он был уверен, что в тайнике хранились ценности. Он, конечно, ошибался. Если бы это было так, то Владимир, уезжая на войну, несомненно оставил бы мне кортик.
Миша и Слава ехидно посмотрели на Генку.
– В прошлом году, – продолжала свой рассказ Мария Гавриловна, – приехал Валерий. Он уверил меня, что в тайнике хранятся компрометирующие Владимира документы. Он говорил, что Владимир умер у него на руках и перед смертью будто бы просил эти документы уничтожить и тем спасти его честь. Для этой цели Валерий якобы остался в России и вынужден скрываться…
Машина въехала в Пушкино и остановилась возле дома Терентьевой.
Дом был каменный, старинной постройки, с колоннами на фасаде. Многочисленные дворовые постройки были запущены, частью разрушены, но дом сохранился. Нетронутый снег на правой стороне участка и замерзшие окна показывали, что под жилье используется только левая его половина.
В столовой, куда все вошли, стоял длинный обеденный стол на круглых резных ножках. Один угол скатерти был откинут. На клеенке лежали три кучки гречневой крупы: ее, видимо, перебирали.
– Часов в доме много, – сказала Мария Гавриловна, – но какие из них, я не знаю.
– Вероятней всего, те, о которых вы упоминали, – сказал Свиридов.
– Тогда пройдем в кабинет.
В кабинете, в глубокой нише, стояли высокие часы в деревянном футляре. За стеклом желтел циферблат. В нем рядом с отверстием для завода часов виднелась едва приметная узкая щель. Свиридов открыл дверцу часов. Маятник криво качнулся и звякнул.
Свиридов перевел стрелки на двенадцать часов без одной минуты, вставил в щель змейку кортика и, осторожно поворачивая ее вправо, завел часы.
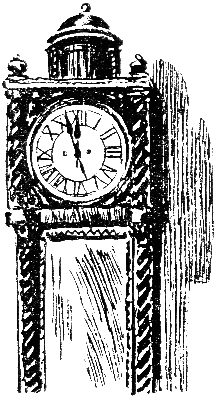
Минутная стрелка дрогнула, подвинулась – открылась дверца над циферблатом, оттуда выскочила кукушка. Она двенадцать раз прокуковала, потом часы захрипели, кукушка дернулась вперед, вслед за ней дернулась вся башня часов, открывая верхнюю часть футляра. Футляр был с двойными стенками. Хитроумие тайника заключалось в том, что снаружи башня часов и футляр казались неотделимыми, сделанными из цельного куска дерева. Только после завода часов змейкой внутренняя пружина поднимала башню и открывала тайник, представлявший собой глубокий квадратный ящик, наполненный бумагами.
Здесь лежали свернутые трубкой и обвязанные ниткой чертежи с примятыми, обтрепанными краями, папки, туго набитые пожелтевшими от времени листками бумаги, тетради, большой блокнот в сафьяновом переплете.
Свиридов и моряк осторожно вынули все эти документы, разложили на столе и начали их внимательно рассматривать, изредка перебрасываясь короткими фразами. Мальчики жались к столу, тоже пытаясь что-нибудь увидеть.
– Все разложено по морям, – говорил моряк. – Вот даже Индийский океан. – Он прочитал на обложке одной папки: – «Английский корабль «Гросвенор». Затонул в 1782 году у острова Цейлон. Груз: золото и драгоценные камни». «Бриг «Бетси»…»
– Давайте-ка лучше свои моря поглядим, – перебил его Свиридов.
– Так. – Моряк перебрал папки и развязал одну из них. – Черное море. Вот оглавление: «Трапезунд», корабль крымского хана Девлет-Гирея… «Черный принц» – затонул двадцать четвертого ноября 1854 года в Балаклавской бухте, разбившись во время шторма о прибрежные скалы, груз – пять миллионов рублей золотом…» Да тут целый список! – Он перелистал бумаги, покачал головой. – Какие сведения! Точные координаты места гибели, показания очевидцев, огромный справочный материал…
– Крепко! – весело сказал Свиридов. – Для нашей новой организации «Судоподъем» все это пригодится.
– Да, – подтвердил моряк, – материал неоценимый.
Глава 74
Вступление
Машина мчалась по Ярославскому шоссе в направлении Москвы. На заднем сиденье развалились Миша, Генка и Слава. Свиридов и моряк остались у Терентьевой, а ребят отправили, потому что они торопились в школу на торжественное заседание, посвященное пятилетию Красной Армии.
Генка откинулся на мягкую спинку и сказал:
– Люблю на легковых машинах ездить!
– Привычка, – заметил Миша.
– Все ж таки он вредный старикашка, – снова сказал Генка.
– Кто?
– Поликарп Терентьев.
– Почему?
– Не мог в тайник немного наличными подбросить…
– Вот-вот, – засмеялся Миша, – ты еще о нитках поговори…
– При чем тут нитки! Думаешь, я тогда не знал, что у них в складе оружие? Отлично знал. Только я нарочно о нитках говорил… для конспирации. Честное слово, для конспирации. А про Никитского я сразу понял, что это шпион. Вот увидите: в конце концов он признается, что взорвал «Императрицу Марию».
– А здорово, – сказал Миша, – Никитский еще в Пушкине прятался, а Свиридов уже все знал, так что все равно бы он на границе попался.
– Миша, – сказал Слава, – а письмо?
– Ах да! – спохватился Миша.
Он вынул из кармана письмо, которое только что вручил им Свиридов. На конверте крупным, четким почерком было написано: «Михаилу Полякову и Геннадию Петрову. Лично».
– Видал? – Генка ехидно посмотрел на Славу. – Тебя здесь и в помине нет…
Миша вскрыл письмо и вслух прочел:
– Опоздали мы на собрание, – сказал Миша.
– Может быть, вовсе не идти? – предложил Слава. – Очень интересно смотреть, как другим будут комсомольские билеты вручать.
– Именно поэтому мы и должны прийти на собрание, – сказал Миша, – а то еще больше засмеют.
– Приехали, – объявил шофер.
Мальчики вылезли из машины и вошли в школу. Собрание уже началось. На лестнице было тихо и пусто, только тетя Броша сидела у раздевалки и вязала чулок.
– Не велено пускать, – сказала она, – чтобы не опаздывали.
– Ну, Брошечка, – попросил Миша, – ради праздника.
– Разве уж ради праздника, – сказала тетя Броша и приняла их одежду.
Мальчики поднялись по лестнице, тихо вошли в переполненный ребятами зал и стали у дверей.
В глубине зала виднелся стол президиума, стоявший на возвышении и покрытый красной материей.
На стене, над широкими окнами, висело красное полотнище с лозунгом: «Пусть господствующие классы дрожат перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей, приобретут же они целый мир». Миша едва разобрал эти слова. Бесцветный диск февральского солнца блестел в окнах нестерпимым блеском, яркие его лучи кололи глаза.
Коля Севостьянов кончал доклад. Он закрыл блокнот и сказал:
– Товарищи! Этот день для нас тем более торжествен, что сегодня решением бюро Хамовнического районного комитета РКСМ принята в комсомол первая группа лучших пионеров нашего отряда, а именно…
Приятели покраснели. Генка и Слава стояли потупившись, а Миша не отрываясь, до боли в глазах, смотрел через окно на солнце, и весь горизонт казался ему покрытым тысячью маленьких блестящих дисков.
– …а именно, – продолжал Коля и снова открыл блокнот: – Воронина Маргарита, Круглова Зинаида, Огуреев Александр, Эльдаров Святослав, Поляков Михаил, Петров Геннадий…
Что такое? Не ослышались ли они? Приятели посмотрели друг на друга, и… Генка в порыве восторга стукнул Славу по спине. Слава хотел дать ему сдачи, но сидевшая неподалеку Александра Сергеевна угрожающе подняла палец, и Слава ограничился тем, что толкнул Генку ногой.
Потом все встали и запели «Интернационал». Миша выводил его звонким, неожиданно дрогнувшим голосом.
Блестящий диск за окном разгорался все ярче и ярче. Сияние его ширилось и охватывало весь горизонт с очертаниями домов, крыш, колоколен, кремлевских башен.
Миша все смотрел на этот диск. И перед глазами его стояли эшелон, красноармейцы, Полевой в серой солдатской шинели и мускулистый рабочий, разбивающий тяжелым молотом цепи, опутывающие земной шар.
Москва
1946–1948

Генка откинулся на мягкую спинку и сказал:
– Люблю на легковых машинах ездить!
– Привычка, – заметил Миша.
– Все ж таки он вредный старикашка, – снова сказал Генка.
– Кто?
– Поликарп Терентьев.
– Почему?
– Не мог в тайник немного наличными подбросить…
– Вот-вот, – засмеялся Миша, – ты еще о нитках поговори…
– При чем тут нитки! Думаешь, я тогда не знал, что у них в складе оружие? Отлично знал. Только я нарочно о нитках говорил… для конспирации. Честное слово, для конспирации. А про Никитского я сразу понял, что это шпион. Вот увидите: в конце концов он признается, что взорвал «Императрицу Марию».
– А здорово, – сказал Миша, – Никитский еще в Пушкине прятался, а Свиридов уже все знал, так что все равно бы он на границе попался.
– Миша, – сказал Слава, – а письмо?
– Ах да! – спохватился Миша.
Он вынул из кармана письмо, которое только что вручил им Свиридов. На конверте крупным, четким почерком было написано: «Михаилу Полякову и Геннадию Петрову. Лично».
– Видал? – Генка ехидно посмотрел на Славу. – Тебя здесь и в помине нет…
Миша вскрыл письмо и вслух прочел:
«Здравствуйте, дорогие ребята Миша и Генка!…Машина въехала в город. Сквозь ветровое стекло виднелась Сухарева башня.
Угадайте-ка, от кого это письмо. Угадали? Ну конечно. Угадали. Правильно! Это я, он самый. Полевой, Сергей Иванович. Ну, как же они, пироги-то, Михаил Григорьевич? Хороши? А?
Товарищ Свиридов написал мне о ваших делах. Молодцы! Вот уж никогда не думал, что вы с Никитским справитесь! Так что мне даже немного стыдно, что он тогда, в Ревске, бока мне намял.
Кортик дарю вам на память. Вырастете большие, посмотрите на кортик и вспомните свою молодость.
О себе могу сообщить, что опять служу на флоте. Только работаю сейчас на новом деле. Поднимаем со дна корабли, ремонтируем их и пускаем плавать по морям-океанам…
На этом кончаю.
Желаю вам вырасти настоящими большевиками, верными сынами нашей великой революции.
С коммунистическим приветомПолевой».
– Опоздали мы на собрание, – сказал Миша.
– Может быть, вовсе не идти? – предложил Слава. – Очень интересно смотреть, как другим будут комсомольские билеты вручать.
– Именно поэтому мы и должны прийти на собрание, – сказал Миша, – а то еще больше засмеют.
– Приехали, – объявил шофер.
Мальчики вылезли из машины и вошли в школу. Собрание уже началось. На лестнице было тихо и пусто, только тетя Броша сидела у раздевалки и вязала чулок.
– Не велено пускать, – сказала она, – чтобы не опаздывали.
– Ну, Брошечка, – попросил Миша, – ради праздника.
– Разве уж ради праздника, – сказала тетя Броша и приняла их одежду.
Мальчики поднялись по лестнице, тихо вошли в переполненный ребятами зал и стали у дверей.
В глубине зала виднелся стол президиума, стоявший на возвышении и покрытый красной материей.
На стене, над широкими окнами, висело красное полотнище с лозунгом: «Пусть господствующие классы дрожат перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей, приобретут же они целый мир». Миша едва разобрал эти слова. Бесцветный диск февральского солнца блестел в окнах нестерпимым блеском, яркие его лучи кололи глаза.
Коля Севостьянов кончал доклад. Он закрыл блокнот и сказал:
– Товарищи! Этот день для нас тем более торжествен, что сегодня решением бюро Хамовнического районного комитета РКСМ принята в комсомол первая группа лучших пионеров нашего отряда, а именно…
Приятели покраснели. Генка и Слава стояли потупившись, а Миша не отрываясь, до боли в глазах, смотрел через окно на солнце, и весь горизонт казался ему покрытым тысячью маленьких блестящих дисков.
– …а именно, – продолжал Коля и снова открыл блокнот: – Воронина Маргарита, Круглова Зинаида, Огуреев Александр, Эльдаров Святослав, Поляков Михаил, Петров Геннадий…
Что такое? Не ослышались ли они? Приятели посмотрели друг на друга, и… Генка в порыве восторга стукнул Славу по спине. Слава хотел дать ему сдачи, но сидевшая неподалеку Александра Сергеевна угрожающе подняла палец, и Слава ограничился тем, что толкнул Генку ногой.
Потом все встали и запели «Интернационал». Миша выводил его звонким, неожиданно дрогнувшим голосом.
Блестящий диск за окном разгорался все ярче и ярче. Сияние его ширилось и охватывало весь горизонт с очертаниями домов, крыш, колоколен, кремлевских башен.
Миша все смотрел на этот диск. И перед глазами его стояли эшелон, красноармейцы, Полевой в серой солдатской шинели и мускулистый рабочий, разбивающий тяжелым молотом цепи, опутывающие земной шар.
Москва
1946–1948

