Миша дремал. Нужно заснуть. Нельзя же в первый день каникул вставать в обычное время. Сегодня весь день гулять. Красота!
В комнату, с утюгом в руках, вошла мама. Она положила на стол сложенное вчетверо одеяло, поставила утюг на опрокинутую самоварную конфорку. Рядом, на стуле, белела груда выстиранного белья.
– Миша, вставай, – сказала мама. – Вставай, сынок. Мне гладить нужно.
Миша лежал не двигаясь. Почему мама всегда знает, спит он или нет? Ведь он лежит с закрытыми глазами…
– Вставай, не притворяйся… – Мама подошла к кровати.
Миша изо всех сил сдерживал душивший его смех. Мама засунула руку под одеяло. Миша поджал ноги под себя, но холодная мамина рука упорно преследовала его пятки. Миша не выдержал, расхохотался и вскочил с кровати.
Он быстро оделся и отправился умываться.
В сумраке запущенной кухни белел кафельный пол, выщербленный от колки дров. На серых стенах чернели длинные мутные потеки – следы лопнувшего зимой водопровода. Миша снял рубашку с твердым намерением вымыться до пояса. Он давно так решил: с первого же дня каникул начать холодные обтирания.
Поеживаясь, он открыл кран. Звонкая струя ударилась о раковину, острые брызги морозно кольнули Мишины плечи.
Да, холодновата еще водичка… Конечно, он твердо решил с первого же дня каникул начать холодные обтирания, но… ведь их распустили на каникулы на две недели раньше. Каникулы должны быть с первого июня, а теперь только пятнадцатое мая. Разве он виноват, что школу начали ремонтировать? Решено: он будет обтираться с первого июня. И Миша снова надел рубашку…
Причесываясь перед зеркалом, он начал рассматривать свое лицо…
Нехороший у него подбородок! Вот если бы нижняя челюсть выдавалась вперед, то он обладал бы большой силой воли. Это еще у Джека Лондона написано. А ему совершенно необходимо обладать сильной волей. Ведь факт, что он сегодня смалодушничал с обтиранием. И так каждый раз.
Начал вести дневник, тетрадь завел, разрисовал ее, а потом бросил – не хватило терпения. Решил делать утреннюю гимнастику, даже гантели купил, и тоже бросил – то в школу надо поскорей, то еще что-нибудь, а попросту говоря, лень. И вообще, задумает что-нибудь такое и начинает откладывать: до понедельника, до первого числа, до нового учебного года… Нет! Это просто слабоволие и бесхарактерность. Безобразие! Пора, в конце концов, избавиться от этого!
Миша выпятил челюсть. Вот такой подбородок должен быть у человека с сильной волей. Нужно все время так держать зубы, и постепенно нижняя челюсть выпятится вперед…
На столе дымилась картошка. Рядом, на тарелке, лежали два ломтика черного хлеба – сегодняшний дневной паек.
Миша разделил свою порцию на три части – завтрак, обед, ужин – и взял один кусочек. Он был настолько мал, что Миша и не заметил, как съел его. Взять, что ли, второй? Поужинать можно и без хлеба… Нет! Нельзя! Если он съест сейчас хлеб, то вечером мама обязательно отдаст ему свою порцию и сама останется без хлеба…
Миша положил обратно хлеб и решительно выдвинул далеко вперед свою нижнюю челюсть. Но он в это время жевал горячую картошку и, выдвинув челюсть, больно прикусил себе язык.
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
В комнату, с утюгом в руках, вошла мама. Она положила на стол сложенное вчетверо одеяло, поставила утюг на опрокинутую самоварную конфорку. Рядом, на стуле, белела груда выстиранного белья.
– Миша, вставай, – сказала мама. – Вставай, сынок. Мне гладить нужно.
Миша лежал не двигаясь. Почему мама всегда знает, спит он или нет? Ведь он лежит с закрытыми глазами…
– Вставай, не притворяйся… – Мама подошла к кровати.
Миша изо всех сил сдерживал душивший его смех. Мама засунула руку под одеяло. Миша поджал ноги под себя, но холодная мамина рука упорно преследовала его пятки. Миша не выдержал, расхохотался и вскочил с кровати.
Он быстро оделся и отправился умываться.
В сумраке запущенной кухни белел кафельный пол, выщербленный от колки дров. На серых стенах чернели длинные мутные потеки – следы лопнувшего зимой водопровода. Миша снял рубашку с твердым намерением вымыться до пояса. Он давно так решил: с первого же дня каникул начать холодные обтирания.
Поеживаясь, он открыл кран. Звонкая струя ударилась о раковину, острые брызги морозно кольнули Мишины плечи.
Да, холодновата еще водичка… Конечно, он твердо решил с первого же дня каникул начать холодные обтирания, но… ведь их распустили на каникулы на две недели раньше. Каникулы должны быть с первого июня, а теперь только пятнадцатое мая. Разве он виноват, что школу начали ремонтировать? Решено: он будет обтираться с первого июня. И Миша снова надел рубашку…
Причесываясь перед зеркалом, он начал рассматривать свое лицо…
Нехороший у него подбородок! Вот если бы нижняя челюсть выдавалась вперед, то он обладал бы большой силой воли. Это еще у Джека Лондона написано. А ему совершенно необходимо обладать сильной волей. Ведь факт, что он сегодня смалодушничал с обтиранием. И так каждый раз.
Начал вести дневник, тетрадь завел, разрисовал ее, а потом бросил – не хватило терпения. Решил делать утреннюю гимнастику, даже гантели купил, и тоже бросил – то в школу надо поскорей, то еще что-нибудь, а попросту говоря, лень. И вообще, задумает что-нибудь такое и начинает откладывать: до понедельника, до первого числа, до нового учебного года… Нет! Это просто слабоволие и бесхарактерность. Безобразие! Пора, в конце концов, избавиться от этого!
Миша выпятил челюсть. Вот такой подбородок должен быть у человека с сильной волей. Нужно все время так держать зубы, и постепенно нижняя челюсть выпятится вперед…
На столе дымилась картошка. Рядом, на тарелке, лежали два ломтика черного хлеба – сегодняшний дневной паек.
Миша разделил свою порцию на три части – завтрак, обед, ужин – и взял один кусочек. Он был настолько мал, что Миша и не заметил, как съел его. Взять, что ли, второй? Поужинать можно и без хлеба… Нет! Нельзя! Если он съест сейчас хлеб, то вечером мама обязательно отдаст ему свою порцию и сама останется без хлеба…
Миша положил обратно хлеб и решительно выдвинул далеко вперед свою нижнюю челюсть. Но он в это время жевал горячую картошку и, выдвинув челюсть, больно прикусил себе язык.
Глава 16
Книжный шкаф
После завтрака Миша собрался уйти, но мама остановила его:
– Ты куда?
– Пойду пройдусь.
– На двор?
– Да… и на двор зайду.
– А книги кто уберет?
– Но, мама, мне сейчас абсолютно некогда.
– Значит, я должна за тобой убирать?
– Ладно, – пробурчал Миша. – Ты всегда так: пристанешь, когда у меня каждая минута рассчитана!
В шкафу Мишина полка вторая снизу. Вообще шкаф книжный, но он используется и под белье, и под посуду. Другого шкафа у них нет.
Миша вытащил книги, подмел полку сапожной щеткой, покрыл газетой «Экономическая жизнь». Затем уселся на полу и, разбирая книги, начал их в порядке устанавливать.
Первыми он поставил два тома энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Это самые ценные книги. Если иметь все восемьдесят два тома, то и в школу ходить не надо: выучил весь словарь, вот и получил высшее образование.
За Брокгаузом становятся: «Мир приключений» в двух томах, собрание сочинений Н. В. Гоголя в одном томе, Толстой – «Детство, отрочество и юность», Марк Твен – «Приключения Тома Сойера».
А это что? Гм! Чарская… «Княжна Джаваха»… Ерунда! Слезливая девчоночья книга. Только переплет красивый. Нужно выменять ее у Славки на другую. Славка любит книги в красивых переплетах.
С книгой в руке Миша влез на подоконник и открыл окно. Шум и грохот улицы ворвались в комнату. Во все стороны расползалась громада разноэтажных зданий. Решетчатые железные балконы казались прилепленными к ним, как и тонкие пожарные лестницы. Москва-река текла извилистой голубой лентой, перехваченной черными кольцами мостов. Золотой купол храма Спасителя сиял тысячью солнц, и за ним Кремль устремлял к небу острые верхушки своих башен.
Миша высунулся из окна, повернул голову ко второму корпусу и крикнул:
– Славка-а-а!..
В окне третьего этажа появился Слава – болезненный мальчик с бледным лицом и тонкими, длинными пальцами. Его дразнили «буржуем». Дразнили за то, что он носил бант, играл на рояле и никогда не дрался. Его мать была известной певицей, а отец – главным инженером фабрики имени Свердлова, той самой фабрики, где работали Мишина мама, Генкина тетка и многие жильцы этого дома. Фабрика долго не работала, а теперь готовится к пуску.
– Славка, – крикнул Миша, – давай меняться! – Он потряс книгой. – Шикарная вещь! «Княжна Джаваха». Зачитаешься!
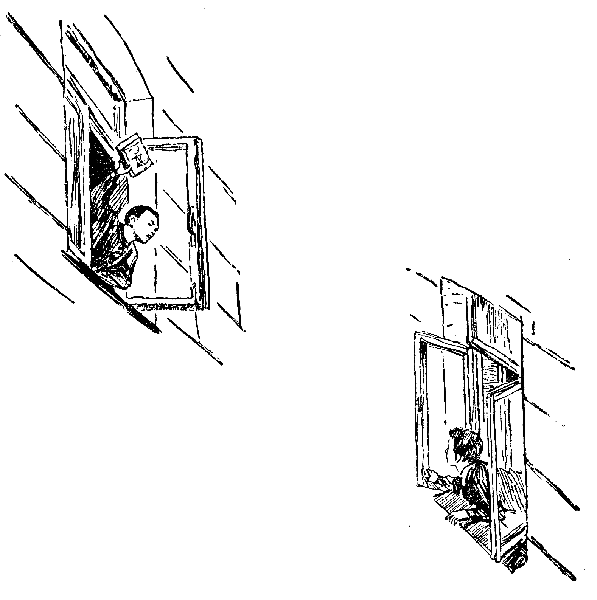 – Нет! – крикнул Слава. – У меня есть эта книга.
– Нет! – крикнул Слава. – У меня есть эта книга.
– Неважно. Смотри, какая обложечка! А? Ты мне дай «Овода».
– Нет!
– Ну и не надо! Потом сам попросишь, но уже не получишь…
– Ты когда во двор придешь? – спросил Слава.
– Скоро.
– Приходи к Генке, я у него буду.
– Ладно.
Миша слез с окна, поставил книгу на полку. Пусть постоит. Осенью в школе он ее обменяет.
Вот это книжечки! «Кожаный чулок», «Всадник без головы», «Восемьдесят тысяч верст под водой», «В дебрях Африки», «Остров сокровищ»… Ковбои, прерии, индейцы, скальпы, мустанги…
Так. Теперь учебники: Киселев, Рыбкин, Краевич, Шапошников и Вальцев, Глезер и Петцольд… В прошлом году их редко приходилось открывать. В школе не было дров, в замерзших пальцах не держался мел. Ребята ходили туда из-за пустых, но горячих даровых щей. Это была суровая и голодная зима тысяча девятьсот двадцать первого года.
Миша уложил тетради, альбом с марками, циркуль с погнутой иглой, треугольник со стертыми делениями, транспортир.
Потом, покосившись на мать, пощупал свой тайный сверток, спрятанный за связкой старых приложений к журналу «Нива».
Кортик на месте. Миша чувствовал сквозь тряпку твердую сталь его клинка.
Где теперь Полевой? Он прислал одно письмо, и больше от него ничего не было. Но он приедет, обязательно приедет. Война, правда, кончена, но не совсем. Только весной выгнали белофиннов из Карелии. На Дальнем Востоке наши дерутся с японцами. И вообще, Антанта готовит новую войну. По всему видно.
Вот Никитский, наверно, убит. Или удрал за границу, как другие белые офицеры. Ножны остались у него, и тайна кортика никогда не откроется.
Миша задумался. Кто все-таки этот Филин, завскладом, Борькин отец? Не тот ли это Филин, о котором говорил ему Полевой? Он, кажется, из Ревска… кажется… Миша несколько раз спрашивал об этом маму, но мама точно не знает, а вот Агриппина Тихоновна, Генкина тетка, как будто знает.
Когда Миша как бы невзначай спросил ее о Филине, она плюнула и сердито загудела: «Не знаю и знать не хочу… Дрянной человек… Вся их порода такая…» Больше ничего Агриппина Тихоновна не сказала, но раз она упомянула про «породу» – значит, она что-то знает… Да разве у нее что-нибудь добьешься! Она самая строгая женщина в доме. Высокая такая, полная. Все ее боятся, даже управдом. Он льстиво называет ее «наша обширнейшая Агриппина Тихоновна». К тому же «делегатка» – самая главная женщина на фабрике. Один только Генка ее не боится: чуть что, начинает собираться обратно в Ревск. Ну, Агриппина Тихоновна, конечно, на попятную.
…Да, как же узнать про Филина? И как это он тогда не догадался спросить у Полевого его имя, отчество!..
Миша вздохнул, тщательно запрятал кортик за журналы, закрыл шкаф и отправился к Генке.
– Ты куда?
– Пойду пройдусь.
– На двор?
– Да… и на двор зайду.
– А книги кто уберет?
– Но, мама, мне сейчас абсолютно некогда.
– Значит, я должна за тобой убирать?
– Ладно, – пробурчал Миша. – Ты всегда так: пристанешь, когда у меня каждая минута рассчитана!
В шкафу Мишина полка вторая снизу. Вообще шкаф книжный, но он используется и под белье, и под посуду. Другого шкафа у них нет.
Миша вытащил книги, подмел полку сапожной щеткой, покрыл газетой «Экономическая жизнь». Затем уселся на полу и, разбирая книги, начал их в порядке устанавливать.
Первыми он поставил два тома энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Это самые ценные книги. Если иметь все восемьдесят два тома, то и в школу ходить не надо: выучил весь словарь, вот и получил высшее образование.
За Брокгаузом становятся: «Мир приключений» в двух томах, собрание сочинений Н. В. Гоголя в одном томе, Толстой – «Детство, отрочество и юность», Марк Твен – «Приключения Тома Сойера».
А это что? Гм! Чарская… «Княжна Джаваха»… Ерунда! Слезливая девчоночья книга. Только переплет красивый. Нужно выменять ее у Славки на другую. Славка любит книги в красивых переплетах.
С книгой в руке Миша влез на подоконник и открыл окно. Шум и грохот улицы ворвались в комнату. Во все стороны расползалась громада разноэтажных зданий. Решетчатые железные балконы казались прилепленными к ним, как и тонкие пожарные лестницы. Москва-река текла извилистой голубой лентой, перехваченной черными кольцами мостов. Золотой купол храма Спасителя сиял тысячью солнц, и за ним Кремль устремлял к небу острые верхушки своих башен.
Миша высунулся из окна, повернул голову ко второму корпусу и крикнул:
– Славка-а-а!..
В окне третьего этажа появился Слава – болезненный мальчик с бледным лицом и тонкими, длинными пальцами. Его дразнили «буржуем». Дразнили за то, что он носил бант, играл на рояле и никогда не дрался. Его мать была известной певицей, а отец – главным инженером фабрики имени Свердлова, той самой фабрики, где работали Мишина мама, Генкина тетка и многие жильцы этого дома. Фабрика долго не работала, а теперь готовится к пуску.
– Славка, – крикнул Миша, – давай меняться! – Он потряс книгой. – Шикарная вещь! «Княжна Джаваха». Зачитаешься!
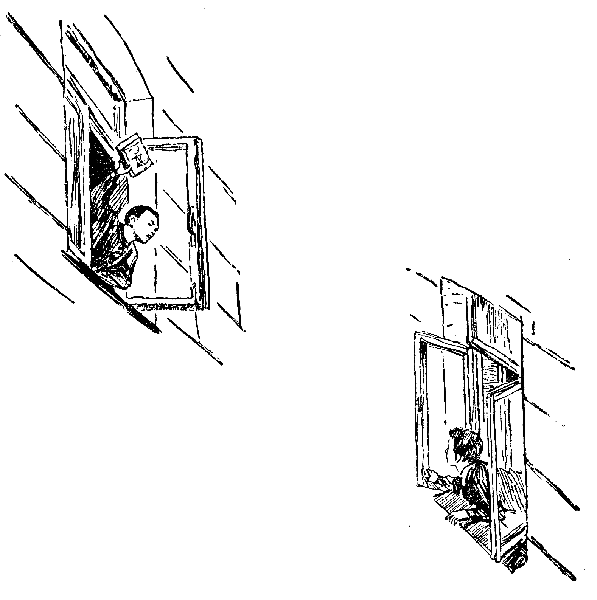
– Неважно. Смотри, какая обложечка! А? Ты мне дай «Овода».
– Нет!
– Ну и не надо! Потом сам попросишь, но уже не получишь…
– Ты когда во двор придешь? – спросил Слава.
– Скоро.
– Приходи к Генке, я у него буду.
– Ладно.
Миша слез с окна, поставил книгу на полку. Пусть постоит. Осенью в школе он ее обменяет.
Вот это книжечки! «Кожаный чулок», «Всадник без головы», «Восемьдесят тысяч верст под водой», «В дебрях Африки», «Остров сокровищ»… Ковбои, прерии, индейцы, скальпы, мустанги…
Так. Теперь учебники: Киселев, Рыбкин, Краевич, Шапошников и Вальцев, Глезер и Петцольд… В прошлом году их редко приходилось открывать. В школе не было дров, в замерзших пальцах не держался мел. Ребята ходили туда из-за пустых, но горячих даровых щей. Это была суровая и голодная зима тысяча девятьсот двадцать первого года.
Миша уложил тетради, альбом с марками, циркуль с погнутой иглой, треугольник со стертыми делениями, транспортир.
Потом, покосившись на мать, пощупал свой тайный сверток, спрятанный за связкой старых приложений к журналу «Нива».
Кортик на месте. Миша чувствовал сквозь тряпку твердую сталь его клинка.
Где теперь Полевой? Он прислал одно письмо, и больше от него ничего не было. Но он приедет, обязательно приедет. Война, правда, кончена, но не совсем. Только весной выгнали белофиннов из Карелии. На Дальнем Востоке наши дерутся с японцами. И вообще, Антанта готовит новую войну. По всему видно.
Вот Никитский, наверно, убит. Или удрал за границу, как другие белые офицеры. Ножны остались у него, и тайна кортика никогда не откроется.
Миша задумался. Кто все-таки этот Филин, завскладом, Борькин отец? Не тот ли это Филин, о котором говорил ему Полевой? Он, кажется, из Ревска… кажется… Миша несколько раз спрашивал об этом маму, но мама точно не знает, а вот Агриппина Тихоновна, Генкина тетка, как будто знает.
Когда Миша как бы невзначай спросил ее о Филине, она плюнула и сердито загудела: «Не знаю и знать не хочу… Дрянной человек… Вся их порода такая…» Больше ничего Агриппина Тихоновна не сказала, но раз она упомянула про «породу» – значит, она что-то знает… Да разве у нее что-нибудь добьешься! Она самая строгая женщина в доме. Высокая такая, полная. Все ее боятся, даже управдом. Он льстиво называет ее «наша обширнейшая Агриппина Тихоновна». К тому же «делегатка» – самая главная женщина на фабрике. Один только Генка ее не боится: чуть что, начинает собираться обратно в Ревск. Ну, Агриппина Тихоновна, конечно, на попятную.
…Да, как же узнать про Филина? И как это он тогда не догадался спросить у Полевого его имя, отчество!..
Миша вздохнул, тщательно запрятал кортик за журналы, закрыл шкаф и отправился к Генке.
Глава 17
Генка
Генка и Слава играли в шахматы. Доска с фигурами лежала на стуле. Слава стоял. Генка сидел на краю широкой кровати, покрытой стеганым одеялом, с высокой пирамидой подушек, доходившей своей верхушкой до маленькой иконки, висевшей под самым потолком.
Агриппина Тихоновна, Генкина тетка, раскатывала на столе тесто. Она, видимо, была чем-то недовольна и сурово посмотрела на вошедшего в комнату Мишу.
– Где ты пропадал? – крикнул Генка. – Гляди, я сейчас сделаю Славке мат в три хода… Сейчас я его: айн, цвай, драй…
– «Цвай, драй»! – загудела вдруг Агриппина Тихоновна. – Слезай с кровати! Нашел место!
Генка сделал легкое движение, показывающее, что он слезает с кровати.
– Не ерзай, а слезай! Я кому говорю?
Агриппина Тихоновна начала яростно раскатывать тесто, потом снова загудела:
– Стыд и срам! Взрослый парень, а туда же – капусту изрезал, весь вилок испортил! Отвечай: зачем изрезал?
– Отвечаю: кочерыжку доставал. Она вам все равно ни к чему.
– Так не мог ты, дурная твоя голова, осторожно резать? Вилок-то я на голубцы приготовила, а ты весь лист испортил.
– Голубцы, тетя, – лениво ответил Генка, обдумывая ход, – голубцы, тетя, это мещанский предрассудок. Мы не какие-нибудь нэпманы, чтобы голубцы есть. И потом, какие же это голубцы с пшенной кашей? Были бы хоть с мясом.
– Ты меня еще учить будешь!
– Честное слово, тетя, я вам удивляюсь, – продолжал разглагольствовать Генка, не отрывая глаз от шахмат. – Вы, можно сказать, такой видный человек, а волнуетесь из-за какой-то несчастной кочерыжки, здоровье свое расстраиваете.
– Не тебе о моем здоровье беспокоиться, – проворчала Агриппина Тихоновна, разрезая тесто на лапшу. – Довольно, молчи! Молчи, а то вот этой скалки отведаешь.
– Я молчу. А скалкой не грозитесь, все равно не ударите.
– Это почему? – Агриппина Тихоновна угрожающе выпрямилась во весь свой могучий рост.
– Не ударите.
– Почему не ударю, спрашиваю я тебя?
– Почему? – Генка поднял пешку и задумчиво держал ее в руке. – Потому что вы меня любите, тетенька, любите и уважаете…
– Дурень, ну, право, дурень! – засмеялась Агриппина Тихоновна. – Ну почему ты такой дурень?
– Мат! – объявил вдруг Слава.
– Где? Где? Где мат? – заволновался Генка. – Правда… Вот видите, тетя, – добавил он плачущим голосом, – из-за ваших голубцов верную партию проиграл!
– Невелика беда! – сказала Агриппина Тихоновна и вышла в кухню.
– Что ты, Генка, все время с теткой ссоришься? – сказал Слава. – Как тебе не стыдно!
– Я? Ссорюсь? Что ты! Это разве ссора? У нее такая манера разговаривать – и всё. – Генка снова начал расставлять фигуры на доске. – Давай сыграем, Миша.
– Нет, – сказал Миша, – пошли во двор… Чего дома сидеть!
Генка сложил шахматы, закрыл доску, и мальчики побежали во двор.
Агриппина Тихоновна, Генкина тетка, раскатывала на столе тесто. Она, видимо, была чем-то недовольна и сурово посмотрела на вошедшего в комнату Мишу.
– Где ты пропадал? – крикнул Генка. – Гляди, я сейчас сделаю Славке мат в три хода… Сейчас я его: айн, цвай, драй…
– «Цвай, драй»! – загудела вдруг Агриппина Тихоновна. – Слезай с кровати! Нашел место!
Генка сделал легкое движение, показывающее, что он слезает с кровати.
– Не ерзай, а слезай! Я кому говорю?
Агриппина Тихоновна начала яростно раскатывать тесто, потом снова загудела:
– Стыд и срам! Взрослый парень, а туда же – капусту изрезал, весь вилок испортил! Отвечай: зачем изрезал?
– Отвечаю: кочерыжку доставал. Она вам все равно ни к чему.
– Так не мог ты, дурная твоя голова, осторожно резать? Вилок-то я на голубцы приготовила, а ты весь лист испортил.
– Голубцы, тетя, – лениво ответил Генка, обдумывая ход, – голубцы, тетя, это мещанский предрассудок. Мы не какие-нибудь нэпманы, чтобы голубцы есть. И потом, какие же это голубцы с пшенной кашей? Были бы хоть с мясом.
– Ты меня еще учить будешь!
– Честное слово, тетя, я вам удивляюсь, – продолжал разглагольствовать Генка, не отрывая глаз от шахмат. – Вы, можно сказать, такой видный человек, а волнуетесь из-за какой-то несчастной кочерыжки, здоровье свое расстраиваете.
– Не тебе о моем здоровье беспокоиться, – проворчала Агриппина Тихоновна, разрезая тесто на лапшу. – Довольно, молчи! Молчи, а то вот этой скалки отведаешь.
– Я молчу. А скалкой не грозитесь, все равно не ударите.
– Это почему? – Агриппина Тихоновна угрожающе выпрямилась во весь свой могучий рост.
– Не ударите.
– Почему не ударю, спрашиваю я тебя?
– Почему? – Генка поднял пешку и задумчиво держал ее в руке. – Потому что вы меня любите, тетенька, любите и уважаете…
– Дурень, ну, право, дурень! – засмеялась Агриппина Тихоновна. – Ну почему ты такой дурень?
– Мат! – объявил вдруг Слава.
– Где? Где? Где мат? – заволновался Генка. – Правда… Вот видите, тетя, – добавил он плачущим голосом, – из-за ваших голубцов верную партию проиграл!
– Невелика беда! – сказала Агриппина Тихоновна и вышла в кухню.
– Что ты, Генка, все время с теткой ссоришься? – сказал Слава. – Как тебе не стыдно!
– Я? Ссорюсь? Что ты! Это разве ссора? У нее такая манера разговаривать – и всё. – Генка снова начал расставлять фигуры на доске. – Давай сыграем, Миша.
– Нет, – сказал Миша, – пошли во двор… Чего дома сидеть!
Генка сложил шахматы, закрыл доску, и мальчики побежали во двор.
Глава 18
Борька-жила
Уже май, но снег на заднем дворе еще не сошел.
Наваленные за зиму сугробы осели, почернели, сжались, но, защищенные восемью этажами тесно стоящих зданий, не сдавались солнцу, которое изредка вползало во двор и дремало на узкой полоске асфальта, на белых квадратах «классов», где прыгали девочки.
Потом солнце поднималось, лениво карабкалось по стене все выше и выше, пока не скрывалось за домами, и только вспученные расщелины асфальта еще долго выдыхали из земли теплый волнующий запах.
Мальчики играли царскими медяками в пристеночек. Генка изо всех сил расставлял пальцы, чтобы дотянуться от своей монеты до Мишкиной.
– Нет, не достанешь, – говорил Миша, – не достанешь… Бей, Жила, твоя очередь.
– Мы вдарим, – бормотал Борька, прицеливаясь на Славину монету, – мы вдарим… Есть! – Его широкий сплюснутый пятак покрыл Славин. – Гони копейку, буржуй!
Слава покраснел:
– Я уже всё проиграл. За мной будет.
– Что же ты в игру лезешь? – закричал Борька. – Здесь в долг не играют. Давай деньги!
– Я ведь сказал тебе – нету. Отыграю и отдам.
– Ах так?! – Борька схватил Славин пятак. – Отдашь долг – тогда получишь обратно.
– Какое ты имеешь право? – Славин голос дрожал от волнения, на бледных щеках выступил румянец. – Какое ты имеешь право это делать?
– Значит, имею, – бормотал Борька, пряча пятак в карман. – Будешь знать в другой раз.
Миша протянул Борьке копейку:
– На, отдай ему биту… А ты, Славка, не имеешь денег – так не играй.
– Не возьму, – мотнул головой Борька, – чужие не возьму. Пусть он сам отдает.
– Зажилить хочешь?
– Может, хочу…
– Не выйдет. Отдай Славке биту!
– А тебе чего? – ощерился Борька. – Ты здесь что за хозяин?
– Не отдашь? – Миша вплотную придвинулся к Борьке.
– Дай ему, Мишка! – крикнул Генка и тоже подступил к Борьке.
Но Миша отстранил его:
– Постой, Генка, я сам… Ну, последний раз спрашиваю: отдашь?
Борька отступил на шаг, отвел глаза. Брошенный им пятак зазвенел на камнях.
– На, пусть подавится! Подумаешь, какой заступник нашелся…
Он отошел в сторону, бросая на Мишу злобные взгляды.
Игра расстроилась. Мальчики сидели возле стены на теплом асфальте и грелись на солнце.
В верхушках чахлых деревьев путался звон колоколов, доносившийся из церкви Николы на Плотниках. На протянутых от дерева к дереву веревках трепетало развешанное для сушки белье; деревянные прищепки вздрагивали, наклоняясь то в одну, то в другую сторону. Какая-то бесстрашная женщина стояла на подоконнике в пятом этаже и, держась рукой за раму, мыла окно.
Миша сидел на сложенных во дворе ржавых батареях парового отопления и насмешливо посматривал на Борьку. Сорвалось! Не удалось прикарманить чужие деньги. Недаром его Жилой зовут! Торгует на Смоленском папиросами врассыпную и ирисками, которые для блеска облизывает языком. И отец его, Филин, завскладом, – такой же спекулянт…
А Борька как ни в чем не бывало рассказывал ребятам о попрыгунчиках.
– Закутается такой попрыгунчик в простыню, – шмыгая носом, говорил Борька, – во рту электрическая лампочка, на ногах пружины. Прыгнет с улицы прямо в пятый этаж и грабит всех подряд. И через дома прыгает. Только милиция к нему, а он скок – и уже на другой улице.
– А ну тебя! – Миша пренебрежительно махнул рукой. – Болтун ты, и больше ничего. «Попрыгунчики»… – передразнил он Борьку. – Ты еще про подвал расскажи, про мертвецов своих.
– А что, – сказал Борька, – в подвале мертвецы живут. Там раньше кладбище было. Они кричат и стонут по ночам, аж страшно.
– Ничего нет в твоем подвале, – возразил Миша. – Ты все это своей бабушке расскажи. А то «кладбище», «мертвецы»…
– Нет, есть кладбище, – настаивал Борька. – Там и подземный ход есть под всю Москву. Его Иван Грозный построил.
Все рассмеялись. Миша сказал:
– Иван Грозный жил четыреста лет назад, а наш дом всего десять лет как построен. Уж врал бы, да не завирался.
– Я вру? – Борька ехидно улыбнулся. – Пойдем со мной в подвал. Я тебе и мертвецов, и подземный ход – всё покажу.
– Не ходи, Мишка, – сказал Генка, – он тебя заведет, а потом будет разыгрывать.
Это была обычная Борькина проделка. Он один из всех ребят знал вдоль и поперек подвал – громадное мрачное помещение под домом. Он заводил туда кого-нибудь из мальчиков и вдруг замолкал. В темноте, не имея никакой ориентировки, спутник тщетно взывал к нему. Борька не откликался. И, только помучив свою жертву и выговорив себе какую-нибудь мзду, Борька выводил его из подвала.
– Дураков нет, – продолжал Генка, уже попадавшийся на эту удочку. – Ползай сам по своему подвалу.
– Как хотите, – с деланным равнодушием произнес Борька. – Испугались – так и не надо.
 Миша вспыхнул:
Миша вспыхнул:
– Это ты про кого?
– Про того, кто в подвал боится идти.
– Ах так… – Миша встал. – Пошли!
Они вышли на первый двор, спустились в подвал и осторожно пошли по нему, касаясь руками скользких стен. Борька – впереди, Миша – за ним. Под их ногами осыпалась земля и звенел по временам кусочек жести или стекла.
Миша отлично понимал, что Борька хочет его разыграть. Ладно, посмотрим, кто кого разыграет…
Они двигались в совершенной темноте, и вот, когда они уже далеко углубились внутрь подвала, Борька вдруг затих.
«Так, начинается», – подумал Миша и, стараясь говорить возможно спокойней, спросил:
– Ну, скоро твои мертвецы покажутся?
Голос его глухо отдавался в подземелье и, дробясь, затихал где-то в дальних, невидимых углах.
Борька не отвечал, хотя его присутствие чувствовалось где-то совсем близко. Миша тоже больше не окликал его.
Так прошло несколько томительных минут. Оба мальчика затаили дыхание. Каждый ждал, кто первый подаст голос. Потом Миша тихонько повернулся и пошел назад, нащупывая руками повороты. Ничего, он сам найдет дорогу, а как выберется отсюда, закроет дверь и продержит здесь Борьку с полчасика. Вперед ему наука будет…
Миша тихонько шел. Позади себя он слышал шорох: Борька осторожно крался за ним. Ага, не выдержал! Не захотел один оставаться.
Миша продолжал двигаться по подвалу. Нет! Не туда он идет! Проход должен расширяться, а он, наоборот, сужается. Но Миша все шел и шел. Как Борька видит в такой темноте? А вдруг Борька оставит его здесь одного и он не найдет дороги? Жутковато все же.
Проход стал совсем узким. Мишино плечо коснулось противоположной стены. Он остановился. Окликнуть Борьку? Нет, ни за что… Он поднял руку и нащупал холодную железную трубу. Где-то журчала вода. Вдруг сильный шорох раздался над его головой. Ему показалось, что какая-то огромная жаба бросилась на него. Он метнулся вперед, ноги его провалились в пустоту, и он полетел куда-то вниз…
Когда прошел первый испуг, он поднялся. Падение не причинило ему вреда. Здесь светлей. Смутно видны серые неровные стены. Это узкий проход, расположенный перпендикулярно к тому, по которому шел Миша, приблизительно на пол-аршина ниже его.
– Мишка-а! – послышался голос. В верхнем коридоре зачернела Борькина фигура. – Миша! Ты где?
Миша не откликался. Ага! Заговорил! Пусть поищет.
Миша прижался к стене и молчал.
– Миша, Миша, ты где? – беспокойно бормотал Борька, высунув голову и осматривая проход. – Что же ты молчишь? Мишк…
– Где твой подземный ход? – насмешливо спросил Миша. – Где мертвецы? Показывай!
– Это и есть подземный ход, – зашептал Борька, – только туда нельзя ходить. Там самые гробы с мертвецами стоят.
– Боюсь я твоих мертвецов! – Миша двинулся по проходу.
Но Борька схватил его за плечо.
– Смотри, Мишка, – волнуясь, зашептал он, – говорю тебе, идем назад, а то хуже будет…
– Что ты меня пугаешь?
– А ты не ходи. Мы без фонаря все равно ничего не найдем. Я завтра фонарь достану, тогда пойдем.
– Не обманешь? Знаю я тебя!
– Ей-богу! Чтоб мне провалиться на этом месте! А не пойдешь назад, смотри: уйду и не вернусь. Пропадай здесь.
– Испугался я очень, – презрительно ответил Миша, но пополз вслед за Борькой обратно.
Они вышли из подвала. Ослепительное солнце ударило им в глаза.
– Так смотри, – сказал Миша, – завтра утром.
– Всё, – ответил Борька, – договорились.
Наваленные за зиму сугробы осели, почернели, сжались, но, защищенные восемью этажами тесно стоящих зданий, не сдавались солнцу, которое изредка вползало во двор и дремало на узкой полоске асфальта, на белых квадратах «классов», где прыгали девочки.
Потом солнце поднималось, лениво карабкалось по стене все выше и выше, пока не скрывалось за домами, и только вспученные расщелины асфальта еще долго выдыхали из земли теплый волнующий запах.
Мальчики играли царскими медяками в пристеночек. Генка изо всех сил расставлял пальцы, чтобы дотянуться от своей монеты до Мишкиной.
– Нет, не достанешь, – говорил Миша, – не достанешь… Бей, Жила, твоя очередь.
– Мы вдарим, – бормотал Борька, прицеливаясь на Славину монету, – мы вдарим… Есть! – Его широкий сплюснутый пятак покрыл Славин. – Гони копейку, буржуй!
Слава покраснел:
– Я уже всё проиграл. За мной будет.
– Что же ты в игру лезешь? – закричал Борька. – Здесь в долг не играют. Давай деньги!
– Я ведь сказал тебе – нету. Отыграю и отдам.
– Ах так?! – Борька схватил Славин пятак. – Отдашь долг – тогда получишь обратно.
– Какое ты имеешь право? – Славин голос дрожал от волнения, на бледных щеках выступил румянец. – Какое ты имеешь право это делать?
– Значит, имею, – бормотал Борька, пряча пятак в карман. – Будешь знать в другой раз.
Миша протянул Борьке копейку:
– На, отдай ему биту… А ты, Славка, не имеешь денег – так не играй.
– Не возьму, – мотнул головой Борька, – чужие не возьму. Пусть он сам отдает.
– Зажилить хочешь?
– Может, хочу…
– Не выйдет. Отдай Славке биту!
– А тебе чего? – ощерился Борька. – Ты здесь что за хозяин?
– Не отдашь? – Миша вплотную придвинулся к Борьке.
– Дай ему, Мишка! – крикнул Генка и тоже подступил к Борьке.
Но Миша отстранил его:
– Постой, Генка, я сам… Ну, последний раз спрашиваю: отдашь?
Борька отступил на шаг, отвел глаза. Брошенный им пятак зазвенел на камнях.
– На, пусть подавится! Подумаешь, какой заступник нашелся…
Он отошел в сторону, бросая на Мишу злобные взгляды.
Игра расстроилась. Мальчики сидели возле стены на теплом асфальте и грелись на солнце.
В верхушках чахлых деревьев путался звон колоколов, доносившийся из церкви Николы на Плотниках. На протянутых от дерева к дереву веревках трепетало развешанное для сушки белье; деревянные прищепки вздрагивали, наклоняясь то в одну, то в другую сторону. Какая-то бесстрашная женщина стояла на подоконнике в пятом этаже и, держась рукой за раму, мыла окно.
Миша сидел на сложенных во дворе ржавых батареях парового отопления и насмешливо посматривал на Борьку. Сорвалось! Не удалось прикарманить чужие деньги. Недаром его Жилой зовут! Торгует на Смоленском папиросами врассыпную и ирисками, которые для блеска облизывает языком. И отец его, Филин, завскладом, – такой же спекулянт…
А Борька как ни в чем не бывало рассказывал ребятам о попрыгунчиках.
– Закутается такой попрыгунчик в простыню, – шмыгая носом, говорил Борька, – во рту электрическая лампочка, на ногах пружины. Прыгнет с улицы прямо в пятый этаж и грабит всех подряд. И через дома прыгает. Только милиция к нему, а он скок – и уже на другой улице.
– А ну тебя! – Миша пренебрежительно махнул рукой. – Болтун ты, и больше ничего. «Попрыгунчики»… – передразнил он Борьку. – Ты еще про подвал расскажи, про мертвецов своих.
– А что, – сказал Борька, – в подвале мертвецы живут. Там раньше кладбище было. Они кричат и стонут по ночам, аж страшно.
– Ничего нет в твоем подвале, – возразил Миша. – Ты все это своей бабушке расскажи. А то «кладбище», «мертвецы»…
– Нет, есть кладбище, – настаивал Борька. – Там и подземный ход есть под всю Москву. Его Иван Грозный построил.
Все рассмеялись. Миша сказал:
– Иван Грозный жил четыреста лет назад, а наш дом всего десять лет как построен. Уж врал бы, да не завирался.
– Я вру? – Борька ехидно улыбнулся. – Пойдем со мной в подвал. Я тебе и мертвецов, и подземный ход – всё покажу.
– Не ходи, Мишка, – сказал Генка, – он тебя заведет, а потом будет разыгрывать.
Это была обычная Борькина проделка. Он один из всех ребят знал вдоль и поперек подвал – громадное мрачное помещение под домом. Он заводил туда кого-нибудь из мальчиков и вдруг замолкал. В темноте, не имея никакой ориентировки, спутник тщетно взывал к нему. Борька не откликался. И, только помучив свою жертву и выговорив себе какую-нибудь мзду, Борька выводил его из подвала.
– Дураков нет, – продолжал Генка, уже попадавшийся на эту удочку. – Ползай сам по своему подвалу.
– Как хотите, – с деланным равнодушием произнес Борька. – Испугались – так и не надо.

– Это ты про кого?
– Про того, кто в подвал боится идти.
– Ах так… – Миша встал. – Пошли!
Они вышли на первый двор, спустились в подвал и осторожно пошли по нему, касаясь руками скользких стен. Борька – впереди, Миша – за ним. Под их ногами осыпалась земля и звенел по временам кусочек жести или стекла.
Миша отлично понимал, что Борька хочет его разыграть. Ладно, посмотрим, кто кого разыграет…
Они двигались в совершенной темноте, и вот, когда они уже далеко углубились внутрь подвала, Борька вдруг затих.
«Так, начинается», – подумал Миша и, стараясь говорить возможно спокойней, спросил:
– Ну, скоро твои мертвецы покажутся?
Голос его глухо отдавался в подземелье и, дробясь, затихал где-то в дальних, невидимых углах.
Борька не отвечал, хотя его присутствие чувствовалось где-то совсем близко. Миша тоже больше не окликал его.
Так прошло несколько томительных минут. Оба мальчика затаили дыхание. Каждый ждал, кто первый подаст голос. Потом Миша тихонько повернулся и пошел назад, нащупывая руками повороты. Ничего, он сам найдет дорогу, а как выберется отсюда, закроет дверь и продержит здесь Борьку с полчасика. Вперед ему наука будет…
Миша тихонько шел. Позади себя он слышал шорох: Борька осторожно крался за ним. Ага, не выдержал! Не захотел один оставаться.
Миша продолжал двигаться по подвалу. Нет! Не туда он идет! Проход должен расширяться, а он, наоборот, сужается. Но Миша все шел и шел. Как Борька видит в такой темноте? А вдруг Борька оставит его здесь одного и он не найдет дороги? Жутковато все же.
Проход стал совсем узким. Мишино плечо коснулось противоположной стены. Он остановился. Окликнуть Борьку? Нет, ни за что… Он поднял руку и нащупал холодную железную трубу. Где-то журчала вода. Вдруг сильный шорох раздался над его головой. Ему показалось, что какая-то огромная жаба бросилась на него. Он метнулся вперед, ноги его провалились в пустоту, и он полетел куда-то вниз…
Когда прошел первый испуг, он поднялся. Падение не причинило ему вреда. Здесь светлей. Смутно видны серые неровные стены. Это узкий проход, расположенный перпендикулярно к тому, по которому шел Миша, приблизительно на пол-аршина ниже его.
– Мишка-а! – послышался голос. В верхнем коридоре зачернела Борькина фигура. – Миша! Ты где?
Миша не откликался. Ага! Заговорил! Пусть поищет.
Миша прижался к стене и молчал.
– Миша, Миша, ты где? – беспокойно бормотал Борька, высунув голову и осматривая проход. – Что же ты молчишь? Мишк…
– Где твой подземный ход? – насмешливо спросил Миша. – Где мертвецы? Показывай!
– Это и есть подземный ход, – зашептал Борька, – только туда нельзя ходить. Там самые гробы с мертвецами стоят.
– Боюсь я твоих мертвецов! – Миша двинулся по проходу.
Но Борька схватил его за плечо.
– Смотри, Мишка, – волнуясь, зашептал он, – говорю тебе, идем назад, а то хуже будет…
– Что ты меня пугаешь?
– А ты не ходи. Мы без фонаря все равно ничего не найдем. Я завтра фонарь достану, тогда пойдем.
– Не обманешь? Знаю я тебя!
– Ей-богу! Чтоб мне провалиться на этом месте! А не пойдешь назад, смотри: уйду и не вернусь. Пропадай здесь.
– Испугался я очень, – презрительно ответил Миша, но пополз вслед за Борькой обратно.
Они вышли из подвала. Ослепительное солнце ударило им в глаза.
– Так смотри, – сказал Миша, – завтра утром.
– Всё, – ответил Борька, – договорились.
Глава 19
Шурка Большой
На заднем дворе появился Шура Огуреев, или, как его называли ребята, Шурка Большой, самый высокий во дворе мальчик. Он считался великим артистом и состоял членом драмкружка клуба. Клуб этот находился в подвальном помещении первого корпуса и принадлежал домкому. Ребят туда не пускали, кроме Шурки Большого, который по этому поводу очень важничал.
– А, Столбу Верстовичу! – приветствовал его Миша.
Шура бросил на него полный достоинства взгляд:
– Что это у тебя за ребяческие выходки! Я думал, что ты уже вышел из детского возраста.
– Ишь ты, какой серьезный! – сказал Генка. – Где это тебя так выучили? В клубе, что ли?
– Хотя бы в клубе. – Шура сделал многозначительную паузу. – Вам-то хорошо известно, что в клуб пускают только взрослых.
– Подумаешь, какой взрослый нашелся! – сказал Миша. – Вырос, длинный как верста, вот тебя и пускают в клуб.
– Я клубный актив, – важно ответил Шура, – а тебе если завидно, так и скажи.
– Нас в клуб не пускают потому, что мы неорганизованные, – сказал Слава, – а вот, говорят, на Красной Пресне есть отряд юных коммунистов, и они имеют свой клуб.
– Да, есть, – авторитетно подтвердил Шура, – только они называются по-другому, не помню как. Но это для маленьких, а взрослые вступают в комсомол.
Шура намекал на то, что он посещает комсомольскую ячейку фабрики и собирается вступить в комсомол.
– Здорово… – задумчиво произнес Миша. – У ребят – свой отряд!
– Это, наверно, скауты, – сказал Генка. – Ты, Славка, что-нибудь путаешь.
– Нет, я не путаю. Скауты носят синие галстуки, а эти – красные.
– Красные? – переспросил Миша. – Ну, если красные, значит, они за советскую власть. И потом, ведь на Красной Пресне – какие там могут быть скауты! Самый пролетарский район.
– Да, – подтвердил Шура, – они за советскую власть.
– И у них есть свой клуб?
– А как же, – сказал Шура и неуверенно добавил: – У них у каждого есть членский билет.
– Здорово!.. – снова протянул Миша. – Как же я об этом ничего не слыхал? Ты это, Славка, откуда все знаешь?
– Мальчик один в музыкальной школе рассказывал.
– Почему же ты точно все не узнал? Как они называются, где их клуб, кого принимают…
– «Принимают»! – засмеялся Шура. – Думаете, так просто: взял и поступил. Так тебя и приняли!
– Почему же не примут?
– Не так-то просто! – Шура многозначительно покачал головой. – Сначала нужно проявить себя.
– Как это – проявить?
– Ну… вообще, – Шура сделал неопределенный жест, – показать себя… Ну вот как некоторые: работают в клубе, ходят на комсомольские собрания…
– Ладно, Шурка, – перебил его Миша, – не надо уж слишком задаваться! Ты много задаешься, а пользы от тебя никакой.
– То есть как?
– Очень просто. Ты ведь собираешься в комсомол поступить. Ну вот. Комсомольцы на фронте воевали. Теперь на заводах, на фабриках работают. А ты что? Стоишь за кулисами, толпу изображаешь… Ты вот что скажи: хочешь быть режиссером?
– Как это – режиссером? У нас режиссер товарищ Митя Сахаров.
– Он режиссер взрослого драмкружка, а мы организуем детский, тогда всех ребят будут пускать в клуб. Поставим пьесу. Сбор – в пользу голодающих Поволжья. Вот и проявим себя.
– Правильно! – сказал Слава. – Можно еще и музыкальный кружок, потом хоровой, рисовальный.
– Не позволят… – Шура с сомнением покачал головой, но по глазам его было видно, что ему очень хочется быть режиссером.
– Позволят, – настаивал Миша. – Пойдем к товарищу Мите Сахарову. Так, мол, и так: хотим организовать свой драмкружок. Разве он может нам запретить?
– А он вас в шею! – крикнул Борька, собиравший на помойке бутылки.
– Не твое дело! – Генка погрозил ему кулаком. – Торгуй своими ирисками.
– Конечно, – продолжал размышлять Шура, – это неплохо… Но по характеру своего дарования я исполнитель, а не режиссер…
– Ну и прекрасно, – сказал Миша, – раз ты исполнитель, так и будешь исполнять режиссера. Чего тут думать!
– Хорошо, – согласился наконец Шура. – Только уговор: слушаться меня во всем. В искусстве самое главное – дисциплина. Ты, Генка, будешь простаком. Ты, Славка, – героем, ну и, конечно, музыкальное оформление. Мишу предлагаю администратором. – Шурка покровительственно посмотрел на остальных ребят. – Инженю и прочие амплуа я распределю потом, после испытаний.
– А, Столбу Верстовичу! – приветствовал его Миша.
Шура бросил на него полный достоинства взгляд:
– Что это у тебя за ребяческие выходки! Я думал, что ты уже вышел из детского возраста.
– Ишь ты, какой серьезный! – сказал Генка. – Где это тебя так выучили? В клубе, что ли?
– Хотя бы в клубе. – Шура сделал многозначительную паузу. – Вам-то хорошо известно, что в клуб пускают только взрослых.
– Подумаешь, какой взрослый нашелся! – сказал Миша. – Вырос, длинный как верста, вот тебя и пускают в клуб.
– Я клубный актив, – важно ответил Шура, – а тебе если завидно, так и скажи.
– Нас в клуб не пускают потому, что мы неорганизованные, – сказал Слава, – а вот, говорят, на Красной Пресне есть отряд юных коммунистов, и они имеют свой клуб.
– Да, есть, – авторитетно подтвердил Шура, – только они называются по-другому, не помню как. Но это для маленьких, а взрослые вступают в комсомол.
Шура намекал на то, что он посещает комсомольскую ячейку фабрики и собирается вступить в комсомол.
– Здорово… – задумчиво произнес Миша. – У ребят – свой отряд!
– Это, наверно, скауты, – сказал Генка. – Ты, Славка, что-нибудь путаешь.
– Нет, я не путаю. Скауты носят синие галстуки, а эти – красные.
– Красные? – переспросил Миша. – Ну, если красные, значит, они за советскую власть. И потом, ведь на Красной Пресне – какие там могут быть скауты! Самый пролетарский район.
– Да, – подтвердил Шура, – они за советскую власть.
– И у них есть свой клуб?
– А как же, – сказал Шура и неуверенно добавил: – У них у каждого есть членский билет.
– Здорово!.. – снова протянул Миша. – Как же я об этом ничего не слыхал? Ты это, Славка, откуда все знаешь?
– Мальчик один в музыкальной школе рассказывал.
– Почему же ты точно все не узнал? Как они называются, где их клуб, кого принимают…
– «Принимают»! – засмеялся Шура. – Думаете, так просто: взял и поступил. Так тебя и приняли!
– Почему же не примут?
– Не так-то просто! – Шура многозначительно покачал головой. – Сначала нужно проявить себя.
– Как это – проявить?
– Ну… вообще, – Шура сделал неопределенный жест, – показать себя… Ну вот как некоторые: работают в клубе, ходят на комсомольские собрания…
– Ладно, Шурка, – перебил его Миша, – не надо уж слишком задаваться! Ты много задаешься, а пользы от тебя никакой.
– То есть как?
– Очень просто. Ты ведь собираешься в комсомол поступить. Ну вот. Комсомольцы на фронте воевали. Теперь на заводах, на фабриках работают. А ты что? Стоишь за кулисами, толпу изображаешь… Ты вот что скажи: хочешь быть режиссером?
– Как это – режиссером? У нас режиссер товарищ Митя Сахаров.
– Он режиссер взрослого драмкружка, а мы организуем детский, тогда всех ребят будут пускать в клуб. Поставим пьесу. Сбор – в пользу голодающих Поволжья. Вот и проявим себя.
– Правильно! – сказал Слава. – Можно еще и музыкальный кружок, потом хоровой, рисовальный.
– Не позволят… – Шура с сомнением покачал головой, но по глазам его было видно, что ему очень хочется быть режиссером.
– Позволят, – настаивал Миша. – Пойдем к товарищу Мите Сахарову. Так, мол, и так: хотим организовать свой драмкружок. Разве он может нам запретить?
– А он вас в шею! – крикнул Борька, собиравший на помойке бутылки.
– Не твое дело! – Генка погрозил ему кулаком. – Торгуй своими ирисками.
– Конечно, – продолжал размышлять Шура, – это неплохо… Но по характеру своего дарования я исполнитель, а не режиссер…
– Ну и прекрасно, – сказал Миша, – раз ты исполнитель, так и будешь исполнять режиссера. Чего тут думать!
– Хорошо, – согласился наконец Шура. – Только уговор: слушаться меня во всем. В искусстве самое главное – дисциплина. Ты, Генка, будешь простаком. Ты, Славка, – героем, ну и, конечно, музыкальное оформление. Мишу предлагаю администратором. – Шурка покровительственно посмотрел на остальных ребят. – Инженю и прочие амплуа я распределю потом, после испытаний.
Глава 20
Клуб
Клуб состоял из одного только зрительного зала и сцены. Когда не было спектакля или собрания жильцов, скамейки сдвигались к одной стороне и в разных углах клуба работали кружки.
Домашние хозяйки и домработницы учились в ликбезе. На сцене происходили репетиции драмкружка. В середине зала бильярдисты катали шары, задевая киями музыкантов струнного оркестра. Надо всем этим господствовал заведующий клубом и режиссер товарищ Митя Сахаров. Это был вечно озабоченный молодой человек в длинной порыжевшей бархатной толстовке с лоснящимся черным бантом и в узких брюках «дудочкой». У него длинный, тонкий нос и острый кадык, готовый вот-вот разрезать изнутри Митино горло. Растопыренной ладонью Митя ежеминутно откидывал назад падающие на лицо длинные, прямые, неопределенного цвета волосы.
Шура подтолкнул вперед Мишу:
– Говори. Ведь ты администратор. – А сам отошел в сторону с таким видом, будто он совсем ни при чем и сам смеется над этой ребячьей затеей.
– М-да… – процедил Митя Сахаров, выслушав Мишину просьбу. – М-да… У меня не театральное училище, а культурное учреждение. М-да… Культурное учреждение в тисках домкома… – И он ушел на сцену, откуда вскоре послышался его плачущий голос: – Товарищ Парашина, вникайте в образ, в образ вникайте…
Домашние хозяйки и домработницы учились в ликбезе. На сцене происходили репетиции драмкружка. В середине зала бильярдисты катали шары, задевая киями музыкантов струнного оркестра. Надо всем этим господствовал заведующий клубом и режиссер товарищ Митя Сахаров. Это был вечно озабоченный молодой человек в длинной порыжевшей бархатной толстовке с лоснящимся черным бантом и в узких брюках «дудочкой». У него длинный, тонкий нос и острый кадык, готовый вот-вот разрезать изнутри Митино горло. Растопыренной ладонью Митя ежеминутно откидывал назад падающие на лицо длинные, прямые, неопределенного цвета волосы.
Шура подтолкнул вперед Мишу:
– Говори. Ведь ты администратор. – А сам отошел в сторону с таким видом, будто он совсем ни при чем и сам смеется над этой ребячьей затеей.
– М-да… – процедил Митя Сахаров, выслушав Мишину просьбу. – М-да… У меня не театральное училище, а культурное учреждение. М-да… Культурное учреждение в тисках домкома… – И он ушел на сцену, откуда вскоре послышался его плачущий голос: – Товарищ Парашина, вникайте в образ, в образ вникайте…
