Анатолий Санжаровский
Жених и невеста
Повесть
Егору ИСАЕВУ
Чуден свет – дивны люди
Русская пословица
Насколько это неожиданно, настолько и знакомо одновременно. Я лично в названии повести Анатолия Санжаровского «Жених и невеста» увидел себя в далеком воронежском детстве. В этом словосочетании есть и озорное и серьезное – это как весна перед летом – да и все, собственно, в этой небольшой повести как весна перед летом, в ощущении близкой осени и зимы. Язык повести почти поговорочный – много за словом, над словом, в его глубине. Как велит язык, как велит чувство, так возникает характер. Два характера, две судьбы, но как они близки друг другу, сердцем близки. Хочется любить, верить, а это уже немало и для жизни и для писателя.
Егор ИСАЕВ
Растет новая смена у старой героини повести «Жених и невеста», которая так много работала, что и дети («семерых погодков привела я в дом») выросли и внуки, а ей все некогда было со своим стариком (а ведь вчера еще, кажется, парнем был) в загс сходить и зарегистрировать свой все переживший брак. До войны с трактора не слезала, в войну намыкалась в оккупации, потом опять на трактор, вырастила целый отряд девушек-механизаторов, и дети за ней потянулись, и дочь подорвалась вместе с машиной на немецкой мине в родном поле, а другая дочка потянула борозду дальше.
Они не искали награды, эти старые подвижницы, – была бы жива родная земля и, если сейчас и поворчат иной раз, то не вовсе без права. Они немногого ждут уважения своей старости. Героиня повести «Жених и невеста» Марьяна Михайловна Соколова справедливо сетует: «Когда ты при орденах говоришь с молодыми с красной трибуны, тебе всяк масляным грибом в рот заглядывает… А по какой по такой арифметике, ёлки-коляски, молодые считают, что старый незнаемый человек только при орденах да за красным столом в цене? Невжель только в медалях да в красном сукне вся сила почитания?»
Была ли хоть одна медалька у распутинской Анны из «Последнего срока» или у астафьевской бабушки Катерины? – а жизнь-то была прожита какая – смотри да слушай! Так и у героинь Санжаровского – простые все старухи, но землю кормят и род человеческий держат и обихаживают.
Немного грустно, что они уходят навсегда, что уходит с ними речь, которая еще так живо роднит их с некрасовскими красавицами, для которых никакой труд не в тягость.
Валентин КУРБАТОВ
Русская пословица
Насколько это неожиданно, настолько и знакомо одновременно. Я лично в названии повести Анатолия Санжаровского «Жених и невеста» увидел себя в далеком воронежском детстве. В этом словосочетании есть и озорное и серьезное – это как весна перед летом – да и все, собственно, в этой небольшой повести как весна перед летом, в ощущении близкой осени и зимы. Язык повести почти поговорочный – много за словом, над словом, в его глубине. Как велит язык, как велит чувство, так возникает характер. Два характера, две судьбы, но как они близки друг другу, сердцем близки. Хочется любить, верить, а это уже немало и для жизни и для писателя.
Егор ИСАЕВ
Растет новая смена у старой героини повести «Жених и невеста», которая так много работала, что и дети («семерых погодков привела я в дом») выросли и внуки, а ей все некогда было со своим стариком (а ведь вчера еще, кажется, парнем был) в загс сходить и зарегистрировать свой все переживший брак. До войны с трактора не слезала, в войну намыкалась в оккупации, потом опять на трактор, вырастила целый отряд девушек-механизаторов, и дети за ней потянулись, и дочь подорвалась вместе с машиной на немецкой мине в родном поле, а другая дочка потянула борозду дальше.
Они не искали награды, эти старые подвижницы, – была бы жива родная земля и, если сейчас и поворчат иной раз, то не вовсе без права. Они немногого ждут уважения своей старости. Героиня повести «Жених и невеста» Марьяна Михайловна Соколова справедливо сетует: «Когда ты при орденах говоришь с молодыми с красной трибуны, тебе всяк масляным грибом в рот заглядывает… А по какой по такой арифметике, ёлки-коляски, молодые считают, что старый незнаемый человек только при орденах да за красным столом в цене? Невжель только в медалях да в красном сукне вся сила почитания?»
Была ли хоть одна медалька у распутинской Анны из «Последнего срока» или у астафьевской бабушки Катерины? – а жизнь-то была прожита какая – смотри да слушай! Так и у героинь Санжаровского – простые все старухи, но землю кормят и род человеческий держат и обихаживают.
Немного грустно, что они уходят навсегда, что уходит с ними речь, которая еще так живо роднит их с некрасовскими красавицами, для которых никакой труд не в тягость.
Валентин КУРБАТОВ
1
Ты бай на свой пай,
а я говорю на свою сторону.
А я и себе не скажу, а чего это я хожу сама не своя, а чего это пристегнулась, привязалась ко мне, как беда, одна печаль-заботушка, заслонила бел день на сердце…
Думала я, думала да то-олько хлоп кулачиной по столу.
«Будя решетом в воде звёзды ловить! Будя петь лазаря! Скоко можно нюнькаться?»
Надела я, что там было поновей в гардеробине, надела да и наладилась, ёлки-коляски, к своему к Валере-холере.
Иду осенним садом меж пустых, без одёжки уже, дерев, иду, а у самой сердце жмурится то ль с тоски с какой, то ль с радости с какой неясной, а только сосёт-посасывает что-то такое вот…
Подхожу под самый под нос, а Валера мой не видит, не слышит шагу моего.
Kaк строгал ножичком себе на лавке у яблоньки какую-то рогульку, да так и строгает, будто и нетоньки меня.
Возле топчется Ленушка, гостюшка наша. Oт деда внучку и за хвост ввек не оттащить. Такая промежду ними симпатия живёт.
Ленушка с большой осторожностью тыркает деду пальчиком в щёку.
– Дедуля, а ты колючка.
– Зарос… Ёж ежом, – как бубен бубнит дед. Уж такой у него выговор. Я привыкла, что у него самые разласковые слова падают горошинами на пол.
– Если ты ёжик, так почему тогда у тебя на колючках нету яблочков?
– Я, Ленушка, яловый ёжик.
– А что такое яловый?
– Эк, какая ты беспонятливая, – в досаде Валера перестаёт строгать. – Ну, как те пояснить? – Думает, вскидывает бровь. – Вот что, милушка… О чужом деле что зубы обивать, когда о своём можно поговорить. Те сколько лет?
– Четыре года один месяц и пять днёв!
Глаза у Валеры засмеялись.
– Ну, насчёт днёв ты это брось. Говори по правилу – дней… А сколько ещё часов? – с ехидцей копает дед до точности.
– Я не… знаю…
– Ты и не знаешь! Ленушка и не знает! Ну да как же это так? Ну вспомни – а дай, подай те Бог памяти! – ну вспомни вот час, когда принесли тебя из магазина.
– Сейчас детей не покупают!
– Хо! И в лотерею, голуба, выигрывают! Ежель на то пошло-поехало.
– Boтушки ещё…
– А что, они с неба, как манка, сыплются?
– И вовсе не сыплются!
– Ё-ёё! А откуда ж, разумщица, их тогда берут?
– Из-ро-жа-ют! Как сойдутся два семечка… мамино и папино… Меня изродила сначала половинку мама, а потом половинку ещё папа!
Тут дед не в шутку дрогнул, будто егo с низов шилом кто хорошенечко так поддел, и с сердцем ткнул Ленушку в плечо.
– Бесстыжка! Как есть бесстыжка! Да ты… Да ты!.. Вона каковские штуки родному деду выворачиваешь?!
– А что, неправда? Неправдушка? Ну скажи! – Девчоночка завела руки за cпинy, взяла одной рукой другую зa запястье – мне помилуй как ясно всё видать. – Ну скажи!
– Будет рот ширить-то… Тоже мне сыскалась, знаете-понимаете, вундеркиндиха… И не жалаю, и не позывает с непутным дитём слова терять.
Дед сызнова налёг строгать, всей грудью навис над ножом, да только ненамного его хватило. Снова пробубнил:
– Такущее отстёгивать… Эт додуматься надобно до такой вот до худой глупости!
– Сам ты это слово, – совсем нáтихо возразила Ленушка. Девчонишка наверное знала, что Валера с глухотинкой уже, не услышит.
Он и в самом деле не слыхал ответа. А потому продолжал нудить своё в старой линии:
– От твоего, дорогуша, бесстыдствия я слышу, как вот тут, – Валера скинул картуз, повёл мякушкой ладони по зеркально-голому темени, – как вот тут, где сто уже лет волосья вьются, что твой карандаш, я слышу, как от твоего басурманства кудри на дыбки встают и кепчонку подымают. Эт что?
Девочка молчала.
В крайней серьёзности она рассматривала мыски своих красных ботиков с белыми якорьками по бокам.
Старику и самому прискучила его молитва. Понял, что переборщил. Помолчал, мотнул головой. Прыснул:
– У тя, девонька, в зубах не застрянет… Не язычок – бритва!
Совестно мне стало слушать мимо моей воли чужое. Загорелась я было уже окликнуть мягко так Валеру, да Ленушка в торжестве большом подняла голову, глянула вокруг и выпередила меня.
– Дедушки! Дедушка! – в крик позвала. – Да ты только посмотри, кто к нам пришёл!
Поворотил Валера голову, пустил на меня поверх плеча весёлый свой в прищурке глаз. Лыбится.
– Марьянушка, ты чё вырядилась, как та семнадцатка?
– Твоя, Валер, правда. Была семнадцаткой в семнадцатом. Я, Валер, об чём пою…
– Ну?
– Я, Валер, об старом.
Он как-то весь насторожился. Буркнул:
– Знамо… Сами давненькие, с нами и песни наши состарились. Эхма-а…
– И чего колоколить без пути?! – пальнула я с перцем.
– Марьянушка! Да на те креста нету!
– Всё-то он видит! До коих веков, старый ты кулёк с дустом, думаешь корёжиться?
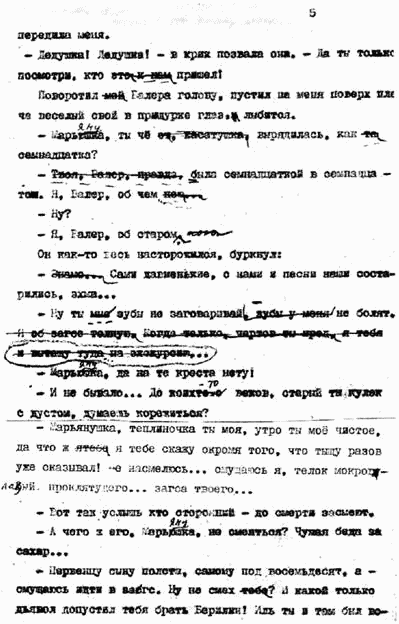
Черновая страница повести «Жених и невеста».
– Марьянушка, теплиночка ты моя, утрушко ты моё чистое! Да что ж я тебе искажу окромя того, что тыщу разов уже сказывал!? Не насмелюсь… Смущаюсь я, телок мокроглазый, проклятущего загса твоего…– Вот так услышь кто сторонний – до смерти засмеют!
– А чего ж его, Марьянушка, не смеяться? Чужая беда за сахарь…
– Первенцу сыну полста, самому за семь десяточков, а – смущаюсь идти в загс! Ну не смех? И какой только дьявол допустил тебя брать Берилин?! Иль ты и там был вояка – выгонял лягушек из-под пушек?
– И выгонял. Всяко бывало. Только медалю «За взятие Берлина» мне не за лягушек пожаловали. И в родстве с наградным отделом армии не состоял. Ты-то уж это знаешь, как свою руку. Рядовой везде рядовой. Иль думаешь, мне по великому по знакомству немчурёнок осколок всадил в голову да так, паршивец, ловко, что, суть твоя неправедная, докторский снайпер Никита сам Ваныч Фролов и посейчас не выловит? Эх ты, Марьянушка…
Жалко мне стало Валеру своего, занюнила я.
Заплакать заплакала, а ниточку дела – вот уж где старая петля! – из рук не выпускаю.
– Знаешь же, – жалюсь, – океанский ты водяной, куда всё своротить… Я, Валер, не супостатиха какая там лихостная, не тебе говорить… Такую долгую жизню в общности изжили, худого слова поперёк не положила… Да и про загс я не затевала бы, да знаешь, Валер, я как на духу… Ну как ты не поймëшь?… У нас ворох ребят. Все своими семьями живут-поживают, все через загс прошли. А что ж мы с тобой? Иль нехристи какие? Какую ж мы им примерность даём? Оно-то, факт, вся сила не в регистрированной в бумажке. Бумажка поваляется-поваляется да и сопреет. Вся сила в другом… Все дети на твоей фамильности, а я одна одной на своей. Иль чужая я какая тебе? Чужанка в доме в нашем?
– Какая ж ты чужая?… И сложит же такое в голову!
– И сложишь… Скоко разов я звала-кликала на расписку? Не сочтёшь! А случись что… Неловко-то как! Вроде и немужняя я. Ничейная вроде как. Не хочу я такой сиротой идти под вороний грай на дубах…
– Ах ты Господи! Она, знаете-понимаете, помирать наладилась… Марьянушка, да… Не смеши ты, любушка, гусей! Золотосвадьбу отплясали. До бриллиантовой безо всяческих там загсов допрём!
– Враг с тобой, тиранозавр! Стал быть, ты и ноне не кладëшь мне согласности произвесть в закон всю нашу жизню? Стал быть, ты и ноне бьëшь клинья не пойтить?
– Марьянушка! Ну что я скажу?… – Жёлтым от курева пальцем Валера трогает небритую щёку.
– Тогда я, молчун ты нескоблёный, искажу. Сто разов говорила я те про загc. А в сто первый – ни за какие блага! Скоко можно перевешивать старые портки на новые гвоздки?
– Марьянушка! Да ну тя к монаху! Тычё эт надумала?
В голосе всполох у него, опаска.
– А припёк, истиранил душу – и надумала. Деньжата, хоть и малые, а тутоньки, – кладу руку к груди, где на кофтёнке у меня карманишка исподу прилажен, – до Воронежа хватя. Не пойди вот ноне – к Колюшкý уеду. Колюшóк завсегда – в ночь, в полночь – тёплыми руками встрене, за стол присогласит и соснуть даст где. Матернee сердце в детках. А и детское не в камне… Мамушка я ему, не тётка какая проезжая… А ты бóлей меня не увидишь, не заявись только нонеча в загс. Нe знаешь сам дорогу – люди добрые скажут!
И с тем пошла.
Иду, иду я, а сама глаз от слёз не разожму.
На что решилась бабка. Может статься, в последний раз у себя на подворье: дурочка я страшная, уж что надумаю – костьми паду, а то и сотворю.
Вышла я на свою на Рассветную аллею.
Навстречу мне люди; говорят, смеются; знакомый кто покажется на глаз – издали бегу в сторонку куда, не видали только чтоб моих слёз…
Летала я по задам-огородам, летала да и устала хорониться. Выправилась на тротуарчик, пошла себе тихо со своей старенькой поводыркой, кривенькой клюкой, в загсову сторону; не плачу уже, а так, молчу, молчу и иду.
А благодати-то что вокруг!
В полной ясности осень добирала октябрёвы деньки.
В чистом небе жило солнышко. Воля тепла на диво крепенько так ещё держалась; вместе с тем знаешь, хоть оно и тепло, а холода подобрались уже к нашей сторонке близко, не сегодня-завтра наявятся…
Последние листья с дерев пóчасту ложатся под ноги, в боязни мне ступать по жёлтым от старости листочкам, обхожу…
Иду я себе, иду и вижу ужесебя со стороны, вижу молодой…
2
Удалой долго не думает.
В молодые лета я была видная из себя.
На личность белая, в ладной кости широконька да крепонька. Парубки вкруг меня хороводились, ровно тебе комары мак толкли.
А бедовая что! Неробкую душу вложил в меня Бог. По праздникам на игрищах я не особо-то конфузилась мужеской нации. Где борются, там и я. Совестно вспомянуть, и самой кортело поборюкаться. Помани только какой из хлопцев – изволь! И редкий кто из однолетков мог меня сбороть.
А затей кто из беспутных ухаживателей непотребство какое, так я оплошку не дам. Я ему, чичисбею, та-ак наобжимаюсь, та-ак наозорую – у меня по три прилипалы нараз отворяли дверь лбами.
Только что в полные глаза взглянула я на семнадцатую на весну свою, ан чёрт сватов, будто дрыном, пригнал.
Oни сватают – я за стенкой реву.
Они всё думали, что плачу я – так надо. Да плакала я не заради обычая: в противность был мне жених.
Росточку дробненького, так, мелочь, не короче ль лопаты. Безвидный, возглявый. Кудри, как гвозди на заборе, – там лысина, хоть блины пеки.
Одно слово, хорошенькой девчоночке не на что и глянуть, а приглядишься – ревмя заревёшь: до такого степенства плюгавый был тот прасольщик Виталь Сергеич Крутских.
Клади к тому ж, уже и на возрасте. Под годами. Не ровня ли летами с отцом с моим. Ой, да ну что там ровня? Ему в субботу сто лет будет! А худючий, будто чёрт на нём воду возил. Плюсуй сюда ещё… Там болезный что – морковкой его перешибёшь. Такого осталось только накадить да в гроб уложить.
Вот остались мы одни.
Недопёка смотрит на меня россыпью. Не надышится. А во мне злость кипит. Курица и та имеет сердце!
– Куда вам, – гну напрямки, – со свиньми плясать? Поросят подавите!
Усмехается.
Усмешка какая-то одинаково и укорная и искательная.
– Подковыру твою, Марьяна, я pacпознал… Ну что ж, обиду на Бога я не дяржу, что состою при свиньях. Такая дела. Этих с родителем своим скупаю за так, тех в три цены гоню – научилси из песка верёвочки вить. В жизни гожается.
– Мне-то на кой это поёте?
– А на то… Какой я ни свиное рыло, как ты про мене в мыслях мыслишь, а таки ж жалается в птичий порядок. Ажно кричит, надоти кумекать и об своём угле, потому как, Марьяна, безо жаны, как без кошки: мыши одолевають.
Я в открытку, напрямую, кладу совет:
– Так просите у соседей кошку – и с Богом!
– На что у соседей. По части кошки я сладилси с твоим с батьком. Ехать тебе со мной на божий суд… К венцу. Я тебе с первых глаз говорю: насмешки надо мной ты вовсе ни к чему делаешь. Муж – коренник в семье. Мужа поважать надоти.
А я и глядеть не хотела на криводуя на того разнесчастного. Да только где ж его взять силу против родителевой воли? Куда родителев ветер повеет, туда и потянешь.
– Ты, толкушка, – пушил меня после отец, – дурью особо не майся, а поголоси для порядка да и иди с Богом за своего толстокарманника. Мы бедствовали всю жизню, жили с зажимкой, перебивались с хлеба на квас, так хотешки ты за нас поживи в довольстве. Можа, глядишь, и его шалая копейка какая ненароком к нам в хату забредë.
В мае семнадцатого повезли нас в церковь.
Народу там – негде и курице клюнуть.
До аналоя нам оставалось пройти шагов ещё так с пяток.
На тот момент возглявка мой оглянулся. Оглянулся и глядит с плеча, долгохонько так глядит, ровно тебе прикипел.
Дёрг это я его за рукав, дёрг.
– Что, – вшёпот говорю, – ворону завидел?
– Не-е. Папапьку твово.
– А что, ты рáней его не видел?
– Видать-то видал, да не мог и подумать, что он до таких степеней голяк. Во удумал, у чём в святилишше пришлёпал… В притворе с протянутой рукой и то в одёжке посправней… Да ну ты тольке полюбуйси, какой на ём картинный полотняный мешок, в полной мере обшорканный, а воображае, поди, на увесь фрак с иголочки!
Проговорил он это с ядом и в крайней отвратности тоненько захихикал, просыпал смешки, как пшено, на доску.
Смех вышел короткий. На прасольщика навалился овечий кашель. Овечий кашель повсегда изводил его.
От злости потемнело всё у меня в глазах. Я вся как есть потерялась. И в ум не положу, быть-то мне как. А недотыка исподтиха знай стегает своё (батюшка всё не выходил).
– За тобой, – долбит долотом в саму душу, – папанька дал – воробушек больша в клюве снесë. А ничего… Не внапрасну ж к недобру был вихорь с пылью навстречь нашему поезду… Знашь, как встарь в нашенской, в воронежской, сторонушке муж жане говаривал? Я царь, а ты моя тварь! Вона какие роля пораздаст нам нонеча венец!
Подо мной ноженьки лучинками так и хрустнули. Слова сказать не скажу, ровно мне Бог и языка никогда не давал.
Отпустила беда язык, я и пужани дурным голосом:
– Ах ты гробовоз!.. Да венчайся ты вон с им! – тычу в обомлелого попика, что спешил к нам. – А я не тва-арь!
Содрала я с себя фату и только швырь её прасольщику на пролысину да вдобавки та-ак толканула – шмякнулся он батюшке к ногам.
Батюшка раскинуть руки раскинул, а поймать-таки не словчил.
Видит мамушка такой мармелад – плохо с ней.
Отец поддержал её. Но, завидев, что наладилась я продираться сквозь толпу, как нож в масле, к белому к свету в выходе, ударился за мной, спокинул родительницу на наших соседей.
Уже на паперти заарканилза волосы и ну волочить назад. A из себя отец здоровила. Одно слово, мужик-угол. Там силищи что!
– Не дури, дур-ри-ца! Не ду-ри-и!..
Рванулась я что силы Бог дал – остался отцу в кулаке хороший пук моих волос.
3
Все люди свои, да всяк себя любит.
Дома, раздеваясь, подрала я с себя всё венчальное не на мелкие ли мелкости да и шасть на чердак почти в чём мать на свет пустила.
Кинула на доски старое своё полинялое платьишко, легла к щёлке в потолке, смотрю, что за страхи сейчас пойдут. А у самой кромешный ад на душе.
Примчался первым, держа обувку в руках, как и я, отец.
Громадина, он по-паровозному яростно сопел. Всё лицо, шею покрывали гроздья пота.
Прямо с порога отец взял в угол, к воде. Поднял перед собой полное ведро, припал пить через край.
Вследки объявился тут белей белого прасольщик.
– Бо-оже мо-о-ой… – застонал плюгаш, когда увидал посерёдке комнаты взгорок тряпья. – Ой и лютое семя!.. Ну не хошь – ну и не хошь! А на что ж наряд губить дорогой?!
Отец поставил ведро назад на лавку, рядом с кружкой, крякнул в сочувствии и извинительности, косясь на ту возвышенку:
– Дурь из моей крови пересосала…
– Оправдательность тожа… Тут голова в ставку úдет! Вот чего, папанюшка… Жаних, как это обычаем ведётся, берë своей любе к венцу три вешши. Я не три – все тридцать три ухватил! Не постоял за тышшами! Вырядил усю в шелка! А что я, извиняюсь, вижу? Какое благодарствие? Такие разбросы в капитальстве я не потерплю… Ну, хорошо, ты напрочь несогласная – драть-то на кой?! Я этому добру не дал бы пропасти пропадом, в хозяйстве сгодилось ба, пошло б в службу всё… Доведется ж мне жаниться когда-никогда ай нет? Я б тогда, старая ты кочерга горелая, приглядывал ба бабу по ейной статности, всё чтоба в подгонку за милую душу! А то большого ума дала! Подрала… Бандитствие какое… А беду эту ты сплёл. Всё лисил на все четыре ветра кто? Кто рассыпался мелким бисером: стерпится – слюбится, слюбится – полю-юбится? Кто? Ну кто, голь ты перекаткина? А?
Крутских поддел лаковым носком тряпичное крошево. В жалости усмехнулся:
– Мда-с… И стерпелось, и слюбилось… – Помолчал. – А ловко таки споймал ты мене на золоту удочку!
– Ка-а-ак это?
– А так! Кончай мне спектаклю чертоломить. Думаешь, я не знаю, не ведаю? Да под тобой, старая ты вожжа, я землю на аршин наскрозь вижу! – Крутских хлопнул себя по тощей коленке, притопнул: – Враки, мил тестюшка, что портють воздух раки – то балуються ры-ба-ки-и! Ясно? На такое беспутствие, – Крутских снова пнул комок из венчального обмундирования моего, – ты её сам и подбил!
– Виталь Сергейч! Спомилуйте! – в растерянности отшатнулся отец.
– Дожидайсе!.. Всякая вот вошь так и норовить содрать с тебе… Думал, на венчальном ералашном игрище разживëшься, набьëшь мошну? Чёрта кудрявого! Да ты мне через судействие всё моё на эту вот на ладонушку, – Крутских в невозможной ярости долбил указательным пальцем в узкую, могилкой, ладонь, выставленную у отцова лица, – всё как есть и возвëрнешь! Всё! До волоска!.. До ниточки!.. До сориночки!..
Я приставила к щёлке дулю.
Отец тяжело тянул носом. В виноватости всё ниже опускал голову.
– У мене, – разорялся Крутских, – кулак не дурак. Как счас дам в ухо, – он вроде того даже примерился на замашку, – так и зазвенить!
Отец несмело перенёс тело с ноги на ногу. Глухо сказал:
– Вы, Виталь Сергейч… языком-то играйте… А руками в рассуждение… не входите, милостиво прошу… Не погубите, Виталь Сергеич… Помилуйте, Виталь Сергеич… – и повалился сморкуну в ноги.
– Так-то оно ловчее, сподручнее будет, – потеплел голос у прасольщика. Он поощрительно постучал ногтем по отцову плечу.
У меня всё так и оборвалось.
Сраму-то что! Тереть коленки перед этим плюгавиком… Коленки что – душу в грязи перед кем валять?
Я хочу крикнуть отцу: «Встань!» – голоса своего дозваться нету моченьки. Рот разевать разеваю, а голос нейдёт.
Но отец и сам понял, что лишку дал.
В тот самый миг, когда Крутских тыкнул ему пальцем в плечо, у отца дрогнули желваки. Отец поднял на михрютку долгий пристальный взгляд, будто припоминал что, и медленно наладился подыматься, не сымая решительного взора с прасолова лица.
– А Виталь вы наш Сергейч, а на что ж это сваливать всё на один загорбок? – Отвага, твёрдость напитали голос отца. – Мне един нонешний денёк год нá кости накинул – и я ж кругом виноватый… Оно, конешно, по чужим ранам да чужим салом мазать не убыточно. А вы всё ж раскиньте умком-то… Я ль стараньем дела не замешивал? Я ль родителевой власти тут не положил? – Отец зверовато чиркнул вглядом по яркому комку моего подвенечного дранья на полу и протянул прасольщику клубок моих волос, что даве выдрал на паперти.
Крутских отшагнул, свёл руки за спину. Из-подо лба поглядывает с пугливым любопытством на мои космы.
Отец не убирал протянутую руку с космами, ломил своё:
– Я ль беду нашу плёл? А? Вот теперь скажите по чести-совести…
– Мда-а… Хорошо с берегу на гребцов смотреть, – мирно, как-то уступчиво, что ли, отвечал Крутских. – А тут сам в гребцах. И ума не дашь-то…
В досаде отец запустил мои лохмы под лавку с водой.
Крутских мягко, в снисхождении посмотрел на отца. Без старого, матёрого зла в голосе пожаловался:
– Насмешку какую ить надоти ей исделать? А?… Ну, обязательно надоти? На всю жизнюку пятно… Ить теперича куда ни понеси меня ноги, всякий зубоскалина-шмаровоз бухне в спину, что каменюкой в воду, с полным издевательством: «Во пошёл, во!.. Эт вот этого чуть было козырь-девка не обвенчала с батюшкой!»
– Ну-у, так и всякий… Умный смолчит, а дурак ну раз скажет, ну два, а на третий и дураку наскучит про одно и то же чесать язык. А там жизня под другого под кого фокус поядрёней подкатит и про нонешнее про наше выронят как есть всё из памяти.
– Жди, так и выронят, – засомневался Крутских.
– В обязательности выронят! В жизни, Виталь Сергеич, как на долгой ниве, не такое случалось. А одначе быльё брало.
Отец посмотрел прасольщику в глаза, угодливо усмехнулся:
– Ничего, Виталь Сергеич. Дальше земелюшки ещё никто не упадал… Вы плотно к сердцу не кладите нонешнюю египетскую казнь. Я подо что клин бью… А чего бы нам ещё разок да не попробовать с Марьянкой, с этой пресной шлеёй?… Может, всё у неё от случая?… Ну-у, муха там какая под хвост попала… Да мало ль с чего шашнадцатигодовая тёлка вскинется на дыбошки? Много ещё в девке блох… С бусырью… С сырцой… И куда только её черти загнали? – Отец оглядел комнату, послал взгляд в сад за окном. – Вот бы нараз найти её да всем втрёх и переговоры переговорить…
Крутских защитительно, крестовкой, сложил руки на груди.
– Никаковских разговоров-переговоров! Никаковских! Анафема ешь мои расходы! Я себе вот что говорю: «Ешь, Виталь Сергейч, солно, пей горько: помрëшь – не сгниëшь и будешь лежать, как анафема». А обжаниться, ежли прижмë ещё на ком, так вспомню нонешнюю срамотишшу и ни ногой к бабьему к молодому духу!
Крутских обежал и ощупал полохливыми глазками стены, будто я могла сквозь них войти, и живой ногой вышел из хаты.
4
Прямо страху в глаза и страх смигнёт.
Подшагнул отец к окну и мрачным взором провожал Крутских.
В стреху я видела, как прасольщик шёл-бежал прочь без оглядины.
Крутских вовсе пропал с глаз. А отец всё стоял столбом, сцепил руки на груди.
Может, так и простоял бы с вечность у окна, не зацепись краешком глаза за вожжи в плетне. Минуту какую с дивом смотрел на вожжи, будто звал из памяти что. Шлёпнул себя по лбу ладонищей.
– Тo-то, Михайло, девка коники выкидывает – вожжи у тебя шибко новёхоньки, раскидай тя в раны! А вот и вожжам настал работный час!
Под тяжёлыми руками оконные створки пошли в стороны. Отец прыгнул в сад.
– Ну теперь, невестушка, посчитаемся – твердил малым угарным голосом и наматывал вожжи на ведёрный кулак. – Пригладим в аккурат всё, что ты там глупо связала.
Свирепое отчаяние повело к риге, от риги к амбару, от амбара хлеву, от хлева к курятнику.
Распахнул он курий домину – бегом одурелыми гляделками по жердинам.
С досады саданул кулачиной в кулачину. И на насесте нету Марьянки!
– Мать! – во весь рот кричит мамушке. Мамушка возверталась из церкви, только вот притворила за собой калитку. – Мать! Там околь двора не видала где нашу шутоломиху?
– Окромя сраму околь нас нонь никто не ходит…
Сказала мамушка это, ойкнула и закрыла лицо руками. Пришатнулась к плетню.
Сильный плач заколыхал тяжёлое тело.
Не стерпела я, не удержала слезу… Реву, а сама кулаки в рот, чтоб голос мой не сказал отцу, где я.
Из-под стрехи вижу: подбёг сам к мамушке, взялза плечи, ведёт к дому. У порожка подставил под неё стулку.
– И чего, – говорит, – убиваться его так?
– Ой, Миш, ну-у… – Мамушка залилась ещё горше того.
Сверкнул отец шалыми глазищами.
– Ну вой, вой! Я ль запрет кладу? Вой! Всё какой никакой наваришко. Баба плачет – меньше ссыт!
Как-то разом мамушка срезала силы в голосе. Потишала.
– Э-эх, – укорно качает головой. – Какой ты, Миш, был на язык бандит, так такой и закаржавел.
Только тут мамушка разжала глаза от слёз – разглядела, что за штука бугрилась у отца на руке.
– Это чего будет? – шлёт вопрос. А сама не без страха пальцем на вожжи кажет.
– Свадебное подношение прынцессе твоей!
– И-и! Чего, старый горшок, удумал. У нас в роду никто ребятёнков и пальцем не трагивал!
– А я вот возьму и пальцем трону, и вожжой так нагладю глянец – запомнит до снега в волосьях! А то мы с ей, понимашь, панькались. А она, цаца, эвона каки шишки стругая!
Вбежав в избу, отец вышвырнул на крыльцо подвенечную одёжку, к чему заступница моя мамушка не показала даже и любопытства.
– Вишь, как маленька собачка лая. От большой слышит! Всё твоя школка!
– Где моя, там и твоя.
– Да-а… Шишки свои делить со мной на ровнях тебя не учи. Что матке, что дочке пальца в рот не занашивай. По локоток отхватят! С родителева хлеба такую дочунюшку спроста не скинешь долой.
– Оно, Михайло, не грех какой год и обождать…
– А чего манежить? Ну чего? Тя когда ссадили на мой кусок?
– Так то меня.
– Ну и она не медалька на шее. Не долго думала, да скоро спровадила какого…
– Вот именно какого. Про него и слово путное не живёт, – уже твёрже как-то сказала мамушка. – А что при капиталах… Оно и через золото слезы льются!
_– Ты-то что коготки выпускаешь? Видал, с кашей нас не съешь! А я так скажу… Муженёк хоть с кулачок всего, да за мужниной за головой всё затишок… Не спущу ей этот выбрык. Вожжи в ниточку исхожу!
Я себе и сейчас не скажу, как это насмелилась я откинуть люк.
Спустилась в сенцы. Подошла к открытому окну.
– Ну видала ты эту лихостную небожительку? – опешил от нежданного моего появления отец и спрашивает мамушку: – Ну какую ты кару ей дашь? Га?
– Отец… Да… Ну… – тише воды, невсклад, что твоя борозда бороздит, еле спихнула я с языка крайние слова. – Отец…
Я не знала, как и говорить, но говорить надо было. Я повторила:
– Отец…
И прислушалась к своему голосу.
Кажется, силы, решимости в голосе набавилось.
– Отец, я сама себе… кару подобрала… Хотите – верните его… Я пойду… Только не бранитесь… Что ж вы стоите?
– Она ещё указы будет мне указывать! – без давешней свирепости громыхнул отец, с чего я взяла, что со своим стыдным венчаньем подался он на попятный дворок и что одно пустое самолюбие велит ему вздорным шумом прикрывать отход. – Надо – беги да ворочай сама того увечного копеешника. А мне с им не вступать в закон!
5
И крута гора, да забывчива,
и лиха беда, да избывчива.
Года ещё с четыре была я одна, как верста в поле.
Правда, парни не на каждом ли углу распускали передо мной перья. Только давала я всякому скорый отлуп: никого мне и на дух не надо.
Какой ни подойди – во всяком мерещился прасольщик и всё тут, хоть ты что…
Времечко отмягчило душеньку мою.
Подросли и мои деньки красные.
Вот скажи кто загодя, что поведусь я с Валеркой Соколовым, – я б тому голову оторвала и в глаза бросила б…
Полюбить можно стороннего кого, рядили у нас в Острянке меж собой девки, а кто ж любит соседа? Ну какой интерес? Всё ж про человека знаешь с той самой поры, как знаешь и себя…
Валера был ровня мне годами.
Росли мы друг у дружки на видах. И что в особенность, до последней поры я и голоса его толком не знала: Валера всегда молчал, как кол в плетне.
Что ни вечер Валера засылал поверх плетня к нам на подворье голодные глаза свои. Ждал-выжидал меня.
Отец был как-то в добром духе, завидел его и со словами ко мне:
– Смотри, явление первое: те же и Валерьян с балалайкой, – и засмеялся, картинно тронул стрелку вислого уса. – Только каким вот будет явление второе?
– Поживёте – увидите…
– Эт что ж он ищет-то у нас?
– Зашедшее солнушко.
– А ты куда сбираешься?
– Тож искать зашедшее солнце.
– Ой, девка, смотри-и, как ба я вам все двадцать четыре света не показал в одном окне… Не бывало ещё такого, что и коза сыта, и сено цело. Сама знаешь, не люблю я в кулак шептать. Если что, мигом протру ему глаза. Я с этим молчуном жив не расстанусь!
– Напугал коня овсом! Да мы с тобой и подавно не сбираемся расставаться.
– Ты на что намёк кладëшь? Иль налаживаешься за него?
– А какая станет ходить впросто так?
– Ну-у, решай сама. Я теперя в твоем деле – сторона.
– Не думай. Всё будет в лад. И комар носа не подденет.
Вся-то я – птицы ком, лечу к Валере. А мамушка не в час и останови.
– Где ж ты, девонька, со стыдом со своим разминулась?! Что ж ты так несëшься к милости к своей – на вожжах не удержишь!? Иль у тя голова клочьями набита, что так в открытую льнешь к нему, как шелкова ленточка к стене?
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента
