Лев Толстой
Как умирают русские солдаты
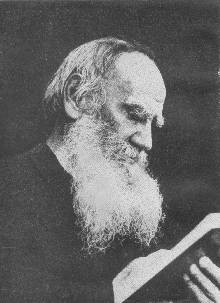
(Тревога)
В 1853 году я несколько дней провел в крепости Чахгири, одном из самых живописных и беспокойных мест Кавказа. На другой день моего приезда, перед вечером, мы сидели с знакомым, у которого я остановился, на завалинке перед его землянкой и ожидали чая. Капитан N., наш добрый знакомый, подошел к нам.
Это было летом; жар свалил, белые летние тучи разбегались по горизонту, горы виднелись яснее, и быстрые ласточки весело вились в воздухе. Два вишневые дерева и несколько однообразных подсолнечников недвижимо стояли перед нами и далеко по дороге кидали свои тени, В двухаршинном садике было как-то тихо и уютно.
Вдруг в воздухе раздался дальний гул орудийного выстрела.
– Что это? – спросил я.
– Не знаю. Кажется, с башни, – отвечал мой знакомый, – уж не тревога ли?
Какой-то казак проскакал по улице, солдат пробежал по дороге, топая большими сапогами, в соседнем доме послышался шум и говор. Мы подошли к забору.
– Что такое? – спросили мы у денщика, который в полосатых штанах, поддерживаемых одной помочею, почесывая спину, бежал по улице.
– Тревога! – отвечал он, не останавливаясь, – барина ищу.
Капитан N. схватил папаху и, застегиваясь, побежал домой. Его рота была дежурная. Раздался второй и третий выстрел с башни.
– Пойдемте на кручь, посмотрим, верно, на водопое что-нибудь, – сказал мне мой знакомый. – Не туши самовар, – прибавил он денщику, – сейчас придем.
По улицам бежал народ: где казак, где офицер верхом, где солдат с ружьем в одной и мундиром в другой руке. Испуганные рожи жидов и баб показывались у ворот, в отворенных дверях и окнах. Все было в движенье.
– Где, братцы мои, тревога? где? – спрашивал задыхавшийся голос.
– За мостом антирелийских лошадей забирают, – отвечал другой, – такая большенная партия, братцы мои, что беда.
– Ах ты, мои батюшки! как они в крепость-то ворвутся, ай-аяй-ай-ай! – говорила слезным голосом какая-то баба.
– А, примерно, к Шамилю в жены не желаете, тетушка? – отвечал, подмигивая, молодой солдат в синих шароварах и с папахой набекрень.
(– Ишь, ровно на сватьбу, – говорил старый солдат, покачивая головой на бегущий народ, – делать-то нечего.
Два мальчика галопом пролетели мимо нас.
– Эх вы, голубчики! на тревогу! – провизжал один из них, размахивая хлыстом.)
Едва мы успели подойти к кручи, как нас уже догнала дежурная рота, которая с мешочками за плечами и ружьями наперевес бежала под гору. Ротный командир, капитан N., верхом ехал впереди.
– Петр Иваныч! – закричал ему мой знакомый, – хорошенько их, – но N. не оглянулся на нас: он с озабоченным выражением глядел вперед, и глаза его блестели более обыкновенного. В хвосте роты шел фельдшер со своим кожаным мешочком и несли носилки. Я понял выражение лица ротного командира.
Отрадно видеть человека, смело смотрящего в глаза смерти; а здесь сотни людей всякий час, всякую минуту готовы не только принять ее без страха, но – что гораздо важнее – без хвастовства, без желания отуманиться, спокойно и просто идут ей навстречу. (Хороша жизнь солдата!)
Когда рота была уже на полугоре, рябой солдат с загорелым лицом, белым затылком и серьгой в ухе, запыхавшись, подбежал к кручи. Одной рукой он нес ружье, другой придерживал суму. Поравнявшись с нами, он спотыкнулся и упал. В толпе раздался хохот.
– Смотрите, Антоныч! не к добру падать, – сказал балагур-солдат в синих штанах.
Солдат остановился; усталое, озабоченное лицо его вдруг приняло выражение самой сильной досады и строгости.
– Кабы ты был не дурак, а то ты самый дурак, – сказал он с презрением, – что ни на есть глуп, вот что, – и он пустился догонять роту.
Вечер был тихий и ясный, по ущельям, как всегда, ползли тучи, но небо было чисто, два черных орла высоко разводили свои плавные круги. На противоположной стороне серебряной ленты Аргуна отчетливо виднелась одинокая кирпичная башня – единственное владение наше в Большой Чечне. В некотором расстоянии от нее партия конных чеченцев гнала отбитых лошадей вверх по крутому берегу и перестреливалась с солдатами, бывшими в башне.
Когда рота перебежала через мост, чеченцы были от нее уже гораздо далее ружейного выстрела, но, несмотря на то, между нашими показался дымок, другой, третий, и вдруг беглый огонь по всему фронту роты. Звук этой трескотни выстрелов секунд через пятьдесят, к общей радости толпы зрителей, долетел до нас.
– Вот она! Ишь пошли! Пошли, пошли-и! Наутек, – послышались в толпе хохот и одобрения.
– Ежели бы, то есть, постепенно отрезать их от гор, не могли бы себе уходу иметь, – сказал балагур в синих штанах, обращавший своим разговором внимание всех зрителей.
Чеченцы, действительно, после залпа поскакали шибче в гору; только несколько джигитов из удальства остались сзади и завязали перестрелку с ротой. Особенно один на белом коне в черной черкеске джигитовал, казалось, шагах в пятидесяти от наших, так что досадно было глядеть на него. Несмотря на беспрерывные выстрелы, он разъезжал шагом перед ротой; и только изредка около него показывался голубоватый дымок, долетал отрывчатый звук винтовочного выстрела. Сейчас после выстрела он на несколько скачков пускал свою лошадь и потом снова останавливался.
– Опять выпалил, подлец, – говорили около нас.
– Вишь, сволочь, не боится. Слово знает, – замечал говорун.
(– Задело, задело, братцы мои, – вдруг послышались радостные восклицания, – ей-богу, задело одного! Бог важно-то! Ай лихо! Хоть лошадей не отбили, да убили черта одного. Что, дофарсился, брат? – и т. д.)
Между чеченцами вдруг стало заметно особенное движение, как будто они подбирали раненого, и вперед их побежала лошадь без седока. Восторг толпы при этом виде дошел до последних пределов – смеялись и хлопали в ладоши. За последним уступом горцы совершенно скрылись из виду, и рота остановилась.
– Ну-с, спектакль кончен, – сказал мне мой знакомый, – пойдемте чай пить.
– Эх, братцы, нашего-то, кажись, одного задели, – сказал в это время старый фурштат, из-под руки смотревший на возвращавшуюся роту, – несут кого-то.
Мы решили подождать возвращения роты.
Ротный командир ехал впереди, за ним шли песенники и играли одну из самых веселых, разлихих кавказских песен. На лицах солдат и офицера я заметил особенное выражение сознания собственного достоинства и гордости.
– Нет ли папиросы, господа? – сказал N., подъезжая к нам, – страх курить хочется.
– Ну что? – спросили мы его.
– Да черт бы их побрал с их лошадьми (паршивыми), – отвечал он, закуривая папиросу, – Бондарчука ранили.
– Какого Бондарчука?
– Шорника, знаете, которого я к вам присылал седло обделывать.
– А, знаю, белокурый.
– Какой славный солдат был. Вся рота им держалась.
– Разве тяжело ранен?
– Вот же, навылет, – сказал он, указывая на живот. В это время за ротой показалась группа солдат, которые на носилках несли раненого.
– Подержи-ка за конец, Филипыч, – сказал один из них, – пойду напьюсь.
Раненый тоже попросил воды. Носилки остановились. Из-за краев носилок виднелись только поднятые колена и бледный лоб из под старенькой шапки.
Какие-то две бабы, бог знает отчего, вдруг начали выть, и в толпе послышались неясные звуки сожаления, которые вместе со стопами раненого производили тяжелое, грустное впечатление.
– Вот она есть, жисть-то нашего брата, – сказал, пощелкивая языком, красноречивый солдат в синих штанах.
Мы подошли взглянуть на раненого. Это был тот самый беловолосый солдат с серьгой в ухе, который спотыкнулся, догоняя роту. Он, казалось, похудел и постарел несколькими годами, и в выражении его глаз и склада губ было что-то новое, особенное. Мысль о близости смерти уже успела проложить на этом простом лице свои прекрасные, спокойно-величественные черты.
– Как ты себя чувствуешь? – спросили его.
– Плохо, ваше благородие, – сказал он, с трудом поворачивая к нам отяжелевшие, но блестящие зрачки.
– Бог даст, поправишься.
– Все одно когда-нибудь умирать, – отвечал он, закрывая глаза.
Носилки тронулись; но умирающий хотел еще сказать что-то. Мы еще раз подошли к нему.
– Ваше благородие, – сказал он моему знакомому. – Я стремена купил, они у меня под наром лежат – ваших денег ничего не осталось.
…
На другое утро мы пришли в госпиталь наведать раненого.
– Где тут солдат восьмой роты? – спросили мы.
– Который, ваше благородие? – отвечал белолицый исхудалый солдат с подвязанной рукой, стоявший у двери.
– Должно, того спрашивают, что вчера с тревоги принесли, – сказал слабый голос с койки.
– Вынесли.
– Что, он говорил что нибудь перед смертью? – спросили мы.
– Никак нет, только дыхал тяжко, – отвечал голос с койки, – он со мной рядом лежал, так дурно пахло, ваше благородие, что беда.
…
Велики судьбы славянского народа! Недаром дана ему эта спокойная сила души, эта великая простота и бессознательность силы!…
Это было летом; жар свалил, белые летние тучи разбегались по горизонту, горы виднелись яснее, и быстрые ласточки весело вились в воздухе. Два вишневые дерева и несколько однообразных подсолнечников недвижимо стояли перед нами и далеко по дороге кидали свои тени, В двухаршинном садике было как-то тихо и уютно.
Вдруг в воздухе раздался дальний гул орудийного выстрела.
– Что это? – спросил я.
– Не знаю. Кажется, с башни, – отвечал мой знакомый, – уж не тревога ли?
Какой-то казак проскакал по улице, солдат пробежал по дороге, топая большими сапогами, в соседнем доме послышался шум и говор. Мы подошли к забору.
– Что такое? – спросили мы у денщика, который в полосатых штанах, поддерживаемых одной помочею, почесывая спину, бежал по улице.
– Тревога! – отвечал он, не останавливаясь, – барина ищу.
Капитан N. схватил папаху и, застегиваясь, побежал домой. Его рота была дежурная. Раздался второй и третий выстрел с башни.
– Пойдемте на кручь, посмотрим, верно, на водопое что-нибудь, – сказал мне мой знакомый. – Не туши самовар, – прибавил он денщику, – сейчас придем.
По улицам бежал народ: где казак, где офицер верхом, где солдат с ружьем в одной и мундиром в другой руке. Испуганные рожи жидов и баб показывались у ворот, в отворенных дверях и окнах. Все было в движенье.
– Где, братцы мои, тревога? где? – спрашивал задыхавшийся голос.
– За мостом антирелийских лошадей забирают, – отвечал другой, – такая большенная партия, братцы мои, что беда.
– Ах ты, мои батюшки! как они в крепость-то ворвутся, ай-аяй-ай-ай! – говорила слезным голосом какая-то баба.
– А, примерно, к Шамилю в жены не желаете, тетушка? – отвечал, подмигивая, молодой солдат в синих шароварах и с папахой набекрень.
(– Ишь, ровно на сватьбу, – говорил старый солдат, покачивая головой на бегущий народ, – делать-то нечего.
Два мальчика галопом пролетели мимо нас.
– Эх вы, голубчики! на тревогу! – провизжал один из них, размахивая хлыстом.)
Едва мы успели подойти к кручи, как нас уже догнала дежурная рота, которая с мешочками за плечами и ружьями наперевес бежала под гору. Ротный командир, капитан N., верхом ехал впереди.
– Петр Иваныч! – закричал ему мой знакомый, – хорошенько их, – но N. не оглянулся на нас: он с озабоченным выражением глядел вперед, и глаза его блестели более обыкновенного. В хвосте роты шел фельдшер со своим кожаным мешочком и несли носилки. Я понял выражение лица ротного командира.
Отрадно видеть человека, смело смотрящего в глаза смерти; а здесь сотни людей всякий час, всякую минуту готовы не только принять ее без страха, но – что гораздо важнее – без хвастовства, без желания отуманиться, спокойно и просто идут ей навстречу. (Хороша жизнь солдата!)
Когда рота была уже на полугоре, рябой солдат с загорелым лицом, белым затылком и серьгой в ухе, запыхавшись, подбежал к кручи. Одной рукой он нес ружье, другой придерживал суму. Поравнявшись с нами, он спотыкнулся и упал. В толпе раздался хохот.
– Смотрите, Антоныч! не к добру падать, – сказал балагур-солдат в синих штанах.
Солдат остановился; усталое, озабоченное лицо его вдруг приняло выражение самой сильной досады и строгости.
– Кабы ты был не дурак, а то ты самый дурак, – сказал он с презрением, – что ни на есть глуп, вот что, – и он пустился догонять роту.
Вечер был тихий и ясный, по ущельям, как всегда, ползли тучи, но небо было чисто, два черных орла высоко разводили свои плавные круги. На противоположной стороне серебряной ленты Аргуна отчетливо виднелась одинокая кирпичная башня – единственное владение наше в Большой Чечне. В некотором расстоянии от нее партия конных чеченцев гнала отбитых лошадей вверх по крутому берегу и перестреливалась с солдатами, бывшими в башне.
Когда рота перебежала через мост, чеченцы были от нее уже гораздо далее ружейного выстрела, но, несмотря на то, между нашими показался дымок, другой, третий, и вдруг беглый огонь по всему фронту роты. Звук этой трескотни выстрелов секунд через пятьдесят, к общей радости толпы зрителей, долетел до нас.
– Вот она! Ишь пошли! Пошли, пошли-и! Наутек, – послышались в толпе хохот и одобрения.
– Ежели бы, то есть, постепенно отрезать их от гор, не могли бы себе уходу иметь, – сказал балагур в синих штанах, обращавший своим разговором внимание всех зрителей.
Чеченцы, действительно, после залпа поскакали шибче в гору; только несколько джигитов из удальства остались сзади и завязали перестрелку с ротой. Особенно один на белом коне в черной черкеске джигитовал, казалось, шагах в пятидесяти от наших, так что досадно было глядеть на него. Несмотря на беспрерывные выстрелы, он разъезжал шагом перед ротой; и только изредка около него показывался голубоватый дымок, долетал отрывчатый звук винтовочного выстрела. Сейчас после выстрела он на несколько скачков пускал свою лошадь и потом снова останавливался.
– Опять выпалил, подлец, – говорили около нас.
– Вишь, сволочь, не боится. Слово знает, – замечал говорун.
(– Задело, задело, братцы мои, – вдруг послышались радостные восклицания, – ей-богу, задело одного! Бог важно-то! Ай лихо! Хоть лошадей не отбили, да убили черта одного. Что, дофарсился, брат? – и т. д.)
Между чеченцами вдруг стало заметно особенное движение, как будто они подбирали раненого, и вперед их побежала лошадь без седока. Восторг толпы при этом виде дошел до последних пределов – смеялись и хлопали в ладоши. За последним уступом горцы совершенно скрылись из виду, и рота остановилась.
– Ну-с, спектакль кончен, – сказал мне мой знакомый, – пойдемте чай пить.
– Эх, братцы, нашего-то, кажись, одного задели, – сказал в это время старый фурштат, из-под руки смотревший на возвращавшуюся роту, – несут кого-то.
Мы решили подождать возвращения роты.
Ротный командир ехал впереди, за ним шли песенники и играли одну из самых веселых, разлихих кавказских песен. На лицах солдат и офицера я заметил особенное выражение сознания собственного достоинства и гордости.
– Нет ли папиросы, господа? – сказал N., подъезжая к нам, – страх курить хочется.
– Ну что? – спросили мы его.
– Да черт бы их побрал с их лошадьми (паршивыми), – отвечал он, закуривая папиросу, – Бондарчука ранили.
– Какого Бондарчука?
– Шорника, знаете, которого я к вам присылал седло обделывать.
– А, знаю, белокурый.
– Какой славный солдат был. Вся рота им держалась.
– Разве тяжело ранен?
– Вот же, навылет, – сказал он, указывая на живот. В это время за ротой показалась группа солдат, которые на носилках несли раненого.
– Подержи-ка за конец, Филипыч, – сказал один из них, – пойду напьюсь.
Раненый тоже попросил воды. Носилки остановились. Из-за краев носилок виднелись только поднятые колена и бледный лоб из под старенькой шапки.
Какие-то две бабы, бог знает отчего, вдруг начали выть, и в толпе послышались неясные звуки сожаления, которые вместе со стопами раненого производили тяжелое, грустное впечатление.
– Вот она есть, жисть-то нашего брата, – сказал, пощелкивая языком, красноречивый солдат в синих штанах.
Мы подошли взглянуть на раненого. Это был тот самый беловолосый солдат с серьгой в ухе, который спотыкнулся, догоняя роту. Он, казалось, похудел и постарел несколькими годами, и в выражении его глаз и склада губ было что-то новое, особенное. Мысль о близости смерти уже успела проложить на этом простом лице свои прекрасные, спокойно-величественные черты.
– Как ты себя чувствуешь? – спросили его.
– Плохо, ваше благородие, – сказал он, с трудом поворачивая к нам отяжелевшие, но блестящие зрачки.
– Бог даст, поправишься.
– Все одно когда-нибудь умирать, – отвечал он, закрывая глаза.
Носилки тронулись; но умирающий хотел еще сказать что-то. Мы еще раз подошли к нему.
– Ваше благородие, – сказал он моему знакомому. – Я стремена купил, они у меня под наром лежат – ваших денег ничего не осталось.
…
На другое утро мы пришли в госпиталь наведать раненого.
– Где тут солдат восьмой роты? – спросили мы.
– Который, ваше благородие? – отвечал белолицый исхудалый солдат с подвязанной рукой, стоявший у двери.
– Должно, того спрашивают, что вчера с тревоги принесли, – сказал слабый голос с койки.
– Вынесли.
– Что, он говорил что нибудь перед смертью? – спросили мы.
– Никак нет, только дыхал тяжко, – отвечал голос с койки, – он со мной рядом лежал, так дурно пахло, ваше благородие, что беда.
…
Велики судьбы славянского народа! Недаром дана ему эта спокойная сила души, эта великая простота и бессознательность силы!…
Комментарии
(Н. В. Бурнашева)
«Как умирают русские солдаты. (Тревога)». – При жизни Толстого не печатался. Впервые опубликован в кн.: «Лев Толстой. Неизданные художественные произведения». М., 1928.
Рассказ написан в Севастополе в 1854 году для предполагаемого журнала «Военный листок». Издание журнала разрешено не было, и рассказ так и остался неотделанным. В 1858 году в Ясной Поляне Толстой вернулся к оставленному рассказу (запись в Дневнике 11 апреля – т. 48, с. 12), но и в этот раз работа не была завершена, и рассказ не публиковался.
Рассказ написан в Севастополе в 1854 году для предполагаемого журнала «Военный листок». Издание журнала разрешено не было, и рассказ так и остался неотделанным. В 1858 году в Ясной Поляне Толстой вернулся к оставленному рассказу (запись в Дневнике 11 апреля – т. 48, с. 12), но и в этот раз работа не была завершена, и рассказ не публиковался.
