Страница:
Вместе с нашею победой
Я иду, а не один.
Этот час не за горою,
Для меня и для тебя…
А читатель той порою
Скажет:
– Где же про героя?
Это больше про себя,
Про себя? Упрёк уместный,
Может быть, меня пресёк.
Но давайте скажем честно!.
Что ж, а я не человек?
Спорить здесь нужды не вижу,
Сознавайся в чём в другом.
Я ограблен и унижен,
Как и ты, одним врагом.
Я дрожу от боли острой,
Злобы горькой и святой.
Мать, отец, родные сёстры
У меня за той чертой.
Я стонать от боли вправе
И кричать с тоски клятой.
То, что я всем сердцем славил
И любил – за той чертой.
Друг мой, так же не легко мне,
Как тебе с глухой бедой.
То, что я хранил и помнил,
Чем я жил – за той, за той –
За неписаной границей,
Поперёк страны самой,
Что горит, горит в зарницах
Вспышек – летом и зимой…
И скажу тебе, не скрою, –
В этой книге, там ли, сям,
То, что молвить бы герою,
Говорю я лично сам.
Я за всё кругом в ответе,
И заметь, коль не заметил,
Что и Тёркин, мой герой,
За меня гласит порой.
Он земляк мой и, быть может,
Хоть нимало не поэт,
Всё же как-нибудь похоже
Размышлял. А нет, ну – нет.
Тёркин – дальше. Автор – вслед.




Всех, кого взяла война,
Каждого солдата
Проводила хоть одна
Женщина когда-то…
Не подарок, так бельё
Собрала, быть может,
И что дольше без неё,
То она дороже.
И дороже этот час,
Памятный, особый,
Взгляд последний этих глаз,
Что забудь попробуй.
Обойдись в пути большом,
Глупой славы ради,
Без любви, что видел в нём,
В том прощальном взгляде.
Он у каждого из нас
Самый сокровенный
И бесценный наш запас,
Неприкосновенный.
Он про всякий час, друзья,
Бережно хранится.
И с товарищем нельзя
Этим поделиться,
Потому – он мой, он весь –
Мой, святой и скромный,
У тебя он тоже есть,
Ты подумай, вспомни.
Всех, кого взяла война,
Каждого солдата
Проводила хоть одна
Женщина когда-то…
И приходится сказать,
Что из всех тех женщин,
Как всегда, родную мать
Вспоминают меньше.
И не принято родной
Сетовать напрасно, –
В срок иной, в любви иной
Мать сама была женой
С тем же правом властным.
Да, друзья, любовь жены, –
Кто не знал – проверьте, –
На войне сильней войны
И, быть может, смерти.
Ты ей только не перечь,
Той любви, что вправе
Ободрить, предостеречь,
Осудить, прославить.
Вновь достань листок письма,
Перечти сначала,
Пусть в землянке полутьма,
Ну-ка, где она сама
То письмо писала?
При каком на этот раз
Примостилась свете?
То ли спали в этот час,
То ль мешали дети,
То ль болела голова
Тяжко, не впервые,
Оттого, брат, что дрова
Не горят сырые?..
Впряжена в тот воз одна,
Разве не устанет?
Да зачем тебе жена
Жаловаться станет?
Жёны думают, любя,
Что иное слово
Всё ж скорей найдёт тебя
На войне живого.
Нынче жёны все добры,
Беззаветны вдосталь,
Даже те, что до поры
Были ведьмы просто.
Смех – не смех, случалось мне
С жёнами встречаться,
От которых на войне
Только и спасаться.
Чем томиться день за днём
С той женою-крошкой,
Лучше ползать под огнём
Или под бомбёжкой.
Лучше, пять пройдя атак,
Ждать шестую в сутки…
Впрочем, это только так,
Только ради шутки.
Нет, друзья, любовь жены, –
Сотню раз проверьте, –
На войне сильней войны
И, быть может, смерти.
И одно сказать о ней
Вы б могли вначале:
Что короче, что длинней –
Та любовь, война ли?
Но, бестрепетно в лицо
Глядя всякой правде,
Я замолвил бы словцо
За любовь, представьте.
Как война на жизнь ни шла,
Сколько ни пахала,
Но любовь пережила
Срок её немалый.
И недаром нету, друг,
Письмеца дороже,
Что из тех далёких рук,
Дорогих усталых рук
В трещинках по коже.
И не зря взываю я
К жёнам настоящим:
– Жёны, милые друзья,
Вы пишите чаще.
Не ленитесь к письмецу
Приписать, что надо.
Генералу ли, бойцу,
Это – как награда.
Нет, товарищ, не забудь
На войне жестокой:
У войны короткий путь,
У любви – далёкий.
И её большому дню
Сроки близки ныне.
А к чему я речь клоню?
Вот к чему, родные.
Всех, кого взяла война,
Каждого солдата
Проводила хоть одна
Женщина когда-то…
Но хотя и жалко мне,
Сам помочь не в силе,
Что остался в стороне
Тёркин мой Василий.
Не случилось никого
Проводить в дорогу.
Полюбите вы его,
Девушки, ей-богу!
Любят лётчиков у нас,
Конники в почёте.
Обратитесь, просим вас,
К матушке-пехоте!
Полюбите молодца,
Сердце подарите,
До победного конца
Верно полюбите!
Пусть тот конник на коне,
Лётчик в самолёте,
И, однако, на войне
Первый ряд – пехоте.
Пусть танкист красив собой
И горяч в работе,
А ведёшь машину в бой –
Поклонись пехоте.
Пусть форсист артиллерист
В боевом расчёте,
Отстрелялся – не гордись,
Дела суть – в пехоте.
Обойдите всех подряд,
Лучше не найдёте:
Обратите нежный взгляд,
Девушки, к пехоте.
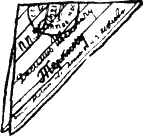
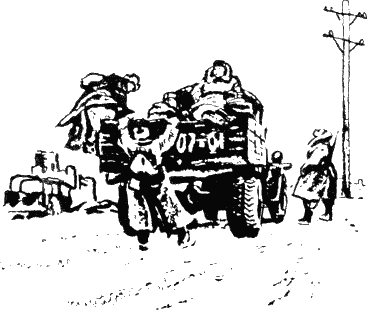

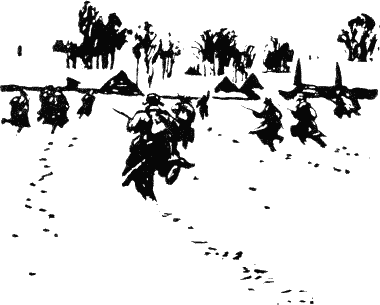


Я иду, а не один.
Этот час не за горою,
Для меня и для тебя…
А читатель той порою
Скажет:
– Где же про героя?
Это больше про себя,
Про себя? Упрёк уместный,
Может быть, меня пресёк.
Но давайте скажем честно!.
Что ж, а я не человек?
Спорить здесь нужды не вижу,
Сознавайся в чём в другом.
Я ограблен и унижен,
Как и ты, одним врагом.
Я дрожу от боли острой,
Злобы горькой и святой.
Мать, отец, родные сёстры
У меня за той чертой.
Я стонать от боли вправе
И кричать с тоски клятой.
То, что я всем сердцем славил
И любил – за той чертой.
Друг мой, так же не легко мне,
Как тебе с глухой бедой.
То, что я хранил и помнил,
Чем я жил – за той, за той –
За неписаной границей,
Поперёк страны самой,
Что горит, горит в зарницах
Вспышек – летом и зимой…
И скажу тебе, не скрою, –
В этой книге, там ли, сям,
То, что молвить бы герою,
Говорю я лично сам.
Я за всё кругом в ответе,
И заметь, коль не заметил,
Что и Тёркин, мой герой,
За меня гласит порой.
Он земляк мой и, быть может,
Хоть нимало не поэт,
Всё же как-нибудь похоже
Размышлял. А нет, ну – нет.
Тёркин – дальше. Автор – вслед.

Бой в болоте

Бой безвестный, о котором
Речь сегодня поведём,
Был, прошёл, забылся скоро…
Да и вспомнят ли о нём?
Бой в лесу, в кустах, в болоте,
Где война стелила путь,
Где вода была пехоте
По колено, грязь – по грудь;
Где брели бойцы понуро,
И, скользнув с бревна в ночи,
Артиллерия тонула,
Увязали тягачи.
Этот бой в болоте диком
На втором году войны
Не за город шёл великий,
Что один у всей страны;
Не за гордую твердыню,
Что у матушки-реки,
А за некий, скажем ныне,
Населённый пункт Борки.
Он стоял за тем болотом
У конца лесной тропы,
В нём осталось ровным счётом
Обгорелых три трубы.
Там с открытых и закрытых
Огневых – кому забыть! —
Было бито, бито, бито,
И, казалось, что там бить?
Там в щебёнку каждый камень,
В щепки каждое бревно.
Называлось там Борками
Место чёрное одно.
А в окружку – мох, болото,
Край от мира в стороне.
И подумать вдруг, что кто-то
Здесь родился, жил, работал,
Кто сегодня на войне.
Где ты, где ты, мальчик босый,
Деревенский пастушок,
Что по этим дымным росам,
Что по этим кочкам шёл?
Бился ль ты в горах Кавказа,
Или пал за Сталинград,
Мой земляк, ровесник, брат,
Верный долгу к приказу
Русский труженик-солдат.
Или, может, а этих дымах,
Что уже недалеки,
Видишь нынче свой родимый
Угол дедовский, Борки?
И у той черты недальной,
У земли многострадальной,
Что была к тебе добра,
Влился голос твой в печальный
И протяжный стон: «Ура-а…»
Как в бою удачи мало
И дела нехороши,
Виноватого, бывало,
Там попробуй поищи.
Артиллерия толково
Говорит – она права:
– Вся беда, что танки снова
В лес свернули по дрова.
А ещё сложнее счёты,
Чуть танкиста повстречал:
– Подвела опять пехота.
Залегла. Пропал запал.
А пехота не хвастливо,
Без отрыва от земли
Лишь махнёт рукой лениво:
– Точно. Танки подвели.
Так идёт оно по кругу,
И ругают все друг друга,
Лишь в согласье все подряд
Авиацию бранят.
Все хорошие ребята,
Как посмотришь – красота.
И ничуть не виноваты,
И деревня не взята.
И противник по болоту,
По траншейкам торфяным
Садит вновь из миномётов —
Что ты хочешь делай с ним.
Адреса разведал точно,
Шлёт посылки спешной почтой,
И лежишь ты, адресат,
Изнывая, ждёшь за кочкой,
Скоро ль мина влепит в зад.
Перемокшая пехота
В полный смак клянёт болото,
Не мечтает о другом —
Хоть бы смерть, да на сухом.
Кто-нибудь ещё расскажет,
Как лежали там в тоске.
Третьи сутки кукиш кажет
В животе кишка кишке.
Посыпает дождик редкий,
Кашель злой терзает грудь.
Ни клочка родной газетки —
Козью ножку завернуть;
И ни спичек, ни махорки —
Всё раскисло от воды.
– Согласись, Василий Тёркин,
Хуже нет уже беды?
Тот лежит у края лужи,
Усмехнулся:
– Нет, друзья,
о сто раз бывает хуже,
Это точно знаю я.
– Где уж хуже…
– А не спорьте,
Кто не хочет, тот не верь,
Я сказал бы: на курорте
Мы находимся теперь.
И глядит шутник великий
На людей со стороны.
Губы – то ли от черники,
То ль от холода черны,
Говорит:
– В своём болоте
Ты находишься сейчас.
Ты в цепи. Во взводе. В роте.
Ты имеешь связь и часть.
Даже сетовать неловко
При такой, чудак, судьбе.
У тебя в руках винтовка,
Две гранаты при тебе.
У тебя – в тылу ль, на фланге, —
Сам не знаешь, как силён, —
Бронебойки, пушки, танки.
Ты, брат, – это батальон.
Полк. Дивизия. А хочешь —
Фронт. Россия! Наконец,
Я, скажу тебе короче
И понятней: ты – боец.
Ты в строю, прошу усвоить,
А быть может, год назад
Ты бы здесь изведал, воин,
То, что наш изведал брат.
Ноги б с горя не носили!
Где свои, где чьи края?
Где тот фронт и где Россия?
По какой рубеж своя?
И однажды ночью поздно,
От деревни в стороне
Укрывался б ты в колхозной,
Например, сенной копне…
Тут, озноб вдувая в души,
Долгой выгнувшись дугой,
Смертный свист скатился в уши,
Ближе, ниже, суше, глуше —
И разрыв!
За ним другой…
– Ну, накрыл. Не даст дослушать
Человека.
– Он такой…
И за каждым тем разрывом
На примолкнувших ребят
Рваный лист, кружась лениво,
Ветки сбитые летят.
Тянет всех, зовёт куда-то,
Уходи, беда вот-вот…
Только Тёркин:
– Брось, ребята,
Говорю – не попадёт.
Сам сидит как будто в кресле,
Всех страхует от огня.
– Ну, а если?..
– А уж если…
Получи тогда с меня.
Слушай лучше. Я серьёзно
Рассуждаю о войне.
Вот лежишь ты в той бесхозной,
В поле брошенной копне.
Немец где? До ближней хаты
Полверсты – ни дать ни взять,
И приходят два солдата
В поле сена навязать.
Из копнушки вяжут сено,
Той, где ты нашёл приют,
Уминают под колено
И поют. И что ж поют!
Хлопцы, верьте мне, не верьте,
Только врать не стал бы я,
А поют худые черти,
Сам слыхал: «Москва моя».
Тут состроил Тёркин рожу
И привстал, держась за пень,
И запел весьма похоже,
Как бы немец мог запеть.
До того тянул он криво,
И смотрел при этом он
Так чванливо, так тоскливо,
Так чудно, – печёнки вон!
– Вот и смех тебе. Однако
Услыхал бы ты тогда
Эту песню, – ты б заплакал
От печали и стыда.
И смеёшься ты сегодня,
Потому что, знай, боец:
Этой песни прошлогодней
Нынче немец не певец.
– Не певец-то – это верно,
Это ясно, час не тот…
– А деревню-то, примерно,
Вот берём – не отдаёт.
И с тоскою бесконечной,
Что, быть может, год берёг,
Кто-то так чистосердечно,
Глубоко, как мех кузнечный,
Вдруг вздохнул:
– Ого, сынок!
Подивился Тёркин вздоху,
Посмотрел, – ну, ну! – сказал, —
И такой ребячий хохот
Всех опять в работу взял.
– Ах ты, Тёркин. Ну и малый.
И в кого ты удался,
Только мать, наверно, знала…
– Я от тётки родился.
– Тёркин – тёткин, ёлки-палки,
Сыпь ещё назло врагу.
– Не могу. Таланта жалко.
До бомбёжки берегу.
Получай тогда на выбор,
Что имею про запас.
– И за то тебе спасибо.
– На здоровье. В добрый час.
Заключить теперь нельзя ли,
Что, мол, горе не беда,
Что ребята встали, взяли
Деревушку без труда?
Что с удачей постоянной
Тёркин подвиг совершил:
Русской ложкой деревянной
Восемь фрицев уложил!
Нет, товарищ, скажем прямо:
Был он долог до тоски,
Летний бой за этот самый
Населённый пункт Борки.
Много дней прошло суровых,
Горьких, списанных в расход.
– Но позвольте, – скажут снова, —
Так о чём тут речь идёт?.
Речь идёт о том болоте,
Где война стелила путь,
Где вода была пехоте
По колено, грязь – по грудь;
Где в трясине, в ржавой каше,
Безответно – в счёт, не в счёт —
Шли, ползли, лежали наши
Днём и ночью напролёт;
Где подарком из подарков,
Как труды ни велики,
Не Ростов им был, не Харьков,
Населённый пункт Борки.
И в глуши, в бою безвестном,
В сосняке, в кустах сырых
Смертью праведной и честной
Пали многие из них.
Пусть тот бой не упомянут
В списке славы золотой,
День придёт – ещё повстанут
Люди в памяти живой.
И в одной бессмертной книге
Будут все навек равны —
Кто за город пал великий,
Что один у всей страны;
Кто за гордую твердыню,
Что у Волги у реки,
Кто за тот, забытый ныне,
Населённый пункт Борки.
И Россия – мать родная —
Почесть всем отдаст сполна.
Бой иной, пора иная,
Жизнь одна и смерть одна.

О любви

Всех, кого взяла война,
Каждого солдата
Проводила хоть одна
Женщина когда-то…
Не подарок, так бельё
Собрала, быть может,
И что дольше без неё,
То она дороже.
И дороже этот час,
Памятный, особый,
Взгляд последний этих глаз,
Что забудь попробуй.
Обойдись в пути большом,
Глупой славы ради,
Без любви, что видел в нём,
В том прощальном взгляде.
Он у каждого из нас
Самый сокровенный
И бесценный наш запас,
Неприкосновенный.
Он про всякий час, друзья,
Бережно хранится.
И с товарищем нельзя
Этим поделиться,
Потому – он мой, он весь –
Мой, святой и скромный,
У тебя он тоже есть,
Ты подумай, вспомни.
Всех, кого взяла война,
Каждого солдата
Проводила хоть одна
Женщина когда-то…
И приходится сказать,
Что из всех тех женщин,
Как всегда, родную мать
Вспоминают меньше.
И не принято родной
Сетовать напрасно, –
В срок иной, в любви иной
Мать сама была женой
С тем же правом властным.
Да, друзья, любовь жены, –
Кто не знал – проверьте, –
На войне сильней войны
И, быть может, смерти.
Ты ей только не перечь,
Той любви, что вправе
Ободрить, предостеречь,
Осудить, прославить.
Вновь достань листок письма,
Перечти сначала,
Пусть в землянке полутьма,
Ну-ка, где она сама
То письмо писала?
При каком на этот раз
Примостилась свете?
То ли спали в этот час,
То ль мешали дети,
То ль болела голова
Тяжко, не впервые,
Оттого, брат, что дрова
Не горят сырые?..
Впряжена в тот воз одна,
Разве не устанет?
Да зачем тебе жена
Жаловаться станет?
Жёны думают, любя,
Что иное слово
Всё ж скорей найдёт тебя
На войне живого.
Нынче жёны все добры,
Беззаветны вдосталь,
Даже те, что до поры
Были ведьмы просто.
Смех – не смех, случалось мне
С жёнами встречаться,
От которых на войне
Только и спасаться.
Чем томиться день за днём
С той женою-крошкой,
Лучше ползать под огнём
Или под бомбёжкой.
Лучше, пять пройдя атак,
Ждать шестую в сутки…
Впрочем, это только так,
Только ради шутки.
Нет, друзья, любовь жены, –
Сотню раз проверьте, –
На войне сильней войны
И, быть может, смерти.
И одно сказать о ней
Вы б могли вначале:
Что короче, что длинней –
Та любовь, война ли?
Но, бестрепетно в лицо
Глядя всякой правде,
Я замолвил бы словцо
За любовь, представьте.
Как война на жизнь ни шла,
Сколько ни пахала,
Но любовь пережила
Срок её немалый.
И недаром нету, друг,
Письмеца дороже,
Что из тех далёких рук,
Дорогих усталых рук
В трещинках по коже.
И не зря взываю я
К жёнам настоящим:
– Жёны, милые друзья,
Вы пишите чаще.
Не ленитесь к письмецу
Приписать, что надо.
Генералу ли, бойцу,
Это – как награда.
Нет, товарищ, не забудь
На войне жестокой:
У войны короткий путь,
У любви – далёкий.
И её большому дню
Сроки близки ныне.
А к чему я речь клоню?
Вот к чему, родные.
Всех, кого взяла война,
Каждого солдата
Проводила хоть одна
Женщина когда-то…
Но хотя и жалко мне,
Сам помочь не в силе,
Что остался в стороне
Тёркин мой Василий.
Не случилось никого
Проводить в дорогу.
Полюбите вы его,
Девушки, ей-богу!
Любят лётчиков у нас,
Конники в почёте.
Обратитесь, просим вас,
К матушке-пехоте!
Полюбите молодца,
Сердце подарите,
До победного конца
Верно полюбите!
Пусть тот конник на коне,
Лётчик в самолёте,
И, однако, на войне
Первый ряд – пехоте.
Пусть танкист красив собой
И горяч в работе,
А ведёшь машину в бой –
Поклонись пехоте.
Пусть форсист артиллерист
В боевом расчёте,
Отстрелялся – не гордись,
Дела суть – в пехоте.
Обойдите всех подряд,
Лучше не найдёте:
Обратите нежный взгляд,
Девушки, к пехоте.
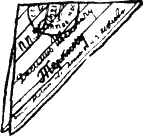
Отдых Тёркина
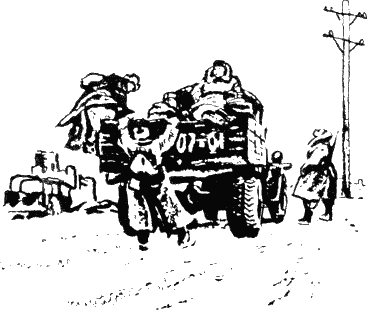
На войне – в пути, в теплушке,
В тесноте любой избушки,
В блиндаже иль погребушке, —
Там, где случай приведёт, —
Лучше нет, как без хлопот,
Без перины, без подушки,
Примостясь кой-как друг к дружке,
Отдохнуть… Минут шестьсот.
Даже больше б не мешало,
Но солдату на войне
Срок такой для сна, пожалуй,
Можно видеть лишь во сне.
И представь, что вдруг, покинув
В некий час передний край,
Ты с попутною машиной
Попадаешь прямо в рай.
Мы здесь вовсе не желаем
Шуткой той блеснуть спроста,
Что, мол, рай с передним краем
Это – смежные места.
Рай по правде. Дом. Крылечко.
Веник – ноги обметай.
Дальше – горница и печка.
Всё, что надо. Чем не рай?
Вот и в книге ты отмечен,
Раздевайся, проходи.
И плечьми у тёплой печи
На свободе поведи.
Осмотрись вокруг детально,
Вот в ряду твоя кровать.
И учти, что это – спальня,
То есть место – специально
Для того, чтоб только спать.
Спать, солдат, весь срок недельный,
Самолично, безраздельно
Занимать кровать свою,
Спать в сухом тепле постельном,
Спать в одном белье нательном,
Как положено в раю.
И по строгому приказу,
Коль тебе здесь быть пришлось,
Ты помимо сна обязан
Пищу в день четыре раза
Принимать. Но как? – вопрос.
Всех привычек перемена
Поначалу тяжела.
Есть в раю нельзя с колена,
Можно только со стола.
И никто в раю не может
Бегать к кухне с котелком,
И нельзя сидеть в одёже
И корёжить хлеб штыком.
И такая установка
Строго-настрого дана,
Что у ног твоих винтовка
Находиться не должна.
И в ущерб своей привычке
Ты не можешь за столом
Утереться рукавичкой
Или – так вот – рукавом.
И когда покончишь с пищей,
Не забудь ещё, солдат,
Что в раю за голенище
Ложку прятать не велят.
Все такие оговорки
Разобрав, поняв путём,
Принял в счёт Василий Тёркин
И решил:
– Не пропадём.
Вот обед прошёл и ужин.
– Как вам нравится у нас?
– Ничего. Немножко б хуже,
То и было б в самый раз…
Покурил, вздохнул и на бок.
Как-то странно голове.
Простыня – пускай одна бы,
Нет, так на, мол, сразу две.
Чистота – озноб по коже,
И неловко, что здоров,
А до крайности похоже,
Будто в госпитале вновь.
Бережёт плечо в кровати,
Головой не повернёт.
Вот и девушка в халате
Совершает свой обход.
Двое справа, трое слева
К ней разведчиков тотчас.
А она, как королева:
Мол, одна, а сколько вас.
Тёркин смотрит сквозь ресницы:
О какой там речь красе.
Хороша, как говорится,
В прифронтовой полосе.
Хороша, при смутном свете,
Дорога, как нет другой,
И видать, ребята эти
Отдохнули день, другой…
Сон-забвенье на пороге,
Ровно, сладко дышит грудь.
Ах, как холодно в дороге
У объезда где-нибудь!
Как прохватывает ветер,
Как луна теплом бедна!
Ах, как трудно всё на свете:
Служба, жизнь, зима, война.
Как тоскует о постели
На войне солдат живой!
Что ж не спится в самом деле?
Не укрыться ль с головой?
Полчаса и час проходит,
С боку на бок, навзничь, ниц.
Хоть убейся – не выходит.
Все храпят, а ты казнись.
То ли жарко, то ли зябко,
Не понять, а сна всё нет.
– Да надень ты, парень, шапку, —
Вдруг дают ему совет.
Разъясняют:
– Ты не первый,
Не второй страдаешь тут.
Поначалу наши нервы
Спать без шапки не дают.
И едва надел родимый
Головной убор солдат,
Боевой, пропахший дымом
И землёй, как говорят, —
Тот, обношенный на славу
Под дождём и под огнём,
Что ещё колючкой ржавой
Как-то прорван был на нём;
Тот, в котором жизнь проводишь,
Не снимая, – так хорош! —
И когда ко сну отходишь,
И когда на смерть идёшь, —
Видит: нет, не зря послушал
Тех, что знали, в чём резон:
Как-то вдруг согрелись уши,
Как-то стало мягче, груше —
И всего свернуло в сон.
И проснулся он до срока
С чувством редкостным – точь-в-точь
Словно где-нибудь далёко
Побывал за эту ночь;
Словно выкупался где-то,
Где – хоть вновь туда вернись —
Не зима была, а лето,
Не война, а просто жизнь.
И с одной ногой обутой,
Шапку снять забыв свою,
На исходе первых суток
Он задумался в раю.
Хороши харчи и хата,
Осуждать не станем зря,
Только, знаете, война-то
Не закончена, друзья.
Посудите сами, братцы,
Кто б чудней придумать мог:
Раздеваться, разуваться
На такой короткий срок.
Тут обвыкнешь – сразу крышка,
Чуть покинешь этот рай.
Лучше скажем: передышка.
Больше время не теряй.
Закусил, собрался, вышел,
Дело было на мази.
Грузовик идёт, – заслышал,
Голосует:
– Подвези.
И, четыре пуда грузу
Добавляя по пути,
Через борт ввалился в кузов,
Постучал: давай, крути.
Ехал – близко ли, далёко —
Кому надо, вымеряй.
Только, рай, прощай до срока,
И опять – передний край.
Соскочил у поворота, —
Глядь – и дома, у огня.
– Ну, рассказывайте, что тут,
Как тут, хлопцы, без меня?
– Сам рассказывай. Кому же
Неохота знать тотчас,
Как там, что в раю у вас…
– Хорошо. Немножко б хуже,
Верно, было б в самый раз…
Хорошо поспал, богато,
Осуждать не станем зря.
Только, знаете, война-то
Не закончена, друзья.
Как дойдём до той границы
По Варшавскому шоссе,
Вот тогда, как говорится,
Отдохнём. И то не всё.
А пока – в пути, в теплушке,
В тесноте любой избушки,
В блиндаже иль погребушке,
Где нам случай приведёт, —
Лучше нет, как без хлопот,
Без перины, без подушки,
Примостясь плотней друг к дружке,
Отдохнуть.
А там – вперёд.

В наступлении
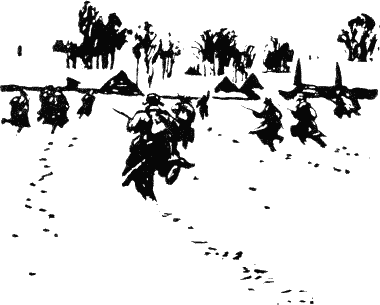
Столько жили в обороне,
Что уже с передовой
Сами шли, бывало, кони,
Как в селе, на водопой.
И на весь тот лес обжитый,
И на весь передний край
У землянок домовитый
Раздавался пёсий лай.
И прижившийся на диво,
Петушок – была пора —
По утрам будил комдива,
Как хозяина двора.
И во славу зимних буден
В бане – пару не жалей —
Секлись вениками люди
Вязки собственной своей.
На войне, как на привале,
Отдыхали про запас,
Жили, «Тёркина» читали
На досуге.
Вдруг – приказ…
Вдруг – приказ, конец стоянке.
И уж где-то далеки
Опустевшие землянки,
Сиротливые дымки.
И уже обыкновенно
То, что минул целый год,
Точно день. Вот так, наверно,
И война, и всё пройдёт…
И солдат мой поседелый,
Коль останется живой,
Вспомнит: то-то было дело,
Как сражались под Москвой…
И с печалью горделивой
Он начнёт в кругу внучат
Свой рассказ неторопливый,
Если слушать захотят…
Трудно знать. Со стариками
Не всегда мы так добры.
Там посмотрим.
А покамест
Далеко до той поры.
* * *
Бой в разгаре. Дымкой синей
Серый снег заволокло.
И в цепи идёт Василий,
Под огнём идёт в село.
И до отчего порога,
До родимого села
Через то село дорога —
Не иначе – пролегла.
Что поделаешь – иному
И ещё кружнее путь.
И идёт иной до дому
То ли степью незнакомой,
То ль горами где-нибудь…
Низко смерть над шапкой свищет,
Хоть кого согнёт в дугу.
Цепь идёт, как будто ищет
Что-то в поле на снегу.
И бойцам, что помоложе,
Что впервые так идут,
В этот час всего дороже
Знать одно, что Тёркин тут.
Хорошо – хотя ознобцем
Пронимает под огнём —
Не последним самым хлопцем
Показать себя при нём.
Толку нет, что в миг тоскливый,
Как снаряд берёт разбег,
Тёркин так же ждёт разрыва,
Камнем кинувшись на снег;
Что над страхом меньше власти
У того в бою подчас,
Кто судьбу свою и счастье
Испытал уже не раз;
Что, быть может, эта сила
Уцелевшим из огня
Человека выносила
До сегодняшнего дня, —
До вот этой борозденки,
Где лежит, вобрав живот,
Он, обшитый кожей тонкой
Человек. Лежит и ждёт…
Где-то там, за полем бранным,
Думу думает свою
Тот, по чьим часам карманным
Все часы идут в бою.
И за всей вокруг пальбою,
За разрывами в дыму
Он следит, владыка боя,
И решает, что к чему.
Где-то там, в песчаной круче,
В блиндаже сухом, сыпучем,
Глядя в карту, генерал
Те часы свои достал;
Хлопнул крышкой, точно дверкой,
Поднял шапку, вытер пот…
И дождался, слышит Тёркин:
– Взвод! За Родину! Вперёд!..
И хотя слова он эти —
Клич у смерти на краю —
Сотни раз читал в газете
И не раз слыхал в бою, —
В душу вновь они вступали
С одинаковою той
Властью правды и печали,
Сладкой горечи святой;
С тою силой неизменной,
Что людей в огонь ведёт,
Что за всё ответ священный
На себя уже берёт.
– Взвод! За Родину! Вперёд!..
Лейтенант щеголеватый,
Конник, спешенный в боях,
По-мальчишечьи усатый,
Весельчак, плясун, казак,
Первым встал, стреляя с ходу,
Побежал вперёд со взводом,
Обходя село с задов.
И пролёг уже далёко
След его в снегу глубоком —
Дальше всех в цепи следов.
Вот уже у крайней хаты
Поднял он ладонь к усам:
– Молодцы! Вперёд, ребята! —
Крикнул так молодцевато,
Словно был Чапаев сам.
Только вдруг вперёд подался,
Оступился на бегу,
Чёткий след его прервался
На снегу…
И нырнул он в снег, как в воду,
Как мальчонка с лодки в вир.
И пошло в цепи по взводу:
– Ранен! Ранен командир!..
Подбежали. И тогда-то,
С тем и будет не забыт,
Он привстал:
– Вперёд, ребята!
Я не ранен. Я – убит…
Край села, сады, задворки —
В двух шагах, в руках вот-вот…
И увидел, понял Тёркин,
Что вести его черёд.
– Взвод! За Родину! Вперёд!..
И доверчиво по знаку,
За товарищем спеша,
С места бросились в атаку
Сорок душ – одна душа…
Если есть в бою удача,
То в исходе все подряд
С похвалой, весьма горячей,
Друг о друге говорят.
– Танки действовали славно.
– Шли сапёры молодцом.
– Артиллерия подавно
Не ударит в грязь лицом.
– А пехота!
– Как по нотам,
Шла пехота. Ну да что там!
Авиация – и та…
Словом, просто – красота.
И бывает так, не скроем,
Что успех глаза слепит:
Столько сыщется героев,
Что – глядишь – один забыт,
Но для точности примерной,
Для порядка генерал,
Кто в село ворвался первым,
Знать на месте пожелал.
Доложили, как обычно:
Мол, такой-то взял село,
Но не смог явиться лично,
Так как ранен тяжело.
И тогда из всех фамилий,
Всех сегодняшних имён —
Тёркин – вырвалось – Василий!
Это был, конечно, он.

Смерть и воин

За далёкие пригорки
Уходил сраженья жар.
На снегу Василий Тёркин
Неподобранный лежал.
Снег под ним, набрякши кровью,
Взялся грудой ледяной.
Смерть склонилась к изголовью:
– Ну, солдат, пойдём со мной.
Я теперь твоя подруга,
Недалёко провожу,
Белой вьюгой, белой вьюгой,
Вьюгой след запорошу.
Дрогнул Тёркин, замерзая
На постели снеговой.
– Я не звал тебя, Косая,
Я солдат ещё живой.
Смерть, смеясь, нагнулась ниже:
– Полно, полно, молодец,
Я-то знаю, я-то вижу:
Ты живой, да не – жилец.
Мимоходом тенью смертной
Я твоих коснулась щёк,
А тебе и незаметно,
Что на них сухой снежок.
Моего не бойся мрака,
Ночь, поверь, не хуже дня…
