Страница:
Страх держал Валентина на чердаке всю ночь и весь день, до вечера. Выгнал его голод.
В закусочной, у вокзала, наскоро поел, — захотелось спать. На вокзале отыскал свободную скамейку, лег, положив под голову пиджак. Прибывали и уносились поезда, о них сообщал репродуктор — голосом очень озабоченной девушки, боящейся, как бы кто-нибудь не опоздал уехать или встретить друзей. Голосом, который не имел, не мог иметь никакого отношения к нему — Валентину. Он сознавал, что не уедет, не покинет этот город.
Что бы ни было впереди — месть Форда или тюрьма, — судьба решится здесь. Еще один день скитаний, «Франкония» отчалит, «старший» уберется из города… Тогда легче будет сделать необходимое, неизбежное. По крайней мере, не настигнет его на пути удар ножом в спину…
«Трагическая гибель»… «Убитый был найден в нескольких шагах от отделения милиции, куда он направлялся с повинной», — мысленно читает Валентин газетную заметку. «При нем обнаружен пакет…»
Нет, нет!.. Он хочет жить, учиться… А может быть, его простят?
Утром он все-таки подошел к кассе и взял билет. Не в Муром, к родным, а на пригородный поезд. Вылез в дачном поселке, — тишина, заколоченные дома. Кое-где столбы дыма, — жгут сухие листья. Страх погнал дальше от людей, в лес.
Жаль, нечем надрезать кору березы. Подставить бы ладонь, выпить сока, — как в детстве…
Он переносился в Муром, видел мать, пытался рассказать ей все… Про Лапоногова, про вещи и нечестные деньги, про Гету. Как далека Гета от этой грязи, и, однако, если бы не она…
Началось все недавно, месяца три назад, — и вместе тем очень-очень давно, когда он был свободен от стыда, от страха. Счастливая пора, — теперь она лишь уголок в памяти, драгоценный уголок, словно освещенный незаходящим солнцем. Как детство…
В столовой института он столкнулся с Хайдуковым. Дружбы между ними не было — ну, земляки, ну, немного знали друг друга в Муроме. Хайдуков к тому же старше, — он на третьем курсе.
«Хочешь подрыгать ногами?» — спросил Хайдуков, подразумевая танцы, и дал адрес. Валентин спросил, кто еще будет. «Лапоногов — наш лаборант, — ответил Хайдуков, — два футболиста, еще кто-то и девочки».
Валентина влекло к новым людям. Большой город вселил в него томящее предвкушение новых встреч, «бессонницу сердца», как сказал один, когда-то читанный поэт. Эти слова Валентин внес в свой дневник и утром, за чаем, прочел вслух Вадиму. «Что-то заумное», — фыркнул Вадим.
Лапоногов сперва понравился Валентину. «Не принимает душа у человека, и не надо, неволить грех», — это было первое, что он услышал от лаборанта, кряжистого парня в плотном, грубошерстном пиджаке и в низеньких долгоносых сапожках, долгоносых, как у деревенского щеголя. Футболисты сурово и молча наливали Валентину водку: он выпил стопку, чтобы не отстать от других, второпях забыл закусить, пригубил вторую и закашлялся. Хорошо, Лапоногов выручил. Валентин благодарно улыбнулся ему.
«Сам пью, а непьющих уважаю», — пробасил Лапоногов, и футболисты, высокие с густыми бачками на белых, припудренных щеках, перестали обращать внимание на Валентина. У каждого повисла на плече девица; одну, круглолицую, курносую, в красной прозрачной блузке, лопавшейся на мощной груди, Лапоногов звал Настькой, а прочие — Нелли. Имя второй девицы, очень тощей, длинноносой, с острыми плечами, в лиловом платье с кружевами, Валентин боялся произнести, чтобы не рассмеяться, — очень уж не шло к ней. Диана!
Он дивился, как привычно и помногу пьют девицы. При этом Диана нюхала корку черного хлеба — совсем по-мужски. Они как будто и не пьянели, только разговаривали все громче. «Дианка! — кричала Нелли, — тебе привет, знаешь, от кого? От Леонардика!» Давясь от восхищения, она продолжала: «Я, — говорит, — ей из Роттердама привезу чего-нибудь. Она вери гуд лэди, — слышишь! У нее фигура модная». Польщенная Диана хихикала, спрашивала: «А как твой штурман?» Валентин иногда чувствовал прикосновение ее сухого локтя. Забавно, — неужели мода распространяется и на женские фигуры!
Он спросил Диану, знают ли она и Нелли английский. «Слышишь, Нелли! — крикнула Диана. — Знаем ли мы с тобой английский? Еще как, — верно, Нелли! На пятерку, — верно? Как англичанки!» Она явно издевалась над Валентином, но он уловил это не сразу и сказал, что очень хотел бы хорошо знать английский, прочесть в подлиннике Хемингуэя. «Старик и рыба», — молвил один из футболистов. «Старик и море», — поправил Валентин. Футболист нахмурился, но тут опять вмешался Лапоногов. «Где море, там и рыба», — сказал он примиряюще. «Поверьте старому рыбаку».
«Ты-то рыба-ак!» — протянула Нелли и подмигнула. Валентин умолк; он не пытался больше примкнуть к беседе за столом, странной беседе, пересыпанной двусмысленностями и намеками. Он принялся за холодную телятину, и так энергично, что Диана бросила ему: «Поправляйтесь» — а футболист — тот, что спутал название повести Хемингуэя — оглушительно захохотал.
Ждали еще одну пару. Хозяйка дома, полная, немолодая женщина, масляно поглядывавшая на Лапоногова, уже который раз возглашала: «Опаздывают, разбойники! Заставим выпить штрафную!»
Гета поразила его сразу. Смуглая, с нерусским разрезом глаз, вся в сиянии пышного серебристого платья, она вошла сюда — в эту обыкновенную комнату, к столу с пятнами вина на скатерти, к блюдам с растерзанной телятиной, к уродливо вспоротым консервным банкам, — вошла как создание из иного мира.
Она села рядом. Руки его дрожали, когда он робко накладывал ей закуски. Он стеснялся смотреть на нее в упор и поэтому не поднимал глаз; правая щека его горела. «А вина!» — услышал он. Смущение душило его. Он протянул руку к водке и отдернул, — не станет она пить водку. «Я пью сухое», — услышал он тот же голос, ее голос. Девицы фыркнули. Он вдруг позабыл, какие вина сухие. Спасибо Хайдукову, — пододвинул через стол, почти к самому прибору Валентина бутылку «Саперави».
— А вы? — спросила она.
Только тут он осмелился взглянуть на нее, — и вид у него наверно был жалкий, нелепый. Смысл ее слов доходил медленно.
— У вас же пустая рюмка, — сказала она, с ноткой нетерпения.
Диана и Нелли по-прежнему хвастались своими победами, Лапоногов смешил хозяйку анекдотами, Хайдуков возглашал тосты и иногда окликал Валентина, но напрасно, — Валентин не понимал его. Напротив сел спутник Геты. Валентин заметил его не сразу, а лишь когда справа раздалось:
— Ипполит! Помни, пожалуйста, — тебе вести машину!
— Железно, крошка! — прозвучал ответ. — Со мной ты как у бога в кармане!
Валентина покоробило. Обращаться так с ней! Ипполит держал рюмку отставив мизинец. Нестерпимой самоуверенностью веяло от каждого завитка артистически уложенных, глянцево-черных волос, от галстука «бабочки», от длинных холеных пальцев.
— Горючего-то маловато! — громыхнул Лапоногов. — Эй, нападающие! — бросил он футболистам. — Кто добежит до «Гастронома»?
Встали оба, но Диана вцепилась в своего соседа и силой пригвоздила к стулу.
— Водочки? — футболист обвел глазами сидящих. Лапоногов качнулся от смеха.
— На, салага! — Он достал из бумажника десятирублевку и помахал над столом. — Коньяку нам доставишь. Не меньше пяти звездочек, есть? Дуй без пересадки!
— Неприятный субъект, — тихо сказала Гета, повернувшись к Валентину. Сказала только ему! Он машинально кивнул, не вдумываясь, осчастливленный ее доверием.
После коньяка и кофе завели радиолу. Ипполит увлек танцевать Нелли. Валентин робко готовился пригласить Гету, — готовился долго, пока она сама не пришла ему на помощь.
— Идемте, — сказала она просто.
Валентин признался ей: когда он ехал учиться сюда, ему казалось, — в большом городе живут люди сплошь интеллигентные, развитые, интересные.
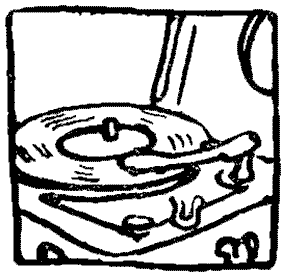 — Я первый раз в здешней компании, — сказала Гета. — И надеюсь, последний, — проговорила она, поморщившись.
— Я первый раз в здешней компании, — сказала Гета. — И надеюсь, последний, — проговорила она, поморщившись.
Подошел Ипполит.
— Развлекаешься, детка!
— Ну, мне пора домой, — проговорила Гета спокойно и не очень громко, даже не глядя на Ипполита. Она стала прощаться, а он любезничал с Нелли, отвечавшей ему смехом, похожим на икоту. Сердце у Валентина сжималось. Наконец Ипполит поднялся.
— Стартуем, крошка!
И она исчезла. Все-таки она с Ипполитом! Валентина грызла зависть к красавцу, к футболистам. Они все настоящие мужчины…
С грустью, но без раскаяния он сообразил, что не попросил у нее ни адреса, ни номера телефона и вообще никак не закрепил знакомство. Даже не назвал себя… К чему! Что он для нее? Наверняка она изнывала от скуки с ним — неловким провинциалом, — а танцевать пошла просто из жалости.
Тот вечер в воспоминаниях Валентина остался чистым, безоблачным, — за теневой чертой, в прежней, светлой поре его жизни. Ложь еще не была произнесена тогда…
Встретились они случайно, одиннадцать дней спустя, на улице. С Гетой была девушка постарше, тоненькая, голубоглазая. Золотистые волосы выбивались из-под меховой шапочки с белыми хвостиками.
— Моя мама, — сказала Гета, и Валентин раскрыл рот от удивления, что очень понравилось обеим. Мама, чудесная мама Геты ушла, сославшись на какое-то спешное дело. Было скользко; Валентин взял Гету под руку.
Гета вспомнила вечеринку.
— Ужасная публика, правда? Эти футболисты… Танцуют не сгибая ноги. Точно скафандры.
Она не засмеялась над своей шуткой, — она помолчала немного, чтобы дать посмеяться Валентину.
— А глаза, — продолжала она, — глаза у этих нападающих… Ипполит говорит: «Как у заливных судаков».
— Он студент? — спросил Валентин.
— Ипполит? Он вундеркинд, — ответила она и перевела. — Он удивительный ребенок. Бывший юный виолончелист. С ним и сейчас цацкаются. Портят его, — печально молвила Гета и прибавила извиняющимся тоном: — Ипполит правда же лучше, чем ему хочется казаться… Иногда.
Валентин рассказал, где он учится, кем станет потом. Вообще-то ему больше хотелось в университет, на литературный, но так уж получилось…
— А я собираюсь в институт киноинженеров, — сообщила Гета. Оказалось, что она тоже любит стихи, и Валентин прочел ей Блока. Затем, расхрабрившись, он спросил Гету, когда у нее свободный вечер. Может быть, сегодня? Нет, сегодня не выйдет, по средам приходит маникюрша.
— Тогда завтра, — предложил Валентин.
Он взял места во втором ряду партера. На это ушел остаток стипендии.
Гуляя в фойе, он снова услышал от Геты об Ипполите, — они были недавно в ресторане «Интурист»; там играет превосходный джаз. Валентина кольнуло. А с ним она согласится пойти? Ни разу в жизни он не был в ресторане. Конечно, он ни за что не сознается ей в этом…
— Что ж, давайте сходим, — сказала Гета. — В субботу! Вы зайдите за мной.
Денег должно хватить. Отец прислал двенадцать рублей на ботинки. Валентин думал забрать половину, но положил в карман все. В квартире Лесновых, ослепившей его блеском натертых полов, мебели и металлической посуды, его приняла мать Геты. Еще очень рано, Гета еще одевается…
Людмила Павловна, потчуя конфетами, учинила мягкий допрос, — откуда приехал в город, какую инженерную специальность избрал, успевает ли в учебе. Похвалила костюм Валентина, — отлично сшит!
— Свой портной, — произнес Валентин.
Этим было положено начало лжи. Он хотел прибавить, что портной — его отец, но что-то помешало ему.
После, наедине с собой, он отлично разобрался, — помешал блеск старинных блюд и чаш на стеллажах, помешала маникюрша, приходящая на дом, машина, в которой Гета ездит на вечеринки…
Ему представилось маленькое ателье в Муроме, закопченное, с выцветшими обоями. Ножницы отца, футляр для очков… Валентин любит отца, но… Книги, которые Валентин читал с детских лет, газеты и радио прославляют сталеваров, комбайнеров на целине, строителей домен, мостов, жилых домов. Отец и сам завидует им, приговаривая: «Эх, выбирать ведь не приходилось нам!» В сыновнем чувстве Валентина есть любовь, есть жалость, но нет одного — уважения к труду отца.
В мраморном зале ресторана кружилась голова от ароматов духов, пряной еды, сказочные огоньки горели на хрустале, а на эстраде вздымались золотые трубы — фонтаны веселья, — и все было праздником, устроенным нарочно в их честь — Валентина и Геты. Он не заговорил бы о своем отце, но начала Гета; она восхищалась своим отцом, его талантом хирурга, его операциями, известными и за пределами страны. Тогда и Валентин завел речь о своем отце, в тон Гете, но обиняками, — мол, о службе отца лучше не распространяться. Он очень видный знаток в своей области.
В тот вечер легко было потерять грань между реальностью и фантазией, и Валентин вообразил себе отца — выдающегося физика, проникающего в тайны атома или космических лучей. Выпив шампанского, Валентин уже почти поверил в свою выдумку.
А как бы ему самому хотелось обладать каким-нибудь ярким талантом! Наверное, Гете куда интереснее с Ипполитом, — ведь он музыкант, подает большие надежды. Валентин так и сказал Гете и в следующую минуту ощутил прилив счастья, — она проговорила тихо, держа бокал у самых губ:
— Я рада, что вы не похожи на Ипполита… Я рада, что вы такой…
— Какой?
— Вот такой… Настоящий.
Он не понял и ответил лишь благодарным взглядом, — ему стало невыразимо хорошо.
Гета держалась за столом хозяйкой. Она заказывала, не прикасаясь к меню. Шампанское надо пить с ананасом. И, разумеется, ужин не будет завершен без черного кофе с ликером. Она пожурила официанта, — очень уж бедна карточка напитков. Ну, так и быть, — апельсиновый ликер!
Хорошо, что он захватил тогда все деньги на ботинки, — отдал за ужин почти все. А дальше…
Попросил денег у земляка — у Хайдукова. Тот направил к Лапоногову. И верно, — Лапоногов дал деньги, дал даже больше, чем нужно было. Чтобы вернуть долг, Валентин грузил в порту пароходы. Но долг все рос.
«Нет денег — отработаешь, — бросил Лапоногов. — Есть просьба…» И Валентин получил объемистый пакет и адрес Абросимовой. И повез пакет, еще не зная, что в нем и чего вообще хочет Лапоногов.
А потом…
Каждую неделю — ресторан, театр, загородная прогулка. Или день рождения у кого-нибудь из знакомых Геты. Изволь покупать подарок, и конечно, — дорогой. Лихорадочная, фальшивая, тягостная жизнь… Прекратить ее — значит потерять Гету…
«Вы настоящий!» — повторялось в мозгу. Если бы она знала!.. Она и не подозревает, как он добыл деньги на вечера, последовавшие за тем волшебным первым вечером. Верно, относила все за счет мифического физика, сочиненного папаши… А скорее всего и вовсе не думала об этом.
Уже утром, выйдя из вагона, Валентин зашел на почту — написать Гете письмо. Рядом с ним опустился на табуретку могучий детина в расстегнутой рубахе, с волосатой грудью. Он пробовал перья и бормотал ругательства. Старший! — вдруг представилось Валентину. Писать он уже не мог.
Сейчас он опять в почтовом отделении дачного поселка, пахнущем смолистой сосной, заклеенном плакатами. Теперь опасаться некого как будто. Две старушки получают переводы, подросток-курьер сдает кипу бандеролей… Правда, девушка, колотившая по бандеролям печатью, как-то очень внимательно посмотрела на вошедшего Валентина.
Но подняться и сразу уйти не было сил. «Поздравляю, — написал он, — желаю всего самого лучшего…» А что дальше? Надо же объяснить! «Всем сердцем я был с тобой в день твоего рождения. Тяжело заболела тетя, и я не мог оставить ее…»
Он скомкал листок. Довольно лгать!
Но как написать правду, как доверить ее бумаге, как выразить эту постыдную правду? Он купил открытку, в отчаянии набросал: «Мы долго, может быть, никогда не увидимся. Я недостоин тебя. Любящий тебя В.»
Он поднял крышечку ящика, помедлил, потом сунул открытку в карман.
Он едва не заплакал — от нового приступа жалости к самому себе. Расстаться? Нет!!
Вечером Валентин вернулся в город. Он решил увидеть Гету, открыть ей всю правду.
11
В закусочной, у вокзала, наскоро поел, — захотелось спать. На вокзале отыскал свободную скамейку, лег, положив под голову пиджак. Прибывали и уносились поезда, о них сообщал репродуктор — голосом очень озабоченной девушки, боящейся, как бы кто-нибудь не опоздал уехать или встретить друзей. Голосом, который не имел, не мог иметь никакого отношения к нему — Валентину. Он сознавал, что не уедет, не покинет этот город.
Что бы ни было впереди — месть Форда или тюрьма, — судьба решится здесь. Еще один день скитаний, «Франкония» отчалит, «старший» уберется из города… Тогда легче будет сделать необходимое, неизбежное. По крайней мере, не настигнет его на пути удар ножом в спину…
«Трагическая гибель»… «Убитый был найден в нескольких шагах от отделения милиции, куда он направлялся с повинной», — мысленно читает Валентин газетную заметку. «При нем обнаружен пакет…»
Нет, нет!.. Он хочет жить, учиться… А может быть, его простят?
Утром он все-таки подошел к кассе и взял билет. Не в Муром, к родным, а на пригородный поезд. Вылез в дачном поселке, — тишина, заколоченные дома. Кое-где столбы дыма, — жгут сухие листья. Страх погнал дальше от людей, в лес.
Жаль, нечем надрезать кору березы. Подставить бы ладонь, выпить сока, — как в детстве…
Он переносился в Муром, видел мать, пытался рассказать ей все… Про Лапоногова, про вещи и нечестные деньги, про Гету. Как далека Гета от этой грязи, и, однако, если бы не она…
Началось все недавно, месяца три назад, — и вместе тем очень-очень давно, когда он был свободен от стыда, от страха. Счастливая пора, — теперь она лишь уголок в памяти, драгоценный уголок, словно освещенный незаходящим солнцем. Как детство…
В столовой института он столкнулся с Хайдуковым. Дружбы между ними не было — ну, земляки, ну, немного знали друг друга в Муроме. Хайдуков к тому же старше, — он на третьем курсе.
«Хочешь подрыгать ногами?» — спросил Хайдуков, подразумевая танцы, и дал адрес. Валентин спросил, кто еще будет. «Лапоногов — наш лаборант, — ответил Хайдуков, — два футболиста, еще кто-то и девочки».
Валентина влекло к новым людям. Большой город вселил в него томящее предвкушение новых встреч, «бессонницу сердца», как сказал один, когда-то читанный поэт. Эти слова Валентин внес в свой дневник и утром, за чаем, прочел вслух Вадиму. «Что-то заумное», — фыркнул Вадим.
Лапоногов сперва понравился Валентину. «Не принимает душа у человека, и не надо, неволить грех», — это было первое, что он услышал от лаборанта, кряжистого парня в плотном, грубошерстном пиджаке и в низеньких долгоносых сапожках, долгоносых, как у деревенского щеголя. Футболисты сурово и молча наливали Валентину водку: он выпил стопку, чтобы не отстать от других, второпях забыл закусить, пригубил вторую и закашлялся. Хорошо, Лапоногов выручил. Валентин благодарно улыбнулся ему.
«Сам пью, а непьющих уважаю», — пробасил Лапоногов, и футболисты, высокие с густыми бачками на белых, припудренных щеках, перестали обращать внимание на Валентина. У каждого повисла на плече девица; одну, круглолицую, курносую, в красной прозрачной блузке, лопавшейся на мощной груди, Лапоногов звал Настькой, а прочие — Нелли. Имя второй девицы, очень тощей, длинноносой, с острыми плечами, в лиловом платье с кружевами, Валентин боялся произнести, чтобы не рассмеяться, — очень уж не шло к ней. Диана!
Он дивился, как привычно и помногу пьют девицы. При этом Диана нюхала корку черного хлеба — совсем по-мужски. Они как будто и не пьянели, только разговаривали все громче. «Дианка! — кричала Нелли, — тебе привет, знаешь, от кого? От Леонардика!» Давясь от восхищения, она продолжала: «Я, — говорит, — ей из Роттердама привезу чего-нибудь. Она вери гуд лэди, — слышишь! У нее фигура модная». Польщенная Диана хихикала, спрашивала: «А как твой штурман?» Валентин иногда чувствовал прикосновение ее сухого локтя. Забавно, — неужели мода распространяется и на женские фигуры!
Он спросил Диану, знают ли она и Нелли английский. «Слышишь, Нелли! — крикнула Диана. — Знаем ли мы с тобой английский? Еще как, — верно, Нелли! На пятерку, — верно? Как англичанки!» Она явно издевалась над Валентином, но он уловил это не сразу и сказал, что очень хотел бы хорошо знать английский, прочесть в подлиннике Хемингуэя. «Старик и рыба», — молвил один из футболистов. «Старик и море», — поправил Валентин. Футболист нахмурился, но тут опять вмешался Лапоногов. «Где море, там и рыба», — сказал он примиряюще. «Поверьте старому рыбаку».
«Ты-то рыба-ак!» — протянула Нелли и подмигнула. Валентин умолк; он не пытался больше примкнуть к беседе за столом, странной беседе, пересыпанной двусмысленностями и намеками. Он принялся за холодную телятину, и так энергично, что Диана бросила ему: «Поправляйтесь» — а футболист — тот, что спутал название повести Хемингуэя — оглушительно захохотал.
Ждали еще одну пару. Хозяйка дома, полная, немолодая женщина, масляно поглядывавшая на Лапоногова, уже который раз возглашала: «Опаздывают, разбойники! Заставим выпить штрафную!»
Гета поразила его сразу. Смуглая, с нерусским разрезом глаз, вся в сиянии пышного серебристого платья, она вошла сюда — в эту обыкновенную комнату, к столу с пятнами вина на скатерти, к блюдам с растерзанной телятиной, к уродливо вспоротым консервным банкам, — вошла как создание из иного мира.
Она села рядом. Руки его дрожали, когда он робко накладывал ей закуски. Он стеснялся смотреть на нее в упор и поэтому не поднимал глаз; правая щека его горела. «А вина!» — услышал он. Смущение душило его. Он протянул руку к водке и отдернул, — не станет она пить водку. «Я пью сухое», — услышал он тот же голос, ее голос. Девицы фыркнули. Он вдруг позабыл, какие вина сухие. Спасибо Хайдукову, — пододвинул через стол, почти к самому прибору Валентина бутылку «Саперави».
— А вы? — спросила она.
Только тут он осмелился взглянуть на нее, — и вид у него наверно был жалкий, нелепый. Смысл ее слов доходил медленно.
— У вас же пустая рюмка, — сказала она, с ноткой нетерпения.
Диана и Нелли по-прежнему хвастались своими победами, Лапоногов смешил хозяйку анекдотами, Хайдуков возглашал тосты и иногда окликал Валентина, но напрасно, — Валентин не понимал его. Напротив сел спутник Геты. Валентин заметил его не сразу, а лишь когда справа раздалось:
— Ипполит! Помни, пожалуйста, — тебе вести машину!
— Железно, крошка! — прозвучал ответ. — Со мной ты как у бога в кармане!
Валентина покоробило. Обращаться так с ней! Ипполит держал рюмку отставив мизинец. Нестерпимой самоуверенностью веяло от каждого завитка артистически уложенных, глянцево-черных волос, от галстука «бабочки», от длинных холеных пальцев.
— Горючего-то маловато! — громыхнул Лапоногов. — Эй, нападающие! — бросил он футболистам. — Кто добежит до «Гастронома»?
Встали оба, но Диана вцепилась в своего соседа и силой пригвоздила к стулу.
— Водочки? — футболист обвел глазами сидящих. Лапоногов качнулся от смеха.
— На, салага! — Он достал из бумажника десятирублевку и помахал над столом. — Коньяку нам доставишь. Не меньше пяти звездочек, есть? Дуй без пересадки!
— Неприятный субъект, — тихо сказала Гета, повернувшись к Валентину. Сказала только ему! Он машинально кивнул, не вдумываясь, осчастливленный ее доверием.
После коньяка и кофе завели радиолу. Ипполит увлек танцевать Нелли. Валентин робко готовился пригласить Гету, — готовился долго, пока она сама не пришла ему на помощь.
— Идемте, — сказала она просто.
Валентин признался ей: когда он ехал учиться сюда, ему казалось, — в большом городе живут люди сплошь интеллигентные, развитые, интересные.
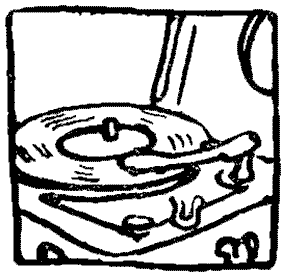
Подошел Ипполит.
— Развлекаешься, детка!
— Ну, мне пора домой, — проговорила Гета спокойно и не очень громко, даже не глядя на Ипполита. Она стала прощаться, а он любезничал с Нелли, отвечавшей ему смехом, похожим на икоту. Сердце у Валентина сжималось. Наконец Ипполит поднялся.
— Стартуем, крошка!
И она исчезла. Все-таки она с Ипполитом! Валентина грызла зависть к красавцу, к футболистам. Они все настоящие мужчины…
С грустью, но без раскаяния он сообразил, что не попросил у нее ни адреса, ни номера телефона и вообще никак не закрепил знакомство. Даже не назвал себя… К чему! Что он для нее? Наверняка она изнывала от скуки с ним — неловким провинциалом, — а танцевать пошла просто из жалости.
Тот вечер в воспоминаниях Валентина остался чистым, безоблачным, — за теневой чертой, в прежней, светлой поре его жизни. Ложь еще не была произнесена тогда…
Встретились они случайно, одиннадцать дней спустя, на улице. С Гетой была девушка постарше, тоненькая, голубоглазая. Золотистые волосы выбивались из-под меховой шапочки с белыми хвостиками.
— Моя мама, — сказала Гета, и Валентин раскрыл рот от удивления, что очень понравилось обеим. Мама, чудесная мама Геты ушла, сославшись на какое-то спешное дело. Было скользко; Валентин взял Гету под руку.
Гета вспомнила вечеринку.
— Ужасная публика, правда? Эти футболисты… Танцуют не сгибая ноги. Точно скафандры.
Она не засмеялась над своей шуткой, — она помолчала немного, чтобы дать посмеяться Валентину.
— А глаза, — продолжала она, — глаза у этих нападающих… Ипполит говорит: «Как у заливных судаков».
— Он студент? — спросил Валентин.
— Ипполит? Он вундеркинд, — ответила она и перевела. — Он удивительный ребенок. Бывший юный виолончелист. С ним и сейчас цацкаются. Портят его, — печально молвила Гета и прибавила извиняющимся тоном: — Ипполит правда же лучше, чем ему хочется казаться… Иногда.
Валентин рассказал, где он учится, кем станет потом. Вообще-то ему больше хотелось в университет, на литературный, но так уж получилось…
— А я собираюсь в институт киноинженеров, — сообщила Гета. Оказалось, что она тоже любит стихи, и Валентин прочел ей Блока. Затем, расхрабрившись, он спросил Гету, когда у нее свободный вечер. Может быть, сегодня? Нет, сегодня не выйдет, по средам приходит маникюрша.
— Тогда завтра, — предложил Валентин.
Он взял места во втором ряду партера. На это ушел остаток стипендии.
Гуляя в фойе, он снова услышал от Геты об Ипполите, — они были недавно в ресторане «Интурист»; там играет превосходный джаз. Валентина кольнуло. А с ним она согласится пойти? Ни разу в жизни он не был в ресторане. Конечно, он ни за что не сознается ей в этом…
— Что ж, давайте сходим, — сказала Гета. — В субботу! Вы зайдите за мной.
Денег должно хватить. Отец прислал двенадцать рублей на ботинки. Валентин думал забрать половину, но положил в карман все. В квартире Лесновых, ослепившей его блеском натертых полов, мебели и металлической посуды, его приняла мать Геты. Еще очень рано, Гета еще одевается…
Людмила Павловна, потчуя конфетами, учинила мягкий допрос, — откуда приехал в город, какую инженерную специальность избрал, успевает ли в учебе. Похвалила костюм Валентина, — отлично сшит!
— Свой портной, — произнес Валентин.
Этим было положено начало лжи. Он хотел прибавить, что портной — его отец, но что-то помешало ему.
После, наедине с собой, он отлично разобрался, — помешал блеск старинных блюд и чаш на стеллажах, помешала маникюрша, приходящая на дом, машина, в которой Гета ездит на вечеринки…
Ему представилось маленькое ателье в Муроме, закопченное, с выцветшими обоями. Ножницы отца, футляр для очков… Валентин любит отца, но… Книги, которые Валентин читал с детских лет, газеты и радио прославляют сталеваров, комбайнеров на целине, строителей домен, мостов, жилых домов. Отец и сам завидует им, приговаривая: «Эх, выбирать ведь не приходилось нам!» В сыновнем чувстве Валентина есть любовь, есть жалость, но нет одного — уважения к труду отца.
В мраморном зале ресторана кружилась голова от ароматов духов, пряной еды, сказочные огоньки горели на хрустале, а на эстраде вздымались золотые трубы — фонтаны веселья, — и все было праздником, устроенным нарочно в их честь — Валентина и Геты. Он не заговорил бы о своем отце, но начала Гета; она восхищалась своим отцом, его талантом хирурга, его операциями, известными и за пределами страны. Тогда и Валентин завел речь о своем отце, в тон Гете, но обиняками, — мол, о службе отца лучше не распространяться. Он очень видный знаток в своей области.
В тот вечер легко было потерять грань между реальностью и фантазией, и Валентин вообразил себе отца — выдающегося физика, проникающего в тайны атома или космических лучей. Выпив шампанского, Валентин уже почти поверил в свою выдумку.
А как бы ему самому хотелось обладать каким-нибудь ярким талантом! Наверное, Гете куда интереснее с Ипполитом, — ведь он музыкант, подает большие надежды. Валентин так и сказал Гете и в следующую минуту ощутил прилив счастья, — она проговорила тихо, держа бокал у самых губ:
— Я рада, что вы не похожи на Ипполита… Я рада, что вы такой…
— Какой?
— Вот такой… Настоящий.
Он не понял и ответил лишь благодарным взглядом, — ему стало невыразимо хорошо.
Гета держалась за столом хозяйкой. Она заказывала, не прикасаясь к меню. Шампанское надо пить с ананасом. И, разумеется, ужин не будет завершен без черного кофе с ликером. Она пожурила официанта, — очень уж бедна карточка напитков. Ну, так и быть, — апельсиновый ликер!
Хорошо, что он захватил тогда все деньги на ботинки, — отдал за ужин почти все. А дальше…
Попросил денег у земляка — у Хайдукова. Тот направил к Лапоногову. И верно, — Лапоногов дал деньги, дал даже больше, чем нужно было. Чтобы вернуть долг, Валентин грузил в порту пароходы. Но долг все рос.
«Нет денег — отработаешь, — бросил Лапоногов. — Есть просьба…» И Валентин получил объемистый пакет и адрес Абросимовой. И повез пакет, еще не зная, что в нем и чего вообще хочет Лапоногов.
А потом…
Каждую неделю — ресторан, театр, загородная прогулка. Или день рождения у кого-нибудь из знакомых Геты. Изволь покупать подарок, и конечно, — дорогой. Лихорадочная, фальшивая, тягостная жизнь… Прекратить ее — значит потерять Гету…
«Вы настоящий!» — повторялось в мозгу. Если бы она знала!.. Она и не подозревает, как он добыл деньги на вечера, последовавшие за тем волшебным первым вечером. Верно, относила все за счет мифического физика, сочиненного папаши… А скорее всего и вовсе не думала об этом.
Уже утром, выйдя из вагона, Валентин зашел на почту — написать Гете письмо. Рядом с ним опустился на табуретку могучий детина в расстегнутой рубахе, с волосатой грудью. Он пробовал перья и бормотал ругательства. Старший! — вдруг представилось Валентину. Писать он уже не мог.
Сейчас он опять в почтовом отделении дачного поселка, пахнущем смолистой сосной, заклеенном плакатами. Теперь опасаться некого как будто. Две старушки получают переводы, подросток-курьер сдает кипу бандеролей… Правда, девушка, колотившая по бандеролям печатью, как-то очень внимательно посмотрела на вошедшего Валентина.
Но подняться и сразу уйти не было сил. «Поздравляю, — написал он, — желаю всего самого лучшего…» А что дальше? Надо же объяснить! «Всем сердцем я был с тобой в день твоего рождения. Тяжело заболела тетя, и я не мог оставить ее…»
Он скомкал листок. Довольно лгать!
Но как написать правду, как доверить ее бумаге, как выразить эту постыдную правду? Он купил открытку, в отчаянии набросал: «Мы долго, может быть, никогда не увидимся. Я недостоин тебя. Любящий тебя В.»
Он поднял крышечку ящика, помедлил, потом сунул открытку в карман.
Он едва не заплакал — от нового приступа жалости к самому себе. Расстаться? Нет!!
Вечером Валентин вернулся в город. Он решил увидеть Гету, открыть ей всю правду.
11
В парке Водников редеет толпа гуляющих. За деревьями, на площади, сверкает живыми огнями кинотеатр. Идет новый фильм с участием Лолиты Торрес.
На скамейке, против фонтана, сидит лейтенант Стецких. Он убежден, что лишь напрасно потерял время тут, в «лягушатнике».
Очередная фантазия Чаушева! Правда, нет худа без добра. Стецких купил билет на Лолиту и теперь ждет сеанса.
Мимо, топоча и поднимая пыль, проходит ватага мальчишек. Их голоса сливаются в один невнятный звон. Одного Стецких знает. Юрка, нарушитель Юрка, неудавшийся юнга!
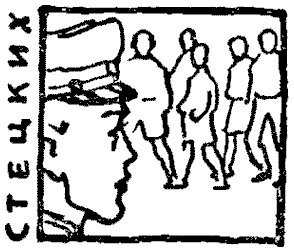 Юрка не послушал совета дяди Миши; он еще чаще стал бывать в «лягушатнике». И не только из-за значков. Слова пограничника он понял по-своему; раз в «лягушатнике» толкутся плохие люди, — значит, там здорово интересно! Еще, может, дядя Миша поблагодарит его когда-нибудь за помощь…
Юрка не послушал совета дяди Миши; он еще чаще стал бывать в «лягушатнике». И не только из-за значков. Слова пограничника он понял по-своему; раз в «лягушатнике» толкутся плохие люди, — значит, там здорово интересно! Еще, может, дядя Миша поблагодарит его когда-нибудь за помощь…
Юрка не заметил лейтенанта. Ребята сворачивают в аллею и все разом, словно стайка воробьев, опускаются на скамейку. У них какие-то свои, верно, очень увлекательные дела. Принесло их! Стецких устал от бессонной ночи, от сумасшедшего дня; и, если бы не Лолита, он был бы дома, в постели.
— Покажи твои! — доносится из аллеи.
— У-у, немецкие!
— Дурак! Финские! Герб же ихний.
— Ну-ка чиркни!
«Психоз», — думает Стецких. Психоз, охвативший весь мир. Всюду, даже на маленьких станциях, ребята выпрашивают спичечные коробки.
Страсть собирательства чужда ему. Она и в детстве не коснулась его. Он никогда не был таким одержимым, как Юрка и его приятели. Стецких не раз видел их здесь, на площадке у фонтана. Горящие глаза, грязная ручонка, сжимающая коробок, марку или значок… И тут же шныряют фарцовщики.
Что смотрят родители!
Впрочем, Стецких нет дела до того, что происходит в «лягушатнике». Существует милиция. Если он и призывает сейчас на головы мальчишек родительский гнев, то лишь потому, что они слишком горласты.
Компания на скамейке притихла. Раздаются негромкие, но отнюдь не ласкающие слух, скребущие звуки. Там пробуют спички, финские, немецкие, голландские.
— В-в-во!
— Ох, горит мирово!
— Давайте все по команде, как салют!
Этого еще не хватало! Стецких вскакивает и уходит.
Между тем ребята попрятали спички. Их волнует теперь приключение, случившееся с Котькой Лепневым. Толстощекий, круглолицый, рыженький, он так стиснут нетерпеливыми слушателями, что едва способен говорить.
Котька — завсегдатай «лягушатника». Его увлечение — значки. Их уже за две сотни у Котьки, — в том числе японский. С горой Фудзи, как объяснил один иностранный матрос, получивший взамен наш значок, с космической ракетой. Кроме того, у Котьки несколько кубинских значков — герб свободной Кубы, потом флаг и еще голова Фиделя Кастро. На том берегу реки, в поселке лесозавода, где живет Котька, его сокровища известны и ребятам, и взрослым.
Но занят он не одними значками. Он станет моряком, когда вырастет большим. Устройство парохода он уже выучил назубок, — вряд ли кто лучше его знает, какая палуба — главная, а какая — шлюпочная или бот-дек, что такое форштевень, бак, полубак. В последнее время Котька не расстается с фонарем, — осваивает морскую сигнализацию.
На прошлой неделе Котька явился в «лягушатник» с ворохом значков для обмена, — сэкономил на завтраках и накупил. Он показывал значки иностранцу, прищелкивая языком и повторяя: «Гут, гут, а?» — когда подошел какой-то дядя, вмешался в разговор и отвел иностранца в сторону. Вот досада! Котька вертелся, подкарауливая матроса, но потерял его в толпе. Зато наткнулся на того дядьку. «А, орел!» — дружелюбно сказал он, поглядел Котькины значки, похвалил и дал свой, — с Эйфелевой башней, французский. Взамен ничего не захотел — подарил, значит. Потом обратил внимание на Котькин фонарь, висевший на ремне. А фонарь и точно не простой — немецкий, трофейный, с цветными стеклами. Отец привез с второго Украинского фронта старшему брату.
Узнав историю фонаря, а также то, что Котька — будущий моряк дальнего плавания, дядька стал подтрунивать. Небось, говорит, устарелая система, едва мерцает. Да и точно ли Котька так хорошо вызубрил световую азбуку…
Котька возмутился. Эх, светло еще, а то он бы доказал! Да через реку запросто… Дядька не поверил. И тогда Котька предложил пари. Вот попозднее, как стемнеет, он просигналит с того берега. «Ладно, — согласился дядька. — На плитку шоколада!»
У Котьки губа не дура; он решил выяснить размер плитки. Дядька обещал стограммовую, «Золотой ярлык». Ого! Так и условились. Котька после одиннадцати влезет на крышу коттеджа, чтобы не мешали штабели на складе леса, впереди, — и даст передачу. Любые слова или цифры. «Тебя же спать уложат часов в десять, салага!» — усмехнулся дядька. «Меня!» — воскликнул Котька презрительно.
— Ну и что? — прервал рассказ Юрка. — И ты сигналил?
— Ага.
— Шоколад получил?
Увы, нет! Котька на другой вечер пришел в парк к назначенному месту, возле тира, а дядьки не было. Так Котька и не видел его больше.
— Может, шпион, — тихо, но с зловещей внятностью произнес Юрка.
У ребят захватило дух.
— Иди-ка ты! — огрызнулся Котька. — Шпио-о-о-н! Я же свое передавал, из головы. Он говорит, передавай что хочешь! Был бы шпион, так…
— А ты что ему семафорил? — строго спросил Юрка, общепризнанный знаток шпионажа. Во-первых, никто не прочел такой массы приключенческих книг, как Юрка, Во-вторых, его часто видели вместе с офицером, начальником всех пограничников порта. Это вызывало уважение к Юркиной персоне.
— Отработал сперва привет, потом числа… Два, потом семь и еще семь.
— Двести семьдесят семь… А почему?
— А так, из головы.
Юрка задумался. Он жалел, что затеял этот разговор. Действительно, шпион непременно задал бы Котьке шифрованный текст. Иначе какой смысл!
Котька уже и нос задрал. Ребята взяли его сторону и еще, чего доброго, начнут смеяться… В эту минуту все шпионы, известные Юрке, вереницей пронеслись перед ним.
— А зачем он значок подарил? — заявил Юрка. — И шоколад сулил? Добрый, да? — Он пренебрежительно фыркнул. — Дитя малое, неразумное!
— Кто дитя?
— Папа римский, — небрежно бросил Юрка.
Котька крутанул винт фонаря — в окошечке замигали, дребезжа, цветные стекла, синее, красное, зеленое — и положил на колени соседу, маленькому, смуглому Леньке Шустову.
— Подержи, — сказал Котька и сжал кулаки.
— Драка, ребята, драка! — возликовал Ленька, ярый болельщик при всех потасовках. Но тут вмешался Ленькин старший брат.
— Цыц, кролики! Вон же лейтенант, пошли к нему… Ой, он же сидел там!
— Где? Где?
— Айда, догоним!
Стецких, внезапно окруженный мальчишками, несказанно удивился. Выслушав Юрку — его право изложить происшествие пограничнику никто не решился оспаривать, — лейтенант потрепал мальчугана за ухо и засмеялся.
— Замечательно, братцы! Замечательно!
Погладил вихры Котьки, прорвал кольцо и зашагал прочь, покинув ребят в растерянности. Что это — похвала? Похвала всерьез или шутка?
А Стецких, давясь от счастливого смеха, спешил в порт. Великолепно! Лучше быть не может! Он чувствовал, что эти световые сигналы с того берега выеденного яйца не стоят. Столько было шуму из-за чепухи! Вспомнил пуговицу на шинели Бояринова, повисшую на ниточке, расхохотался во все горло. Парочка, шедшая навстречу, отпрянула. «Долго ли вы будете у нас новичком?» — повторился, который уж раз за эти сутки, суровый вопрос Чаушева. Посмотрим, что он сейчас скажет! Эх, как было бы здорово — застать в кабинете и Бояринова. Но нет, несбыточная мечта… Чаушев давно дома, а Бояринов в подразделении или тоже дома.
Докладывать, верно, придется по телефону. Досадно, но ничего не попишешь.
В кино уже не успеть.
В воротах порта Стецких сталкивается с Чаушевым.
— Товарищ подполковник, — задыхается Стецких. — Анекдот… Анекдот с теми сигналами…
Теперь Чаушев не назовет его новичком. Теперь начальнику придется признать, что и лейтенант Стецких знает службу. Не хуже, а может быть, и лучше Бояринова.
Странно, Чаушев не смеется. Юмор этой истории почему-то не дошел до него.
— На пари с каким-то взрослым? — слышит Стецких. — Что за человек? Как был одет?
Стецких поводит плечом.
— Юрка его не видел… Другой мальчик… Они все там, в парке…
— Разыщите их, — говорит Чаушев. — Уточните все… Зайдите потом ко мне домой и сообщите Соколову.
— Слушаю. — Язык лейтенанта вдруг стал тяжелым и непослушным. — Вы считаете…
— Пока я еще ничего не считаю… Просто есть одна идея.
Чаушев продолжает свой путь. Объяснять свои догадки было некогда, да и не хотелось, — Стецких опять продемонстрирует вежливое внимание, но, пожалуй, не поймет.
Всю дорогу до ворот порта Чаушев думал о пропавшем студенте Савичеве; и торжествующее «Анекдот!», слетевшее с уст лейтенанта, не расстроило эти мысли, а напротив, дало им новую пищу. Только в первый миг Чаушев почувствовал облегчение: вот и разрешилась одна задача, лопнула, как мыльный пузырь; и осталось, следовательно, две — судьба Савичева и личность вожака шайки.
На скамейке, против фонтана, сидит лейтенант Стецких. Он убежден, что лишь напрасно потерял время тут, в «лягушатнике».
Очередная фантазия Чаушева! Правда, нет худа без добра. Стецких купил билет на Лолиту и теперь ждет сеанса.
Мимо, топоча и поднимая пыль, проходит ватага мальчишек. Их голоса сливаются в один невнятный звон. Одного Стецких знает. Юрка, нарушитель Юрка, неудавшийся юнга!
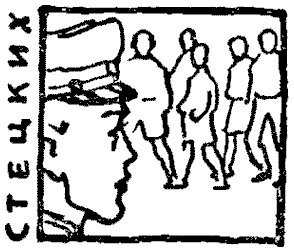
Юрка не заметил лейтенанта. Ребята сворачивают в аллею и все разом, словно стайка воробьев, опускаются на скамейку. У них какие-то свои, верно, очень увлекательные дела. Принесло их! Стецких устал от бессонной ночи, от сумасшедшего дня; и, если бы не Лолита, он был бы дома, в постели.
— Покажи твои! — доносится из аллеи.
— У-у, немецкие!
— Дурак! Финские! Герб же ихний.
— Ну-ка чиркни!
«Психоз», — думает Стецких. Психоз, охвативший весь мир. Всюду, даже на маленьких станциях, ребята выпрашивают спичечные коробки.
Страсть собирательства чужда ему. Она и в детстве не коснулась его. Он никогда не был таким одержимым, как Юрка и его приятели. Стецких не раз видел их здесь, на площадке у фонтана. Горящие глаза, грязная ручонка, сжимающая коробок, марку или значок… И тут же шныряют фарцовщики.
Что смотрят родители!
Впрочем, Стецких нет дела до того, что происходит в «лягушатнике». Существует милиция. Если он и призывает сейчас на головы мальчишек родительский гнев, то лишь потому, что они слишком горласты.
Компания на скамейке притихла. Раздаются негромкие, но отнюдь не ласкающие слух, скребущие звуки. Там пробуют спички, финские, немецкие, голландские.
— В-в-во!
— Ох, горит мирово!
— Давайте все по команде, как салют!
Этого еще не хватало! Стецких вскакивает и уходит.
Между тем ребята попрятали спички. Их волнует теперь приключение, случившееся с Котькой Лепневым. Толстощекий, круглолицый, рыженький, он так стиснут нетерпеливыми слушателями, что едва способен говорить.
Котька — завсегдатай «лягушатника». Его увлечение — значки. Их уже за две сотни у Котьки, — в том числе японский. С горой Фудзи, как объяснил один иностранный матрос, получивший взамен наш значок, с космической ракетой. Кроме того, у Котьки несколько кубинских значков — герб свободной Кубы, потом флаг и еще голова Фиделя Кастро. На том берегу реки, в поселке лесозавода, где живет Котька, его сокровища известны и ребятам, и взрослым.
Но занят он не одними значками. Он станет моряком, когда вырастет большим. Устройство парохода он уже выучил назубок, — вряд ли кто лучше его знает, какая палуба — главная, а какая — шлюпочная или бот-дек, что такое форштевень, бак, полубак. В последнее время Котька не расстается с фонарем, — осваивает морскую сигнализацию.
На прошлой неделе Котька явился в «лягушатник» с ворохом значков для обмена, — сэкономил на завтраках и накупил. Он показывал значки иностранцу, прищелкивая языком и повторяя: «Гут, гут, а?» — когда подошел какой-то дядя, вмешался в разговор и отвел иностранца в сторону. Вот досада! Котька вертелся, подкарауливая матроса, но потерял его в толпе. Зато наткнулся на того дядьку. «А, орел!» — дружелюбно сказал он, поглядел Котькины значки, похвалил и дал свой, — с Эйфелевой башней, французский. Взамен ничего не захотел — подарил, значит. Потом обратил внимание на Котькин фонарь, висевший на ремне. А фонарь и точно не простой — немецкий, трофейный, с цветными стеклами. Отец привез с второго Украинского фронта старшему брату.
Узнав историю фонаря, а также то, что Котька — будущий моряк дальнего плавания, дядька стал подтрунивать. Небось, говорит, устарелая система, едва мерцает. Да и точно ли Котька так хорошо вызубрил световую азбуку…
Котька возмутился. Эх, светло еще, а то он бы доказал! Да через реку запросто… Дядька не поверил. И тогда Котька предложил пари. Вот попозднее, как стемнеет, он просигналит с того берега. «Ладно, — согласился дядька. — На плитку шоколада!»
У Котьки губа не дура; он решил выяснить размер плитки. Дядька обещал стограммовую, «Золотой ярлык». Ого! Так и условились. Котька после одиннадцати влезет на крышу коттеджа, чтобы не мешали штабели на складе леса, впереди, — и даст передачу. Любые слова или цифры. «Тебя же спать уложат часов в десять, салага!» — усмехнулся дядька. «Меня!» — воскликнул Котька презрительно.
— Ну и что? — прервал рассказ Юрка. — И ты сигналил?
— Ага.
— Шоколад получил?
Увы, нет! Котька на другой вечер пришел в парк к назначенному месту, возле тира, а дядьки не было. Так Котька и не видел его больше.
— Может, шпион, — тихо, но с зловещей внятностью произнес Юрка.
У ребят захватило дух.
— Иди-ка ты! — огрызнулся Котька. — Шпио-о-о-н! Я же свое передавал, из головы. Он говорит, передавай что хочешь! Был бы шпион, так…
— А ты что ему семафорил? — строго спросил Юрка, общепризнанный знаток шпионажа. Во-первых, никто не прочел такой массы приключенческих книг, как Юрка, Во-вторых, его часто видели вместе с офицером, начальником всех пограничников порта. Это вызывало уважение к Юркиной персоне.
— Отработал сперва привет, потом числа… Два, потом семь и еще семь.
— Двести семьдесят семь… А почему?
— А так, из головы.
Юрка задумался. Он жалел, что затеял этот разговор. Действительно, шпион непременно задал бы Котьке шифрованный текст. Иначе какой смысл!
Котька уже и нос задрал. Ребята взяли его сторону и еще, чего доброго, начнут смеяться… В эту минуту все шпионы, известные Юрке, вереницей пронеслись перед ним.
— А зачем он значок подарил? — заявил Юрка. — И шоколад сулил? Добрый, да? — Он пренебрежительно фыркнул. — Дитя малое, неразумное!
— Кто дитя?
— Папа римский, — небрежно бросил Юрка.
Котька крутанул винт фонаря — в окошечке замигали, дребезжа, цветные стекла, синее, красное, зеленое — и положил на колени соседу, маленькому, смуглому Леньке Шустову.
— Подержи, — сказал Котька и сжал кулаки.
— Драка, ребята, драка! — возликовал Ленька, ярый болельщик при всех потасовках. Но тут вмешался Ленькин старший брат.
— Цыц, кролики! Вон же лейтенант, пошли к нему… Ой, он же сидел там!
— Где? Где?
— Айда, догоним!
Стецких, внезапно окруженный мальчишками, несказанно удивился. Выслушав Юрку — его право изложить происшествие пограничнику никто не решился оспаривать, — лейтенант потрепал мальчугана за ухо и засмеялся.
— Замечательно, братцы! Замечательно!
Погладил вихры Котьки, прорвал кольцо и зашагал прочь, покинув ребят в растерянности. Что это — похвала? Похвала всерьез или шутка?
А Стецких, давясь от счастливого смеха, спешил в порт. Великолепно! Лучше быть не может! Он чувствовал, что эти световые сигналы с того берега выеденного яйца не стоят. Столько было шуму из-за чепухи! Вспомнил пуговицу на шинели Бояринова, повисшую на ниточке, расхохотался во все горло. Парочка, шедшая навстречу, отпрянула. «Долго ли вы будете у нас новичком?» — повторился, который уж раз за эти сутки, суровый вопрос Чаушева. Посмотрим, что он сейчас скажет! Эх, как было бы здорово — застать в кабинете и Бояринова. Но нет, несбыточная мечта… Чаушев давно дома, а Бояринов в подразделении или тоже дома.
Докладывать, верно, придется по телефону. Досадно, но ничего не попишешь.
В кино уже не успеть.
В воротах порта Стецких сталкивается с Чаушевым.
— Товарищ подполковник, — задыхается Стецких. — Анекдот… Анекдот с теми сигналами…
Теперь Чаушев не назовет его новичком. Теперь начальнику придется признать, что и лейтенант Стецких знает службу. Не хуже, а может быть, и лучше Бояринова.
Странно, Чаушев не смеется. Юмор этой истории почему-то не дошел до него.
— На пари с каким-то взрослым? — слышит Стецких. — Что за человек? Как был одет?
Стецких поводит плечом.
— Юрка его не видел… Другой мальчик… Они все там, в парке…
— Разыщите их, — говорит Чаушев. — Уточните все… Зайдите потом ко мне домой и сообщите Соколову.
— Слушаю. — Язык лейтенанта вдруг стал тяжелым и непослушным. — Вы считаете…
— Пока я еще ничего не считаю… Просто есть одна идея.
Чаушев продолжает свой путь. Объяснять свои догадки было некогда, да и не хотелось, — Стецких опять продемонстрирует вежливое внимание, но, пожалуй, не поймет.
Всю дорогу до ворот порта Чаушев думал о пропавшем студенте Савичеве; и торжествующее «Анекдот!», слетевшее с уст лейтенанта, не расстроило эти мысли, а напротив, дало им новую пищу. Только в первый миг Чаушев почувствовал облегчение: вот и разрешилась одна задача, лопнула, как мыльный пузырь; и осталось, следовательно, две — судьба Савичева и личность вожака шайки.
