Страница:
— Прошу прощения матушка, — обратился он к Екатерине, сгорая от стыда, поскольку его обвинение оказалось ложным, — прошу прощения, матушка, за то, что я вас заподозрил.
— Вы не просто заподозрили меня, Франсуа; вы предъявили мне суровое и тяжкое обвинение. Но я ваша мать и потому способна вынести и другие ваши обвинения.
— Матушка!
— Позвольте мне продолжить, — произнесла Екатерина, нахмурив брови (ощутив, что ее противник вот-вот будет сломлен, она поняла, что сейчас самое время нажать на него).
— Слушаю вас, матушка, — сказал Франциск.
— Вы уже ошиблись один раз и совершили еще одну ошибку, причем гораздо более грубую, назвав меня своей подданной, — вам это понятно? Я не ваша подданная — слышите? — точно так же как вы не являетесь и никогда не будете моим королем. Повторяю, вы мой сын — нисколько не меньше, но и не больше.
Молодой человек скрипнул зубами и побелел так, что в лице его не осталось ни кровинки.
— Это вы, матушка, — заявил он с такой силой, какую Екатерина в нем и не подозревала, — это вы пребываете в странном заблуждении: да, верно, я ваш сын; но, поскольку старший сын, то одновременно я король — и докажу вам это, матушка!
— Вы? — вскричала Екатерина, поглядев на сына, точно гадюка, собирающаяся ужалить. — Вы… король?.. И вы мне докажете это, так вы сказали?
И она зашлась в презрительно-раскатистом смехе.
— Вы мне это докажете… и каким же образом? Думаете, что у вас хватит сил вести политические схватки с Елизаветой Английской и Филиппом Вторым Испанским? Вы мне это докажете! Чем же? Обеспечив доброе согласие между Гизами и Бурбонами, между гугенотами и католиками? Вы мне это докажете? Быть может, вы встанете во главе армий, как ваш дед Франциск Первый или ваш отец Генрих Второй? Бедное дитя! Так вы — король? Но разве вы не знаете, что я держу в своих руках вашу судьбу и само ваше существование?.. Мне достаточно сказать слово — и корона слетит с вашей головы; мне достаточно подать знак — и душа отлетит от вашего тела. Смотрите и слушайте, если у вас есть глаза и уши, и тогда узнаете, господин мой сын, как народ отзывается о своем короле. Вы… король? Да вы просто несчастное создание! Король — это такая сила… а вы посмотрите на себя, а затем посмотрите на меня.
Когда Екатерина произносила эти слова, на нее было страшно смотреть. С угрожающим видом, подобная призраку, она приблизилась к юному королю, а тот отошел на три шага и оперся о спинку кресла, словно готовый упасть в обморок.
— А! — воскликнула флорентийка, — теперь-то вы видите, что я всегда королева, а вы просто тонкий, слабый тростник, и малейший ветер пригибает вас к земле. И вы хотите править?.. Но оглянитесь вокруг, и вы увидите тех, кто действительно правит во Франции, тех, что стали бы королями, если бы я не отталкивала их ударом кулака всякий раз, как только они собирались поставить ногу на первую ступеньку, ведущую к трону. Посмотрите, к примеру, на господина де Гиза, выигрывающего сражения, покоряющего города: рядом с ним вы ничто, господин мой сын, и даже ваша голова вместе с короной вполне может оказаться у него под пятой.
— Прекрасно, матушка, именно в эту пяту я и укушу господина де Гиза. Ведь и Ахиллеса, как рассказывали мои учителя, убили, попав ему в пяту; так что я буду править не оглядываясь ни на него, ни на вас.
— Да, это так; но когда вы укусите в пяту господина де Гиза, когда ваш Ахиллес умрет — не от раны, но от яда, кто сразится с гугенотами?.. Не обольщайтесь, вы не красавец, как Парис, и не храбрец, как Гектор. А знаете ли вы, что, если не будет господина де Гиза, у вас останется только один великий полководец во Франции? Я все же надеюсь, что вы не принимаете в расчет вашего дурака коннетабля де Монморанси, разбитого во всех битвах, где он командовал, или вашего придворного маршала де Сент-Андре, оказавшегося непобедимым только в прихожих. Нет! У вас тогда останется только один великий полководец, и это господин де Колиньи. Так вот, этот великий полководец вместе со своим братом Дандело, почти столь же великим, встанет завтра, если уже не встал сегодня, во главе самой могучей партии, какая когда-либо угрожала государству. Посмотрите на них и посмотрите на себя; сравните себя с ними, и вы поймете, что они — это могучие дубы, глубоко уходящие корнями в землю, а вы — всего лишь жалкий побег тростника, сгибающийся под дуновением любой из борющихся партий.
— Но, в конце концов, чего вы хотите, чего от меня добиваетесь? Значит, я всего лишь орудие в ваших руках и, следовательно, надо, чтобы я смирился с тем, что являюсь всего лишь игрушкой, тешащей ваше честолюбие?
Екатерина подавила улыбку радости, готовую появиться на устах и тем ее выдать. Она восстанавливала свою власть, держала кончиками пальцев нить от марионетки, на мгновение вздумавшей действовать самостоятельно, но королеве вновь удалось заставить ее двигаться по своему усмотрению. Однако Екатерине вовсе не хотелось обнаруживать свой триумф, и, будучи в восторге от начавшегося поражения противника, она решила сделать свою победу полной.
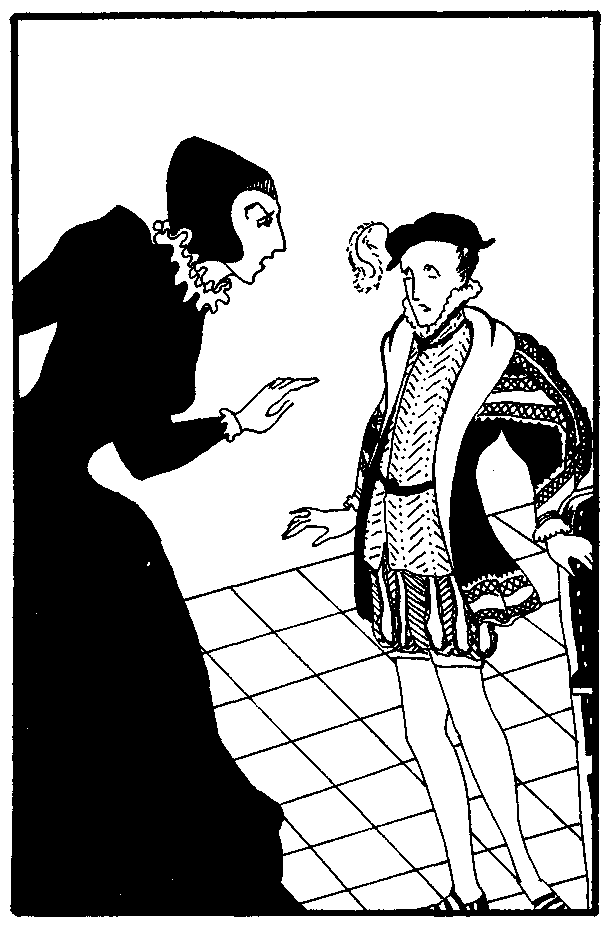
— То, чего я хочу и чего добиваюсь от вас, сын мой, — торжественно заговорила она лицемерным голосом, ласковый тон которого был, пожалуй, опаснее угроз, — очень просто: позвольте мне утвердить ваше могущество, обеспечить ваше счастье, ни больше ни меньше. Какое мне дело до всего остального! Разве ради себя самой я говорю так, как действую, и действую так, как говорю? Разве все мои усилия не направлены на то, чтобы сделать вас счастливым? Э! Боже мой! Да неужели вы думаете, что бремя правления столь легко и приятно, что мне доставляет удовольствие его нести? Вы говорите о моем честолюбии? Да, у меня оно есть, и заключается оно в том, чтобы вести борьбу до тех пор, пока не будет дан отпор вашим врагам или пока они, по меньшей мере, не будут поочередно ослаблены и обескровлены. Нет, Франсуа, — с притворным самозабвением произнесла она, — в тот день, когда я увижу перед собой такого человека, каким хочу вас видеть, короля, на кого я возлагаю надежды, тогда — поймите меня правильно — я с радостью водружу вам на голову корону и дам в руки скипетр. Но если бы я это сделала сегодня, то вместо скипетра у вас бы в руках очутилась тростинка, а вместо золотой короны на голове — терновый венец. Так набирайтесь же величия, сын мой, укрепляйте дух, мужайте на глазах у матери, как взрастает дерево под лучами солнца!.. Будьте великим… сильным и мужественным, будьте королем!
— Что же я должен сделать для этого, матушка? — воскликнул Франциск чуть ли не в отчаянии.
— Вот это я и хочу вас сказать, сын мой. Прежде всего следует отказаться от женщины, ставшей причиной всего происшедшего.
— Отказаться от мадемуазель де Сент-Андре? — воскликнул Франциск, ожидавший всего, но только не этого. — Отказаться от мадемуазель де Сент-Андре? — повторил он со скрытой яростью. — А, так вот куда вы клоните?
— Да, сын мой, — холодно подтвердила Екатерина, — отказаться от мадемуазель де Сент-Андре.
— Ни за что, матушка! — воскликнул Франциск решительным тоном, выказывая при этом такую энергию, какую он уже два или три раза успел проявить на протяжении беседы.
— Прошу прощения, Франсуа, — заявила флорентийка по-прежнему ласковым, но не допускающим возражений тоном. — От нее следует отказаться, это цена нашего примирения; если же нет… оно не состоится!
— Но разве, матушка, вы не знаете, как самозабвенно я ее люблю? Екатерина улыбнулась, услышав столь наивные речи.
— Велика была бы заслуга отказаться от женщины, которую не любишь!
— Но почему от нее вообще нужно отказываться, о Боже?
— В интересах государства.
— Какое отношение имеет мадемуазель де Сент-Андре к интересам государства? — спросил Франциск II.
— Вам угодно, чтобы я это вам объяснила? — спросила Екатерина.
Однако король не дал ей сделать это, будто заранее был уверен в собственной логике.
— Послушайте, матушка, — начал он, — мне известно, что Господь одарил вас величайшим талантом; признаю, что меня он сотворил инертным и слабохарактерным, — короче, признаю вашу власть в настоящем и будущем, слепо полагаясь на вас в вопросах политики, а также тогда, когда речь зайдет об интересах королевства, которым вы управляете с таким знанием дела. Но, матушка, заплатив такую цену, то есть отказавшись от всех прав, столь драгоценных для кого-либо другого, я прошу оставить за мной свободу действий в делах интимных.
— В любом другом случае — да! И вы, как мне кажется, никогда не могли упрекнуть меня по этому поводу. Но в данном случае — нет!
— Но почему же «нет» именно в данном случае? Отчего такая суровость, причем по отношению к той единственной женщине, которую я по-настоящему полюбил?
— Да потому, что эта женщина в гораздо большей степени, чем любая другая, сын мой, может развязать в вашем государстве гражданскую войну; потому, что она дочь маршала де Сент-Андре, одного из наиболее преданных вам слуг.
— Я сделаю господина де Сент-Андре наместником какой-либо крупной провинции, и господин де Сент-Андре закроет на все глаза. Вдобавок, он в настоящий момент поглощен любовью к молодой жене, а эта молодая жена была бы очень рада избавиться от падчерицы, соперничающей с ней в красоте и остроумии.
— Возможно, что вы правы в отношении господина де Сент-Андре, чья ревность вошла в поговорку, ибо он, будто испанец времен Сида, держит жену как затворницу. Однако господин де Жуэнвиль, тот самый господин де Жуэнвиль, что страстно любил мадемуазель де Сент-Андре и собирался на ней жениться, закроет ли он глаза? И если он сам согласится закрыть глаза из уважения к королю, то уговорит ли он сделать это своего дядю, кардинала Лотарингского, и своего отца, герцога де Гиза? Поистине, Франсуа, позвольте сказать вам откровенно, дипломат вы никудышный, и если бы ваша мать не стояла на страже, то не прошло бы и недели, как первый попавшийся похититель королевского достоинства снял бы у вас с головы корону, точно так же как первый попавшийся из числа «обирающих до нитки» снял бы плащ с плеч буржуа. Говорю вам в последний раз, сын мой, необходимо отказаться от этой женщины, и только такой ценой — поняли? — повторяю, только такой ценой мы сможем чистосердечно примириться друг с другом, а с господами де Гизами я договорюсь. Теперь вы меня поняли и будете меня слушаться?
— Да, матушка, я вас понял, — произнес Франциск II, — но слушаться вас не буду.
— Вы меня не будете слушаться! — воскликнула Екатерина, впервые столкнувшаяся с таким упорством, видя, как сын, подобно гиганту Антею, восстановил силы, когда он уже казался побежденным.
— Да! — продолжал Франциск. — Да, я не буду и не хочу вас слушаться. Я люблю, вам это понятно? У меня первые часы первой любви, и ничто не вынудит меня от нее отказаться. Я знаю, что ступил на тернистый путь, возможно, он приведет меня к роковому концу; но, как я вам уже сказал: я люблю и не желаю заглядывать дальше этого.
— Это продуманное решение, сын мой?
Эти два слова «сын мой», обычно ласково звучащие в устах матери, сейчас были преисполнены неописуемо грозным содержанием.
— Да, это продуманное решение, мадам, — ответил Франциск II.
— Вы берете на себя последствия своего безумного упрямства, какими бы они ни были?
— Беру, какими бы они ни были.
— Тогда прощайте, месье! Я знаю, что мне остается делать.
— Прощайте, мадам!
Екатерина сделала несколько шагов к двери и замерла.
— Вините во всем только себя, — решилась она на последнюю угрозу.
— Я буду винить только себя.
— Помните, что я не имею отношения к вашему безумному решению действовать во вред собственным интересам; ну а если несчастье поразит вас или меня, вся ответственность падет на вас одного…
— Да будет так, матушка. Я принимаю на себя эту ответственность.
— Тогда прощайте, Франсуа, — процедила флорентийка со зловещей улыбкой и яростным взглядом.
— Прощайте, матушка! — ответил молодой человек с не менее злобной усмешкой и не менее угрожающим взглядом.
Так расстались сын и мать, полные ненависти друг к другу.
XVIII. ГЛАВА, ГДЕ ГОСПОДИН ДЕ КОНДЕ ВЫСТУПАЕТ ПЕРЕД КОРОЛЕМ С ПРОПОВЕДЬЮ БУНТА
— Вы не просто заподозрили меня, Франсуа; вы предъявили мне суровое и тяжкое обвинение. Но я ваша мать и потому способна вынести и другие ваши обвинения.
— Матушка!
— Позвольте мне продолжить, — произнесла Екатерина, нахмурив брови (ощутив, что ее противник вот-вот будет сломлен, она поняла, что сейчас самое время нажать на него).
— Слушаю вас, матушка, — сказал Франциск.
— Вы уже ошиблись один раз и совершили еще одну ошибку, причем гораздо более грубую, назвав меня своей подданной, — вам это понятно? Я не ваша подданная — слышите? — точно так же как вы не являетесь и никогда не будете моим королем. Повторяю, вы мой сын — нисколько не меньше, но и не больше.
Молодой человек скрипнул зубами и побелел так, что в лице его не осталось ни кровинки.
— Это вы, матушка, — заявил он с такой силой, какую Екатерина в нем и не подозревала, — это вы пребываете в странном заблуждении: да, верно, я ваш сын; но, поскольку старший сын, то одновременно я король — и докажу вам это, матушка!
— Вы? — вскричала Екатерина, поглядев на сына, точно гадюка, собирающаяся ужалить. — Вы… король?.. И вы мне докажете это, так вы сказали?
И она зашлась в презрительно-раскатистом смехе.
— Вы мне это докажете… и каким же образом? Думаете, что у вас хватит сил вести политические схватки с Елизаветой Английской и Филиппом Вторым Испанским? Вы мне это докажете! Чем же? Обеспечив доброе согласие между Гизами и Бурбонами, между гугенотами и католиками? Вы мне это докажете? Быть может, вы встанете во главе армий, как ваш дед Франциск Первый или ваш отец Генрих Второй? Бедное дитя! Так вы — король? Но разве вы не знаете, что я держу в своих руках вашу судьбу и само ваше существование?.. Мне достаточно сказать слово — и корона слетит с вашей головы; мне достаточно подать знак — и душа отлетит от вашего тела. Смотрите и слушайте, если у вас есть глаза и уши, и тогда узнаете, господин мой сын, как народ отзывается о своем короле. Вы… король? Да вы просто несчастное создание! Король — это такая сила… а вы посмотрите на себя, а затем посмотрите на меня.
Когда Екатерина произносила эти слова, на нее было страшно смотреть. С угрожающим видом, подобная призраку, она приблизилась к юному королю, а тот отошел на три шага и оперся о спинку кресла, словно готовый упасть в обморок.
— А! — воскликнула флорентийка, — теперь-то вы видите, что я всегда королева, а вы просто тонкий, слабый тростник, и малейший ветер пригибает вас к земле. И вы хотите править?.. Но оглянитесь вокруг, и вы увидите тех, кто действительно правит во Франции, тех, что стали бы королями, если бы я не отталкивала их ударом кулака всякий раз, как только они собирались поставить ногу на первую ступеньку, ведущую к трону. Посмотрите, к примеру, на господина де Гиза, выигрывающего сражения, покоряющего города: рядом с ним вы ничто, господин мой сын, и даже ваша голова вместе с короной вполне может оказаться у него под пятой.
— Прекрасно, матушка, именно в эту пяту я и укушу господина де Гиза. Ведь и Ахиллеса, как рассказывали мои учителя, убили, попав ему в пяту; так что я буду править не оглядываясь ни на него, ни на вас.
— Да, это так; но когда вы укусите в пяту господина де Гиза, когда ваш Ахиллес умрет — не от раны, но от яда, кто сразится с гугенотами?.. Не обольщайтесь, вы не красавец, как Парис, и не храбрец, как Гектор. А знаете ли вы, что, если не будет господина де Гиза, у вас останется только один великий полководец во Франции? Я все же надеюсь, что вы не принимаете в расчет вашего дурака коннетабля де Монморанси, разбитого во всех битвах, где он командовал, или вашего придворного маршала де Сент-Андре, оказавшегося непобедимым только в прихожих. Нет! У вас тогда останется только один великий полководец, и это господин де Колиньи. Так вот, этот великий полководец вместе со своим братом Дандело, почти столь же великим, встанет завтра, если уже не встал сегодня, во главе самой могучей партии, какая когда-либо угрожала государству. Посмотрите на них и посмотрите на себя; сравните себя с ними, и вы поймете, что они — это могучие дубы, глубоко уходящие корнями в землю, а вы — всего лишь жалкий побег тростника, сгибающийся под дуновением любой из борющихся партий.
— Но, в конце концов, чего вы хотите, чего от меня добиваетесь? Значит, я всего лишь орудие в ваших руках и, следовательно, надо, чтобы я смирился с тем, что являюсь всего лишь игрушкой, тешащей ваше честолюбие?
Екатерина подавила улыбку радости, готовую появиться на устах и тем ее выдать. Она восстанавливала свою власть, держала кончиками пальцев нить от марионетки, на мгновение вздумавшей действовать самостоятельно, но королеве вновь удалось заставить ее двигаться по своему усмотрению. Однако Екатерине вовсе не хотелось обнаруживать свой триумф, и, будучи в восторге от начавшегося поражения противника, она решила сделать свою победу полной.
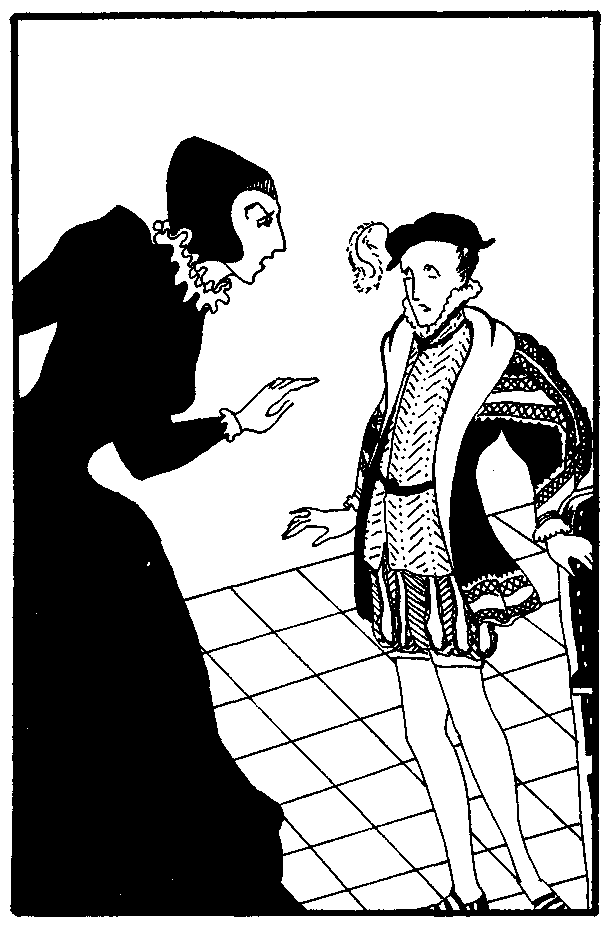
— То, чего я хочу и чего добиваюсь от вас, сын мой, — торжественно заговорила она лицемерным голосом, ласковый тон которого был, пожалуй, опаснее угроз, — очень просто: позвольте мне утвердить ваше могущество, обеспечить ваше счастье, ни больше ни меньше. Какое мне дело до всего остального! Разве ради себя самой я говорю так, как действую, и действую так, как говорю? Разве все мои усилия не направлены на то, чтобы сделать вас счастливым? Э! Боже мой! Да неужели вы думаете, что бремя правления столь легко и приятно, что мне доставляет удовольствие его нести? Вы говорите о моем честолюбии? Да, у меня оно есть, и заключается оно в том, чтобы вести борьбу до тех пор, пока не будет дан отпор вашим врагам или пока они, по меньшей мере, не будут поочередно ослаблены и обескровлены. Нет, Франсуа, — с притворным самозабвением произнесла она, — в тот день, когда я увижу перед собой такого человека, каким хочу вас видеть, короля, на кого я возлагаю надежды, тогда — поймите меня правильно — я с радостью водружу вам на голову корону и дам в руки скипетр. Но если бы я это сделала сегодня, то вместо скипетра у вас бы в руках очутилась тростинка, а вместо золотой короны на голове — терновый венец. Так набирайтесь же величия, сын мой, укрепляйте дух, мужайте на глазах у матери, как взрастает дерево под лучами солнца!.. Будьте великим… сильным и мужественным, будьте королем!
— Что же я должен сделать для этого, матушка? — воскликнул Франциск чуть ли не в отчаянии.
— Вот это я и хочу вас сказать, сын мой. Прежде всего следует отказаться от женщины, ставшей причиной всего происшедшего.
— Отказаться от мадемуазель де Сент-Андре? — воскликнул Франциск, ожидавший всего, но только не этого. — Отказаться от мадемуазель де Сент-Андре? — повторил он со скрытой яростью. — А, так вот куда вы клоните?
— Да, сын мой, — холодно подтвердила Екатерина, — отказаться от мадемуазель де Сент-Андре.
— Ни за что, матушка! — воскликнул Франциск решительным тоном, выказывая при этом такую энергию, какую он уже два или три раза успел проявить на протяжении беседы.
— Прошу прощения, Франсуа, — заявила флорентийка по-прежнему ласковым, но не допускающим возражений тоном. — От нее следует отказаться, это цена нашего примирения; если же нет… оно не состоится!
— Но разве, матушка, вы не знаете, как самозабвенно я ее люблю? Екатерина улыбнулась, услышав столь наивные речи.
— Велика была бы заслуга отказаться от женщины, которую не любишь!
— Но почему от нее вообще нужно отказываться, о Боже?
— В интересах государства.
— Какое отношение имеет мадемуазель де Сент-Андре к интересам государства? — спросил Франциск II.
— Вам угодно, чтобы я это вам объяснила? — спросила Екатерина.
Однако король не дал ей сделать это, будто заранее был уверен в собственной логике.
— Послушайте, матушка, — начал он, — мне известно, что Господь одарил вас величайшим талантом; признаю, что меня он сотворил инертным и слабохарактерным, — короче, признаю вашу власть в настоящем и будущем, слепо полагаясь на вас в вопросах политики, а также тогда, когда речь зайдет об интересах королевства, которым вы управляете с таким знанием дела. Но, матушка, заплатив такую цену, то есть отказавшись от всех прав, столь драгоценных для кого-либо другого, я прошу оставить за мной свободу действий в делах интимных.
— В любом другом случае — да! И вы, как мне кажется, никогда не могли упрекнуть меня по этому поводу. Но в данном случае — нет!
— Но почему же «нет» именно в данном случае? Отчего такая суровость, причем по отношению к той единственной женщине, которую я по-настоящему полюбил?
— Да потому, что эта женщина в гораздо большей степени, чем любая другая, сын мой, может развязать в вашем государстве гражданскую войну; потому, что она дочь маршала де Сент-Андре, одного из наиболее преданных вам слуг.
— Я сделаю господина де Сент-Андре наместником какой-либо крупной провинции, и господин де Сент-Андре закроет на все глаза. Вдобавок, он в настоящий момент поглощен любовью к молодой жене, а эта молодая жена была бы очень рада избавиться от падчерицы, соперничающей с ней в красоте и остроумии.
— Возможно, что вы правы в отношении господина де Сент-Андре, чья ревность вошла в поговорку, ибо он, будто испанец времен Сида, держит жену как затворницу. Однако господин де Жуэнвиль, тот самый господин де Жуэнвиль, что страстно любил мадемуазель де Сент-Андре и собирался на ней жениться, закроет ли он глаза? И если он сам согласится закрыть глаза из уважения к королю, то уговорит ли он сделать это своего дядю, кардинала Лотарингского, и своего отца, герцога де Гиза? Поистине, Франсуа, позвольте сказать вам откровенно, дипломат вы никудышный, и если бы ваша мать не стояла на страже, то не прошло бы и недели, как первый попавшийся похититель королевского достоинства снял бы у вас с головы корону, точно так же как первый попавшийся из числа «обирающих до нитки» снял бы плащ с плеч буржуа. Говорю вам в последний раз, сын мой, необходимо отказаться от этой женщины, и только такой ценой — поняли? — повторяю, только такой ценой мы сможем чистосердечно примириться друг с другом, а с господами де Гизами я договорюсь. Теперь вы меня поняли и будете меня слушаться?
— Да, матушка, я вас понял, — произнес Франциск II, — но слушаться вас не буду.
— Вы меня не будете слушаться! — воскликнула Екатерина, впервые столкнувшаяся с таким упорством, видя, как сын, подобно гиганту Антею, восстановил силы, когда он уже казался побежденным.
— Да! — продолжал Франциск. — Да, я не буду и не хочу вас слушаться. Я люблю, вам это понятно? У меня первые часы первой любви, и ничто не вынудит меня от нее отказаться. Я знаю, что ступил на тернистый путь, возможно, он приведет меня к роковому концу; но, как я вам уже сказал: я люблю и не желаю заглядывать дальше этого.
— Это продуманное решение, сын мой?
Эти два слова «сын мой», обычно ласково звучащие в устах матери, сейчас были преисполнены неописуемо грозным содержанием.
— Да, это продуманное решение, мадам, — ответил Франциск II.
— Вы берете на себя последствия своего безумного упрямства, какими бы они ни были?
— Беру, какими бы они ни были.
— Тогда прощайте, месье! Я знаю, что мне остается делать.
— Прощайте, мадам!
Екатерина сделала несколько шагов к двери и замерла.
— Вините во всем только себя, — решилась она на последнюю угрозу.
— Я буду винить только себя.
— Помните, что я не имею отношения к вашему безумному решению действовать во вред собственным интересам; ну а если несчастье поразит вас или меня, вся ответственность падет на вас одного…
— Да будет так, матушка. Я принимаю на себя эту ответственность.
— Тогда прощайте, Франсуа, — процедила флорентийка со зловещей улыбкой и яростным взглядом.
— Прощайте, матушка! — ответил молодой человек с не менее злобной усмешкой и не менее угрожающим взглядом.
Так расстались сын и мать, полные ненависти друг к другу.
XVIII. ГЛАВА, ГДЕ ГОСПОДИН ДЕ КОНДЕ ВЫСТУПАЕТ ПЕРЕД КОРОЛЕМ С ПРОПОВЕДЬЮ БУНТА
Мы помним про обещание, которое накануне вечером принц де Конде дал Роберту Стюарту, и о предстоящем их вечернем свидании на площади Сен-Жермен-л'Оксеруа.
Принц де Конде вошел в Лувр как раз тогда, когда королева вышла из апартаментов сына.
Он пошел выполнять данное им обещание и просить у короля помилования Анн Дюбуру.
Королю доложили о его приходе.
— Просите! — слабым голосом ответил он.
Принц вошел и увидел молодого человека: скорее лежа, чем сидя в кресле, он отирал платком пот со лба.
Потухший взор, полуоткрытые губы, мертвенно-бледное лицо.
Можно сказать, это было скульптурное изображение Страха.
— А-а, — пробормотал принц, — у ребенка горе.
Не следует забывать, что принц от начала до конца был свидетелем всего, что происходило между королем и мадемуазель де Сент-Андре, и наслушался обещаний короля своей любовнице.
Увидев принца, король внезапно просиял. Если бы солнце собственной персоной вошло в эти мрачные апартаменты — там не стало бы светлее. Можно сказать, на короля снизошло величайшее озарение: на лице засветилась мысль, появилась надежда. Он встал и направился к принцу. Казалось, он был готов обнять пришедшего и прижать его к груди.
Так сила притягивает слабость; так мощный магнит притягивает железо. Принц, по-видимому, не слишком жаждавший объятий, поклонился, как только король сделал первый шаг к нему.
Франциск, упрекая себя за то, что поддался первому порыву, вынужден был остановиться и подать принцу руку.
Тому ничего не оставалось делать, как поцеловать протянутую руку, что он и проделал.
Однако, прикасаясь к королевской руке губами, он спросил самого себя: «Какого дьявола ему от меня нужно, что сегодня он мне оказывает такой хороший прием?»
— О, как я счастлив увидеться с вами, мой кузен! — ласково приветствовал его король.
— А я, государь, одновременно счастлив и польщен.
— Вы пришли чрезвычайно кстати, принц.
— Правда?
— Да, мне ужасно тоскливо.
— Да, действительно, — произнес принц, — когда я вошел, на лице вашего величества были следы глубочайшей тоски.
— Вот именно, глубочайшей. Да, мой дорогой принц, меня одолела страшная тоска.
— Королевская тоска, — уточнил принц и поклонился с улыбкой.
— А самое грустное во всем этом то, мой кузен, — продолжал Франциск II, пребывая в глубочайшей меланхолии, — что у меня нет друга, кому я мог бы поведать свои горести.
— У короля есть горести? — осведомился Конде.
— Да, и серьезные, настоящие, мой кузен.
— И кто же оказался столь дерзким, что рискнул причинить горести вашему величеству?
— Особа, к несчастью имеющая на это право, мой кузен.
— Я не знаю ни единой особы, государь, что имела бы право огорчать короля.
— Ни единой?
— Ни единой, государь.
— И даже королева-мать?
«А-а! — подумал принц, — кажется, королева задала порку своему малышу!» И вслух он произнес:
— Даже королева-мать, государь.
— Таково ваше мнение, мой кузен?
— Таково не только мое мнение, государь, но, как я полагаю, таково же мнение всех верноподданных вашего величества.
— А вы знаете, насколько серьезно то, что вы мне сейчас говорите, господин мой кузен?
— Чем же это серьезно, государь?
— А тем, что вы проповедуете бунт сына против матери. Произнося эти слова, он невольно осмотрелся вокруг, словно человек, который боится, что его подслушивают, хотя как будто нет никого постороннего.
Франциск знал, что, когда кто-нибудь хочет поделиться тайной, стены Лувра пропускают через себя звуки, подобно фильтру, пропускающему через себя воду.
Поэтому, не решаясь высказать свою мысль до конца, он удовольствовался тем, что сказал:
— А, значит, ваше мнение таково, что королева-мать не имеет права меня огорчать. Тогда как бы вы поступили, мой кузен, если бы вы были королем Франции, а королева-мать вас огорчила… Короче говоря, что бы вы сделали на моем месте?
Принц понял, в чем смысл жалобы короля; однако, привыкший при любых обстоятельствах говорить то, что думает, он переспросил:
— Что бы я сделал на вашем месте, государь?
— Да!
— На вашем месте я бы взбунтовался.
— Вы бы взбунтовались? — радостно воскликнул Франциск.
— Да, — откровенно и просто заявил принц.
— Но каким образом взбунтоваться, мой дорогой Луи? — спросил Франциск, подходя к принцу поближе.
— Да так, как всегда бунтуют, государь: бунтуя. Посоветуйтесь с теми, кому к этому не привыкать. Да и способы не столь уж разнообразны: к примеру, не повиноваться или хотя бы делать все возможное, чтобы противостоять несправедливой власти или безжалостной тирании.
— Но, кузен, — усомнился Франциск, явно обдумывая слова принца, — так может взбунтоваться крепостной против своего сеньора; но сын не может, как мне представляется, взбунтоваться в строгом смысле этого слова против собственной матери, точно так же как подданный — против своего короля…
— Тогда чем же занимаются в данный момент, — возразил принц, — те тысячи гугенотов, что, как из-под земли, объявились в ваших отдаленных провинциях, в Нидерландах, в Германии, как не подготовкой гигантского бунта против папы? А ведь папа — наивысший из королей.
— Да, принц, — отвечал Франциск (раздумья у него уступили место грусти), — да, вы правы, и я вам признателен за то, что вы мне это сказали. Я так редко с вами вижусь, мой кузен, а ведь вы один из членов моей семьи, человек, которому я больше всего доверяю, придворный, к которому я испытываю самые дружеские чувства. С детских лет, мой дорогой принц, я ощущаю по отношению к вам искреннюю приязнь и симпатию, вполне объяснимую вашей смелой откровенностью. Ни один человек не решился бы говорить со мною так, как это сделали вы, за что я вам благодарен вдвойне и в знак моей благодарности хочу сделать вам признание, которого не делал никому и которое королева-мать только что вырвала у меня.
— Говорите, государь.
Король обнял Конде за шею и притянул его к себе.
— Так вот, мой дорогой принц, — продолжал он, — не исключено, что мне потребуется не только ваш совет, о чем я сейчас просил, но и ваша поддержка.
— Я в полном распоряжении вашего величества.
— Так вот, мой кузен, я безумно влюблен.
— В королеву Марию? Я об этом знаю, государь, — сказал Конде, — это стало настоящим придворным скандалом.
— Не в королеву Марию… но в одну из ее фрейлин.
— Вот как! — воскликнул принц, разыгрывая глубочайшее изумление. — И, само собой разумеется, вашему величеству отвечают взаимностью?
— Меня несказанно любят, кузен!
— И дают вашему величеству доказательства любви?
— Да.
— Меня бы удивило, государь, если бы дело обстояло иначе.
— Ты меня не спрашиваешь, о ком идет речь, Луи?
— Я не могу позволить себе допрашивать короля, но я жду, когда король пожелает довести свое признание до конца.
— Луи, это дочь одного из знатнейших сеньоров при французском дворе.
— О!..
— Это дочь маршала де Сент-Андре, Луи.
— Примите мои сердечные поздравления, государь. Мадемуазель де Сент-Андре — одна из самых красивых особ королевства.
— Значит, это так? Ты вправду так думаешь, Луи? — воскликнул король, вне себя от радости.
— Когда-то, государь, я испытывал по отношению к мадемуазель де Сент-Андре точно такие же чувства, как и ваше величество.
— Это только укрепляет нашу симпатию друг к другу, мой кузен.
— Я не осмелюсь напрасно похваляться этим, государь.
— Значит, ты считаешь, что я прав?
— Тысячу раз правы! Когда встречаешь такую девушку, то, кто бы ты ни был, король или простолюдин, ты всегда прав, если влюбишься в нее, а особенно если и она тебя полюбит.
— Значит, таково твое мнение?
— Не только мое, но и, должно быть, всех на свете, за исключением господина де Жуэнвиля… Я полагаю, король, к счастью, не спрашивал у него совета, а поскольку вполне возможно, что он ничего не знает о чести, какую король оказал его невесте…
— Вот тут-то ты ошибаешься, Луи, — возразил король, — дело в том, что он об этом знает.
— Ваше величество хочет сказать, что он о чем-то подозревает?
— Я же говорю тебе, что он все знает.
— О! Это невозможно…
— Но я же говорю тебе, что это так!
— Но, государь, это невероятно!
— И все же приходится верить… Однако, — продолжал король, нахмурив брови, — я бы не придавал этому факту особого значения, если бы за ним не последовали события особой важности, вызвавшие бурную сцену между мной и матерью, о чем я уже упомянул в нескольких словах.
— Но что такое важное могло произойти, государь? Я надеюсь, что ваше величество соблаговолит посвятить меня в смысл подобной загадки, — простодушно произнес принц де Конде, лучше кого бы то ни было знавший истинный ее смысл.
И тут король жалобным голосом стал рассказывать о происшедшей между ним и матерью бурной сцене, и время от времени голос его обретал жесткие нотки.
Принц слушал с глубоким вниманием.
И как только Франциск кончил, он проговорил:
— Все это хорошо, так что, государь, как мне кажется, вы удачно вышли из создавшегося положения и на сей раз избавились от опеки.
Король поглядел на принца и взял его под руку.
— Да, мой кузен, — продолжал он, — я удачно вышел из создавшегося положения: пока королева-мать была со мной, мне, по крайней мере, казалось, что я радуюсь, как невольник, разбивший свои цепи, и это придавало мне силы. И королева ушла, будучи уверена в серьезности моего бунта. Но, как только за ней затворилась дверь, как только я остался один — поймите, я обязан быть откровенен с вами, — так вот, тогда все мускулы моего тела, все фибры моей души стали вялыми, и если бы вы не пришли, мой кузен, то думаю, что я, как это было не раз, отправился бы к ней, бросился в ноги и попросил прощения.
— О, берегитесь этого, государь! — воскликнул Конде. — Тогда вы пропали!
— Я хорошо это знаю, — произнес король, еще крепче вцепившись в руку Конде, как потерпевший кораблекрушение хватается за плывущий мимо обломок, ожидая от него спасения.
— Но, в конце концов, чтобы напугать вас до такой степени, королева-мать, должно быть, угрожала вам каким-то великим несчастьем, какой-то невообразимой опасностью?
— Она угрожала гражданской войной.
— А-а!.. И где же ее величество видит гражданскую войну?
— Да там же, где вы сами ее только что видели, мой кузен. Партия гугенотов могущественна, однако их враг, господин де Гиз, тоже могуществен. Так вот, моя мать, которая видит все только глазами Гизов, которая управляет королевством только руками Гизов, которая женила меня на родственнице господ де Гизов, — так вот, моя мать угрожала мне гневом господ де Гизов и, что еще хуже, их нежеланием быть на моей стороне.
— А что бы случилось в результате этого, государь?
— Еретики стали бы хозяевами королевства.
— А вы что на это ответили, государь?
— Ничего, Луи. Что я мог на это ответить?
— О, многое, государь. Король пожал плечами.
— В частности, одно, — продолжал принц.
— Но что же?
— А то, что есть средство помешать еретикам стать хозяевами королевства.
— И в чем заключается это средство?
— Самому встать во главе еретиков, государь. Юный король на миг задумался и нахмурил брови.
— Да, — согласился он, — эта идея превосходна, мой кузен, это игра на изменении соотношения сил, в чем так преуспела моя матушка Екатерина. Но ведь протестантская партия меня ненавидит…
— С какой стати ей ненавидеть вас лично, государь? Ведь известно, что вплоть до нынешнего момента вы были всего лишь орудием в руках собственной матери.
— Орудием! Орудием! — повторял Франциск.
— Вот видите, вы и сами это признаете, государь… Но гугенотская партия никогда не выступала против короля: она ненавидит королеву-мать, вот и все.
— Я ее тоже ненавижу, — пробормотал король. Принц услышал эти слова, хотя они были произнесены очень тихо.
— Итак, государь? — спросил он. Король бросил взгляд на кузена.
— Если этот план представляется вам хорошим, то почему бы не попробовать?
— У них нет ко мне доверия, Луи; им надо будет дать залог… а какой залог дать им?
— Вы правы, государь; но ситуация для этого подходящая. Именно сейчас вы в силах дать им залог, причем поистине достойный короля: даровать человеку жизнь…
— Не понимаю, — проговорил король.
— Вы можете помиловать советника Дюбура.
— Мой кузен, — побледнев, произнес король, — вот здесь только что моя мать говорила о нем и заявила: «Нужно, чтобы он был мертв!»
— Ну а вы, государь, теперь скажете: «Нужно, чтобы он был жив!»
— О, помиловать Анн Дюбура! — пробормотал молодой человек, озираясь вокруг, точно его пугала сама мысль о том, что он способен кого-то помиловать.
— Вот именно, государь, помиловать Анн Дюбура. Что вас удивляет?
— Да, конечно, ничего, мой кузен.
— Разве это не ваше право?
— Да, знаю, таково право короля.
— А разве вы не король?
— По крайней мере, я им еще не был.
— Что ж, государь, так вы с честью вступите в исполнение королевских обязанностей, взойдете на трон по богато убранным ступеням.
Принц де Конде вошел в Лувр как раз тогда, когда королева вышла из апартаментов сына.
Он пошел выполнять данное им обещание и просить у короля помилования Анн Дюбуру.
Королю доложили о его приходе.
— Просите! — слабым голосом ответил он.
Принц вошел и увидел молодого человека: скорее лежа, чем сидя в кресле, он отирал платком пот со лба.
Потухший взор, полуоткрытые губы, мертвенно-бледное лицо.
Можно сказать, это было скульптурное изображение Страха.
— А-а, — пробормотал принц, — у ребенка горе.
Не следует забывать, что принц от начала до конца был свидетелем всего, что происходило между королем и мадемуазель де Сент-Андре, и наслушался обещаний короля своей любовнице.
Увидев принца, король внезапно просиял. Если бы солнце собственной персоной вошло в эти мрачные апартаменты — там не стало бы светлее. Можно сказать, на короля снизошло величайшее озарение: на лице засветилась мысль, появилась надежда. Он встал и направился к принцу. Казалось, он был готов обнять пришедшего и прижать его к груди.
Так сила притягивает слабость; так мощный магнит притягивает железо. Принц, по-видимому, не слишком жаждавший объятий, поклонился, как только король сделал первый шаг к нему.
Франциск, упрекая себя за то, что поддался первому порыву, вынужден был остановиться и подать принцу руку.
Тому ничего не оставалось делать, как поцеловать протянутую руку, что он и проделал.
Однако, прикасаясь к королевской руке губами, он спросил самого себя: «Какого дьявола ему от меня нужно, что сегодня он мне оказывает такой хороший прием?»
— О, как я счастлив увидеться с вами, мой кузен! — ласково приветствовал его король.
— А я, государь, одновременно счастлив и польщен.
— Вы пришли чрезвычайно кстати, принц.
— Правда?
— Да, мне ужасно тоскливо.
— Да, действительно, — произнес принц, — когда я вошел, на лице вашего величества были следы глубочайшей тоски.
— Вот именно, глубочайшей. Да, мой дорогой принц, меня одолела страшная тоска.
— Королевская тоска, — уточнил принц и поклонился с улыбкой.
— А самое грустное во всем этом то, мой кузен, — продолжал Франциск II, пребывая в глубочайшей меланхолии, — что у меня нет друга, кому я мог бы поведать свои горести.
— У короля есть горести? — осведомился Конде.
— Да, и серьезные, настоящие, мой кузен.
— И кто же оказался столь дерзким, что рискнул причинить горести вашему величеству?
— Особа, к несчастью имеющая на это право, мой кузен.
— Я не знаю ни единой особы, государь, что имела бы право огорчать короля.
— Ни единой?
— Ни единой, государь.
— И даже королева-мать?
«А-а! — подумал принц, — кажется, королева задала порку своему малышу!» И вслух он произнес:
— Даже королева-мать, государь.
— Таково ваше мнение, мой кузен?
— Таково не только мое мнение, государь, но, как я полагаю, таково же мнение всех верноподданных вашего величества.
— А вы знаете, насколько серьезно то, что вы мне сейчас говорите, господин мой кузен?
— Чем же это серьезно, государь?
— А тем, что вы проповедуете бунт сына против матери. Произнося эти слова, он невольно осмотрелся вокруг, словно человек, который боится, что его подслушивают, хотя как будто нет никого постороннего.
Франциск знал, что, когда кто-нибудь хочет поделиться тайной, стены Лувра пропускают через себя звуки, подобно фильтру, пропускающему через себя воду.
Поэтому, не решаясь высказать свою мысль до конца, он удовольствовался тем, что сказал:
— А, значит, ваше мнение таково, что королева-мать не имеет права меня огорчать. Тогда как бы вы поступили, мой кузен, если бы вы были королем Франции, а королева-мать вас огорчила… Короче говоря, что бы вы сделали на моем месте?
Принц понял, в чем смысл жалобы короля; однако, привыкший при любых обстоятельствах говорить то, что думает, он переспросил:
— Что бы я сделал на вашем месте, государь?
— Да!
— На вашем месте я бы взбунтовался.
— Вы бы взбунтовались? — радостно воскликнул Франциск.
— Да, — откровенно и просто заявил принц.
— Но каким образом взбунтоваться, мой дорогой Луи? — спросил Франциск, подходя к принцу поближе.
— Да так, как всегда бунтуют, государь: бунтуя. Посоветуйтесь с теми, кому к этому не привыкать. Да и способы не столь уж разнообразны: к примеру, не повиноваться или хотя бы делать все возможное, чтобы противостоять несправедливой власти или безжалостной тирании.
— Но, кузен, — усомнился Франциск, явно обдумывая слова принца, — так может взбунтоваться крепостной против своего сеньора; но сын не может, как мне представляется, взбунтоваться в строгом смысле этого слова против собственной матери, точно так же как подданный — против своего короля…
— Тогда чем же занимаются в данный момент, — возразил принц, — те тысячи гугенотов, что, как из-под земли, объявились в ваших отдаленных провинциях, в Нидерландах, в Германии, как не подготовкой гигантского бунта против папы? А ведь папа — наивысший из королей.
— Да, принц, — отвечал Франциск (раздумья у него уступили место грусти), — да, вы правы, и я вам признателен за то, что вы мне это сказали. Я так редко с вами вижусь, мой кузен, а ведь вы один из членов моей семьи, человек, которому я больше всего доверяю, придворный, к которому я испытываю самые дружеские чувства. С детских лет, мой дорогой принц, я ощущаю по отношению к вам искреннюю приязнь и симпатию, вполне объяснимую вашей смелой откровенностью. Ни один человек не решился бы говорить со мною так, как это сделали вы, за что я вам благодарен вдвойне и в знак моей благодарности хочу сделать вам признание, которого не делал никому и которое королева-мать только что вырвала у меня.
— Говорите, государь.
Король обнял Конде за шею и притянул его к себе.
— Так вот, мой дорогой принц, — продолжал он, — не исключено, что мне потребуется не только ваш совет, о чем я сейчас просил, но и ваша поддержка.
— Я в полном распоряжении вашего величества.
— Так вот, мой кузен, я безумно влюблен.
— В королеву Марию? Я об этом знаю, государь, — сказал Конде, — это стало настоящим придворным скандалом.
— Не в королеву Марию… но в одну из ее фрейлин.
— Вот как! — воскликнул принц, разыгрывая глубочайшее изумление. — И, само собой разумеется, вашему величеству отвечают взаимностью?
— Меня несказанно любят, кузен!
— И дают вашему величеству доказательства любви?
— Да.
— Меня бы удивило, государь, если бы дело обстояло иначе.
— Ты меня не спрашиваешь, о ком идет речь, Луи?
— Я не могу позволить себе допрашивать короля, но я жду, когда король пожелает довести свое признание до конца.
— Луи, это дочь одного из знатнейших сеньоров при французском дворе.
— О!..
— Это дочь маршала де Сент-Андре, Луи.
— Примите мои сердечные поздравления, государь. Мадемуазель де Сент-Андре — одна из самых красивых особ королевства.
— Значит, это так? Ты вправду так думаешь, Луи? — воскликнул король, вне себя от радости.
— Когда-то, государь, я испытывал по отношению к мадемуазель де Сент-Андре точно такие же чувства, как и ваше величество.
— Это только укрепляет нашу симпатию друг к другу, мой кузен.
— Я не осмелюсь напрасно похваляться этим, государь.
— Значит, ты считаешь, что я прав?
— Тысячу раз правы! Когда встречаешь такую девушку, то, кто бы ты ни был, король или простолюдин, ты всегда прав, если влюбишься в нее, а особенно если и она тебя полюбит.
— Значит, таково твое мнение?
— Не только мое, но и, должно быть, всех на свете, за исключением господина де Жуэнвиля… Я полагаю, король, к счастью, не спрашивал у него совета, а поскольку вполне возможно, что он ничего не знает о чести, какую король оказал его невесте…
— Вот тут-то ты ошибаешься, Луи, — возразил король, — дело в том, что он об этом знает.
— Ваше величество хочет сказать, что он о чем-то подозревает?
— Я же говорю тебе, что он все знает.
— О! Это невозможно…
— Но я же говорю тебе, что это так!
— Но, государь, это невероятно!
— И все же приходится верить… Однако, — продолжал король, нахмурив брови, — я бы не придавал этому факту особого значения, если бы за ним не последовали события особой важности, вызвавшие бурную сцену между мной и матерью, о чем я уже упомянул в нескольких словах.
— Но что такое важное могло произойти, государь? Я надеюсь, что ваше величество соблаговолит посвятить меня в смысл подобной загадки, — простодушно произнес принц де Конде, лучше кого бы то ни было знавший истинный ее смысл.
И тут король жалобным голосом стал рассказывать о происшедшей между ним и матерью бурной сцене, и время от времени голос его обретал жесткие нотки.
Принц слушал с глубоким вниманием.
И как только Франциск кончил, он проговорил:
— Все это хорошо, так что, государь, как мне кажется, вы удачно вышли из создавшегося положения и на сей раз избавились от опеки.
Король поглядел на принца и взял его под руку.
— Да, мой кузен, — продолжал он, — я удачно вышел из создавшегося положения: пока королева-мать была со мной, мне, по крайней мере, казалось, что я радуюсь, как невольник, разбивший свои цепи, и это придавало мне силы. И королева ушла, будучи уверена в серьезности моего бунта. Но, как только за ней затворилась дверь, как только я остался один — поймите, я обязан быть откровенен с вами, — так вот, тогда все мускулы моего тела, все фибры моей души стали вялыми, и если бы вы не пришли, мой кузен, то думаю, что я, как это было не раз, отправился бы к ней, бросился в ноги и попросил прощения.
— О, берегитесь этого, государь! — воскликнул Конде. — Тогда вы пропали!
— Я хорошо это знаю, — произнес король, еще крепче вцепившись в руку Конде, как потерпевший кораблекрушение хватается за плывущий мимо обломок, ожидая от него спасения.
— Но, в конце концов, чтобы напугать вас до такой степени, королева-мать, должно быть, угрожала вам каким-то великим несчастьем, какой-то невообразимой опасностью?
— Она угрожала гражданской войной.
— А-а!.. И где же ее величество видит гражданскую войну?
— Да там же, где вы сами ее только что видели, мой кузен. Партия гугенотов могущественна, однако их враг, господин де Гиз, тоже могуществен. Так вот, моя мать, которая видит все только глазами Гизов, которая управляет королевством только руками Гизов, которая женила меня на родственнице господ де Гизов, — так вот, моя мать угрожала мне гневом господ де Гизов и, что еще хуже, их нежеланием быть на моей стороне.
— А что бы случилось в результате этого, государь?
— Еретики стали бы хозяевами королевства.
— А вы что на это ответили, государь?
— Ничего, Луи. Что я мог на это ответить?
— О, многое, государь. Король пожал плечами.
— В частности, одно, — продолжал принц.
— Но что же?
— А то, что есть средство помешать еретикам стать хозяевами королевства.
— И в чем заключается это средство?
— Самому встать во главе еретиков, государь. Юный король на миг задумался и нахмурил брови.
— Да, — согласился он, — эта идея превосходна, мой кузен, это игра на изменении соотношения сил, в чем так преуспела моя матушка Екатерина. Но ведь протестантская партия меня ненавидит…
— С какой стати ей ненавидеть вас лично, государь? Ведь известно, что вплоть до нынешнего момента вы были всего лишь орудием в руках собственной матери.
— Орудием! Орудием! — повторял Франциск.
— Вот видите, вы и сами это признаете, государь… Но гугенотская партия никогда не выступала против короля: она ненавидит королеву-мать, вот и все.
— Я ее тоже ненавижу, — пробормотал король. Принц услышал эти слова, хотя они были произнесены очень тихо.
— Итак, государь? — спросил он. Король бросил взгляд на кузена.
— Если этот план представляется вам хорошим, то почему бы не попробовать?
— У них нет ко мне доверия, Луи; им надо будет дать залог… а какой залог дать им?
— Вы правы, государь; но ситуация для этого подходящая. Именно сейчас вы в силах дать им залог, причем поистине достойный короля: даровать человеку жизнь…
— Не понимаю, — проговорил король.
— Вы можете помиловать советника Дюбура.
— Мой кузен, — побледнев, произнес король, — вот здесь только что моя мать говорила о нем и заявила: «Нужно, чтобы он был мертв!»
— Ну а вы, государь, теперь скажете: «Нужно, чтобы он был жив!»
— О, помиловать Анн Дюбура! — пробормотал молодой человек, озираясь вокруг, точно его пугала сама мысль о том, что он способен кого-то помиловать.
— Вот именно, государь, помиловать Анн Дюбура. Что вас удивляет?
— Да, конечно, ничего, мой кузен.
— Разве это не ваше право?
— Да, знаю, таково право короля.
— А разве вы не король?
— По крайней мере, я им еще не был.
— Что ж, государь, так вы с честью вступите в исполнение королевских обязанностей, взойдете на трон по богато убранным ступеням.
