Страница:
Но орава весельников, прибежавших на помощь своим сотоварищам, без малейших сомнений подавила отчаянное сопротивление горстки безоружных людей. Граф был зарублен саблей, два офицера изувечены ножами и выброшены в море. Оставшихся в живых посадили под замок в каюту капитана. Их ожидала, конечно, самая злая участь.
Молодая графиня держалась очень мужественно. Она была прекрасна даже в своем горе. Слезы бежали по ее бледному лицу, но она повторяла служанке:
— Я не плачу, не плачу, Умберта. Отец умер так, как и подобает настоящему рыцарю, я горжусь им. И нам, нам предстоит теперь, не дрогнув, испить ту же чашу!
— Что же делать? — спросил Иосиф.
— Я уже не могу защитить тебя, — сказала Анна, — спасайся на свой страх и риск. Нас ожидает рабская доля в хозяйстве какого-нибудь мавра или турка. Ни тебя, ни меня не выкупят, но каждый должен сражаться за свою жизнь до последнего, чтобы таким образом спасти свою душу.
— Нет, госпожа, — сказал Иосиф. — Теперь, когда случилась беда, я ни за что не расстанусь с вами по доброй воле и все свои силы употреблю на то, чтобы облегчить вашу судьбу.
Прекрасная Анна отвернулась, чтобы скрыть слезы.
— От тебя я этого не ожидала, — промолвила она. — Ты всегда был своенравен и себе на уме. Прости, я иногда думала о тебе хуже, чем ты есть…
«Может быть, самая большая ценность, которую оставил для общей культуры этот так называемый „высший класс“, почти целиком существовавший за счет своих рабов, — традиция великодушия, верности данному слову, стойкости в превратностях судьбы и горделивая верность святыням, — подумал Иосиф. — Не все эксплуататоры по рождению были эксплуататорами по духу…»
Без еды и без воды, страдая от духоты, пленники просидели взаперти до позднего вечера. Незадолго до заката солнца в щелку неплотно притворенной ставни Иосиф разглядел, что к борту галеры пристало пиратское судно. Спустя некоторое время послышались крики людей и следом — выстрелы. Вероятно, это казнили непокорных.
В сумерках в каюту втолкнули еще несколько человек. Что это за люди, очередные невольники или шпионы пиратов, было неизвестно. Когда один из них, изрыгая гнусности, попытался снять золотое кольцо с руки Анны, Иосиф обрушил на голову негодяя бронзовую капитанскую чернильницу. Видимо, это возымело должное действие, потому что Анну больше никто не трогал.
Миновала долгая ночь и еще полдня. Служанка Анны, у которой было слабое сердце, упала в обморок.
Иосиф стал стучать в дверь. Дверь, наконец, открыли.
— Кто тут шумит? — грозно спросил полуголый каторжник, к тому же не вполне трезвый. — Изрублю всякого, кто сунется со своими претензиями!.. Да здравствует свобода народа! Смерть тиранам!..
Иосиф объяснил, что люди падают в обморок от духоты и жажды.
— Ха-ха-ха! Сейчас принесем свежего пива!
Каторжник куда-то ушел и вскоре вернулся с компанией таких же пьяных ублюдков. Они сунули в каюту ведро, наполненное мочой, и, хохоча, стали похваляться своим остроумием…
Всю ночь на корабле шла попойка, а утром, когда взялся хороший ветер, пленников решили перевести в трюм.
В каюте капитана осталось несколько умерших, среди них — старая служанка Анны.
Проходя по палубе, Иосиф увидел на мачте черный пиратский флаг.
Рыжебородый собственноручно заносил в большую кожаную тетрадь имена, титулы, возраст и род занятий каждого пленника. Узнав о скончавшихся, грязно выругался по адресу каторжников.
— Ленивые скоты, способные только на то, чтобы лакать хмельное пойло! Нанесли братству ущерб — кругленькую сумму можно было выручить на любом невольничьем рынке!.. Смотрите же, если сумма потерь превысит сумму дохода, вам придется самим надеть на шею рогатку невольника! Великое братство пиратов дарует свободу, но не поощряет разнузданности и злоупотреблений!..
Рыжебородый, конечно же, неспроста устроил этот спектакль. Во-первых, он давал понять каторжникам, что время ликования позади и новые главари потребуют от них такого же безоговорочного подчинения, как прежние хозяева. Во-вторых, гасил в пленниках искры последней надежды.
В темном, вонючем трюме Иосифу было суждено промучиться еще целую неделю. На день узникам давали по кусочку сушеного сыра, маленькой лепешке и крохотному черпачку гнилой воды.
Половину своей воды Иосиф отдавал Анне, стойко переносившей лишения, сумевшей и в этих ужасных условиях сохранить достойный вид.
Наконец выгрузились в многолюдном порту.
Вокруг сновали люди в чалмах и халатах. Это был Алжир, незадолго до того захваченный авантюристом, много раз менявшим религию и имя, прежде чем объявить себя Барбароссой Первым. Кто хоть немного слышал его историю, поражался, как он оказался предводителем главных пиратских гнезд Средиземноморья; не обошлось, конечно, без убийств и подкупов, но были еще и другие тайные пружины; поговаривали, что он ставленник ростовщиков всего Востока, задумавших основать собственное королевство.
Пленников повели через город. Иосиф, сколь ни был измучен, шутил со своей госпожой, пытаясь заинтересовать ее видом необычного города.
В сущности, это была большая пыльная деревня, только возле дворца правителя теснилось несколько великолепных зданий и величественная мечеть.
Что ожидало несчастных, стало ясно, когда проходили возле мечети. Охранники начали больно хлестать людей кнутами, крича, что неверным запрещено даже глядеть на мусульманский божий дом.
Словно стадо баранов, пленников загнали через низенькие ворота во двор, огороженный каменной стеной. Это было место, где собирали и сортировали невольников, чтобы затем повыгоднее сбыть на рынке.
На помосте в тени сидел важный, полусонный чиновник, перед ним стояли воины со щитами и копьями, толмачи и писцы с навешенными на шею досками. Все новоприбывшие были описаны еще раз: имя, происхождение, возраст, род занятий, знание языков, искусств и ремесел.
Растерянные люди не знали, как лучше защитить себя — приписывали себе разные достоинства. Чиновник спрашивал о том, может ли пленник освободиться за выкуп, на какую сумму рассчитывает, адрес поручителей или посредников.
Каждому присваивался номер, дощечку с номером тотчас вешали на шею, запрещая снимать под угрозой смерти.
Затем женщин отделили от мужчин, впервые всех накормили обильной, хотя и дрянной пищей, позволили умыться и привести себя в порядок.
Понимая речь иноплеменников, собранных за оградой, Иосиф узнал множество историй и поразился масштабам охоты на людей, которую Барбаросса сделал главнейшей статьей дохода своего кровавого государства. Пираты не ограничивались захватами кораблей и их грузов, не довольствовались продажей на невольничьих рынках команды и пассажиров, они нападали на прибрежные испанские, французские, генуэзские и другие земли — ради пленных, которых брали десятками тысяч.
«Как же так? Под носом у всего христианского мира процветает преступный бизнес, и могущественные империи оказываются бессильны пресечь его?.. Как же так? Отчего все шумные походы против пиратской банды завершаются всегда тихо и безуспешно?..»
Иосиф недоумевал.
Однажды он услыхал от пожилого господина из Мессины, посла какого-то герцога:
— …Карл Пятый, располагая сотнями кораблей и опытных мореходов, никак не может высадить войска здесь, на побережье Алжира. Знаете, почему? Потому, что крупнейшие сановники императора подкуплены. Да-да, пираты повсюду держат своих людей, и как им не держать этих людей, если они ежегодно получают доходы, во много раз превышающие доходы сильнейших империй?.. Смотрите, крепость на островке Пеньон, сооруженная арагонцами, до сих пор успешно отбивается от пиратов. Непобедимость пиратов — коварная ложь, как ложь и то, что они стремятся создать государство свободы и социальной справедливости. Как это может случиться, если они существуют за счет убийств, грабежей, насилий и рабства? Их главари нарочно увлекают несчастных, но те получают не свободу и умиротворение, а непрерывные походы, разврат и разгул, полное духовное опустошение и скотство, увечья и смерть… Людям кажется все очень простым: одни грабят, другие — отбиваются от грабителей. Но, право, я, объехавший весь мир и кое-что знающий о его скрытых пороках, берусь утверждать, что грабеж такого размаха — явление не случайное, это бесовское предприятие. И оно вершится только потому, что совращены самые влиятельные лица…
Слова возмущенного господина наводили на самые грустные размышления, но Иосиф не решился развивать перед ним свою точку зрения.
Сердце болело об Анне. Иосиф был готов к мукам своей новой судьбы, сознавая, что эта действительность для него переходная, что он как-либо вырвется из плена. Но как она? У этой хрупкой и нежной девочки, нисколько не повинной в том, что она была рождена и воспитана в богатой семье, не могло быть такой уверенности.
Правда, во время бесед в корабельном трюме он убедился, что вера Анны в справедливость бога ничуть не меньше его уверенности в том, что он, Иосиф, не подвластен крайностям событий. Но тем более было жаль ее чистой и святой веры.
Иосиф поклялся Анне, что не оставит ее в беде, и она недоумевала, как это невольник, лишенный даже малейшей возможности протестовать, может прийти на помощь. Однако она от всей души поблагодарила его, и ее благодарность только укрепила чувства Иосифа. Он в самом деле привязался к этому экзотическому цветку и без колебаний отдал бы свою жизнь за то, чтобы этот цветок рос и расцветал, пусть даже вовсе недоступный ему: счастье Анны воспринималось им, как собственное счастье…
Потом, позднее Иосиф убедился в великодушии юной графини: когда обстоятельства сложились для нее так, что она могла выбирать между личной безопасностью и чистым порывом сердца, она без колебаний предпочла голос сердца и попыталась облегчить долю своего верного слуги, на которого она, правда, и смотрела как на слугу, не в силах переступить предрассудков эпохи.
Мог ли Иосиф поставить ей в вину заблуждения? Да и понимал, что ответная любовь, если бы он и добился ее, ничего, кроме новых мучений, не принесла бы, потому что он был визитером в судьбе Анны и рано или поздно должен был покинуть ее…
Однажды на заре появились гнусного вида мавры и с явным удовольствием принялись перещупывать невольников, отбирая их для продажи. Вызывая людей по номерам, они разделяли их по группам; недужных и стариков, не пообещавших никакого выкупа, отправили в подземелье.
Иосиф надеялся, что увидит Анну, но этого не случилось: женщин сортировали отдельно.
После водопоя из общего корыта (пленники лакали воду, как звери) погнали на рынок.
Иосиф впервые видел богатое и пестрое восточное торжище. Он воспринимал его как живую картинку, потому что богатства рынка для невольника не существовали. Не существовали ни эти финики, дыни, орехи, продававшиеся прямо с возков, над которыми были устроены плетеные шатры — укрылища от палящих лучей солнца или песчаной бури.
За той частью рынка, где продавали овец, коз, лошадей и мулов, начинался невольничий рынок, разноязыкий и пестрый, признававший один-единственный довод — деньги. Чалмы и фески перемежались здесь шляпами и бурнусами, тут сновали лукавые мавры, толпились шумные турки, неторопливо ходили египтяне и сирийцы, суетились евреи, и все громкими голосами убеждали друг друга, что качество «товара» совсем упало, а выручка едва покрывает издержки на его содержание.
Торгаши беспардонно лгали, сбивая цены, на виду у всех подкупали пиратских посредников, давая бакшиш.
Это было ристалище насилия и обмана, место позора и унижения. Мужчин покупали на сельхозработы, редко — в качестве учителей или воспитателей, женщин брали для услужения в домах или грязных притонах, где всякий сброд спускал краденые деньги, обогащая все тех же работорговцев. Это для них старался Барбаросса, пираты были лишь орудием их обогащения.
Вместе с группой незнакомых мужчин Иосифа поставили на пыльной площадке под навес из куска ветхой парусины.
Купцы пальцами открывали невольникам рты, смотрели зубы, глаза, щупали мускулы, справлялись через переводчика о здоровье. Иногда, не предупреждая, били в живот или грудь, по реакции определяя, у кого больны печень, почки или желчный пузырь. Это были опытные торгаши.
Напротив Иосифа остановился низенький, пузатый человек. На пухлом лице моргали круглые сальные глазки.
— Это не испанец, — сказал купец вертевшемуся рядом толмачу. — Спроси, откуда?
— Из Русистана, почтенный, — перевел толмач.
— Это на севере, — купец наморщил лоб. — Там вечные льды и выносливые люди. Вижу-вижу. — И вдруг больно ущипнул Иосифа ниже спины. — Худорлявый — кляча! Кормить надо, чтобы вышел толк. Кормить, как индейку! Большие расходы.
Он вновь протянул коричневую руку, но Иосиф ударил по руке.
Коротышка налился гневом.
— Эй ты, толмач, передай северному барашку, что на жаровне ему будет столь же уютно, как и южному! — И выставил пухлую щеку и волосатое ухо. — Пусть поцелует! Ну!..
Иосиф плевком ответил на угрозу.
Все замерли.
Купец достал шелковый платок, неторопливо вытерся и, блеснув глазами, сказал:
— Покупаю раба.
— Но я передумал, — посредник разом смекнул, что представился случай заработать. — Этот дерзкий раб стоит в два раза дороже!
— Плачу и эту цену! Надень ему веревку на шею и тащи в мой дом! Я накину за труды!
— Э, нет, — сказал Иосиф по-арабски, обращаясь к посреднику. — Меня, отпрыска благородного рода, не смеет купить за деньги ни один негодяй мира. Отведи-ка меня к своему хозяину, мы с ним потолкуем о выкупе.
Посредник сразу вспотел.
— Откуда ты знаешь арабский? — изумился он, переглянувшись с купцом и толмачом. — На твоей дощечке помечено, что ты говоришь только по-испански.
— Сам посуди, человек, — забавляясь, ответил Иосиф. — Разве может житель Русистана говорить только по-испански?
— Послушай раба, но поступи наоборот, — подмигнул торгаш, доставая из-за цветного пояса кошелек, вышитый жемчужными зернами. — Ты не слыхал этих вздорных речей, не так ли? Серебро при себе лучше золота при мулле. Я набавлю, будешь доволен.
Посредник понял, рожа его растеклась в улыбке.
— Да-да, совсем непонятное бормочет этот строптивый раб! Возьми еще парочку, почтенный, я привешу ко всем доску и дам человека доставить товар до самого дома!
Они склонились друг к другу, шушукаясь. Наконец ударили по рукам.
Вмиг слуга посредника притащил разъемную на две половины доску с прорезями для шеи. Иосифа и еще одного невольника поставили друг другу в затылок, сдавили шеи деревянной колодкой, концы стянули ремнями — до концов было не дотянуться, так что невольники оказались беспомощными. Более того, чтобы продвигаться вперед, не причиняя себе боли, им необходимо было сгибаться или тянуться вверх так, чтобы шеи были на одном уровне — ловкая придумка истязателей.
Щелкнул бич, купленных рабов погнали по жаре. Иосиф был так подавлен, что почти и не глядел по сторонам на столицу морских разбойников.
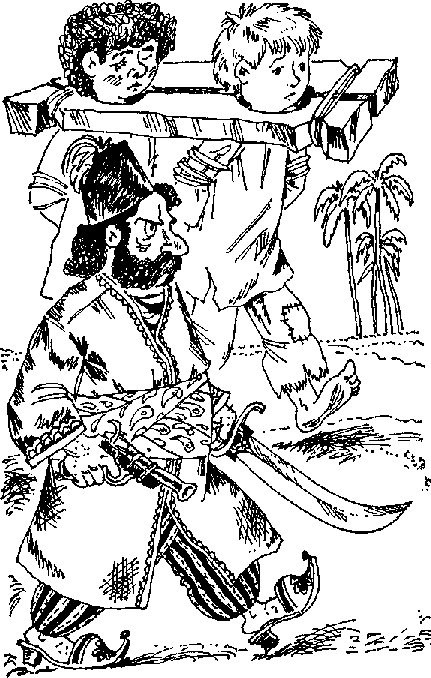
Столица казалась сонной и безразличной — приземистые хатки за стенами из глины, горячая пыль по щиколотку на кривых улочках, мальчишки с собаками, в густой тени навьюченные ослы и стайки горлиц, хлопавших крыльями в ослепительном небе.
Взгляд задерживался на зеленых кронах персиковых и абрикосовых деревьев; там, за глухими стенами, текла своя жизнь, но Иосиф догадывался, что жизнь эта нелегкая и нерадостная, потому что жители Алжира были обложены тяжелой данью в пользу захватчиков-пиратов.
Наконец остановились перед воротами, на которых было написано имя хозяина, привратник впустил невольников во двор. Иосиф увидел роскошный хозяйский дом, сад и пруд, за которым виднелось несколько хозяйственных построек.
Тут подоспел коротышка-купец, на пухлом его лице все еще хранились следы злобы и досады. Он схватил плеть и принялся хлестать Иосифа изо всех сил. Прикрываясь руками, Иосиф дергался от боли, причиняя тем страдания и себе, и своему сотоварищу.
Но вот купец устал, отшвырнул плеть и со словами «ты возместишь еще, мерзкое животное, все мои расходы!» ушел к дому, — дюжий слуга сопровождал его.
С невольников сняли колодку и сказали: «Будете ухаживать за посевами на земле господина. Сейчас придет распорядитель работ. Следуйте его указаниям, иначе он искалечит вас. Только за усердный труд и примерное поведение положены пища и ночной отдых».
Едва невольники присели в тени на прохладную землю, появился распорядитель работ: принес старые камышовые шляпы, велел надеть их и повел к овчарне, где тощий, как палка, раб возился над корытами с землей, высаживая в них рассаду.
Распорядитель объяснил, что рассада — это ячмень, предназначенный для овец, доставляемых с загородного хозяйства господина; поскольку овец надо подкормить, а пастбищ в городе нет, животных кормят загустевшими побегами ячменя. Для этого рассаживают по корытам строго определенное количество рассады и готовят почву под новый посев под руководством старшего раба, которого зовут Буба.
Распорядитель ушел, а Буба, пилигрим из Далмации, растерявший, видимо, всю набожность, принялся учить своих сотоварищей, при малейшей оплошности отвешивая им оплеухи. Иосиф терпел, думая про себя о том, что насильники и эксплуататоры неслучайно насаждают кругом жестокость и неравноправие, — подневольные люди ссорятся между собою, вымещают друг на друге все свои обиды и тем позволяют главным своим мучителям сохранять непоколебимую власть.
Поначалу работа показалась даже интересной. Переносные корыта с землей, действительно, весьма хитроумно заменяли пастбище. Маленькое зернышко при заботливом уходе в течение двух недель образовывало пышное растение.
Деревянных корыт с зеленым ячменем насчитывалось более сотни. Сегодня стравливали одни, завтра другие, так что конвейер действовал бесперебойно, снабжая скот таким запасом свежих кормов, который могло обеспечить только огромное поле.
Иосиф проработал в хозяйстве несколько дней, поражаясь, как быстро полуголодная, тупая, монотонная жизнь подавляет все высокие мысли и чувства. Он стал таким же медлительным и сонным, как остальные рабы, и однажды поймал себя на том, что наибольшую радость ему доставляет жужжание навозных мух — уютное, умиротворяющее, навевающее покорность и равнодушие ко всему на свете.
Как-то в полдень явились евнухи и увели Иосифа в баню. Там раздели донага, велели прополоскать какой-то жидкостью рот, терли мочалками спину, руки и ноги, мылили голову, потом парили в бочке с горячей водой и, завернув в простыни, отнесли в пристройку господского дома.
Маленькая, полутемная комнатка была заставлена коврами и мягкими шелковыми подушками. Принесли еду: жирный плов, верблюжий кумыс и сладкие орехи.
Иосиф тотчас разделался с едой, зная, что в его положении принято наедаться досыта, и улегся отдыхать, радуясь, что его никто не неволит.
Заглянувший евнух окурил комнату дымом, Иосиф уснул и спал долго-долго; во сне виделись ему мухи, жужжавшие возле кучи навоза, которым удобряли почву для ячменной рассады.
Ночью Иосиф проснулся от жажды. И опять принесли вкусную и жирную пищу, и опять он пил верблюжий кумыс и ел орехи, и опять комнату окурили приторным дымом, и он опять спал, и опять видел во сне мух и ряды высаженных им ростков ячменя.
Пробудившись, Иосиф долго лежал без движения, чувствуя слабость, лень и еще тревогу: «Неужели ты забыл угрозы гнусного рабовладельца? Месть, страшная месть ожидает тебя…»
Хотелось посмотреться в зеркало, но веки слипались, подушки манили, как магнит.
Когда принесли еду, Иосиф сказал:
— У меня на языке прыщ, дайте зеркало.
— Зеркало не положено. Ешь, да поскорей!
— Есть не буду, пока не принесете зеркало.
— Мы лекаря покличем.
— Но без осмотра языка я не притронусь к пище!..
Через некоторое время передали крошечное зеркальце.
Иосиф взглянул на себя и увидел, что заплывает жиром, как индюшка: физиономия округлилась, глаза сделались безразличными и равнодушными.
— Мерзавцы! — Иосиф сунул слуге зеркало и велел немедленно убирать принесенные яства.
Честно говоря, ему хотелось есть, очень хотелось есть, — человек, лишенный самостоятельной жизни, быстро приспосабливается к любому предложенному режиму, — но Иосиф догадывался, что беспрекословное выполнение воли хозяина окончится для него самым прескверным образом.
Прибежали хозяйские слуги, повалили Иосифа, стали лить в горло кумыс, и ему приходилось глотать, чтобы не захлебнуться. А потом он впал в полное безразличие: видимо, в кумыс подмешали сонного зелья.
Когда Иосиф проснулся, на него смотрел коротышка-хозяин. Руки за спиной. На роже — довольная ухмылка.
— Плод созревает, — похвалил он своих слуг, — цена повышается… В баню пока не водите, делайте массаж, пусть больше спит.
— Послушайте, — сказал Иосиф. — Я знаю историю и географию, алгебру и геометрию. Я мог бы обучать ваших детей, клянусь, я бы старался.
— У меня нет детей, раб.
— Но, может быть, есть родственники, которым вы завещаете свои богатства. Человек должен жить не только в настоящем, но и в будущем.
— Не дерзи, негодник, не то вновь спущу с тебя шкуру! Я хочу жить сейчас, а что случится потом, меня не интересует!
Иосиф понял: ничто не переменит его доли.
— Потом вас закопают в землю, хозяин, и все ваши богатства растащат проходимцы. Никто не вспомнит, что жил на земле богатый, но глупый человек.
— Я глупый, но я научу тебя хрюкать, — с ухмылкой сказал хозяин. — Мне не нужны ни твои географии, ни твои истории, мне нужна твоя заплывшая жиром шкура…
Иосиф погибал. Еда и сон с каждым днем убивали в нем энергию, развивали лень, даже думать о чем-либо становилось все более трудно, все более обременительно.
«Как легко превратить человека в самое жалкое животное! Достаточно убить в нем жажду правды… И праздность, праздность — вот что сокрушает силы, они уже не ищут себе применения… Страх перед мыслью, исследующей жизнь, — это страх перед самой жизнью, потому что вне мысли никакой мир не может быть полным, стало быть, совершенным: мысль, приближающая к правде, — самое человеческое из творений человека…»
Всплески самоукоров становились с каждым днем все глуше, вязкое состояние уюта засасывало перекормленный, измученный непрерывным отдыхом организм.
Иосиф погибал, силы протеста в нем подавлялись едой и нараставшей усталостью. Однажды, когда он «страдал», говоря себе (в который раз!), что с завтрашнего дня возьмет себя в руки и начнет совершенно иной образ жизни, а может быть, осуществит побег, вдруг червячком шевельнулось: «А зачем? Что переменится? Разве есть жизнь за пределами той, которой живешь? Раб — ну и что? Раб лучше, чем труп…»
Душеловка захлопнулась, Иосиф перестал быть Иосифом: это было уже вспучившееся, как на дрожжах, перекормленное, ничтожное создание, в котором, верно, даже мозги заплыли салом…
Можно вообразить дальнейшую его судьбу, если бы не случилась перетряхнувшая все перемена.
Однажды заболевшему меланхолией Иосифу позволили выйти на улицу. Он отдыхал в тени на скамейке у пруда, наблюдая, как пятилетний сын привратника ловит рыбу. Вдруг на берегу появились коротышка-хозяин и смуглый мужчина в тюрбане.
— А вот этот гяур, не ведающий заповедей аллаха, — сказал хозяин. — Через неделю я возьму за него гораздо больше, чем предложила ваша госпожа.
— Ты, верно, забылся, — отвечал мужчина в тюрбане, вскинув брови. — Я предложил тебе деньги в виде некоторого утешения, а не платы. Если на то пошло, я могу забрать здесь все, что мне приглянется, даже твою плешивую башку.
— Это насилие, — сказал хозяин. — Несправедливость.
— Конечно, — кивнул гость. — Но разве твое богатство приобретено не насилием и несправедливостью? Так давай поладим без лишних слов: я терпелив, но прекрасно знаю, что налоги ты платишь едва ли с десятой части своих доходов!
— Ты душевный человек, раис-эфенди, — с поклоном отозвался перепуганный хозяин. — Так и быть, бери с собой этого раба. С тех пор как я увидел его, у меня случаются одни неприятности. Я потратил на него большие деньги.
— Запомни, ты не делаешь мне одолжения, — сказал гость. — Ты исполняешь волю эмира.
— Нет, я хочу, чтобы ты остался доволен нашей встречей, — залебезил хозяин. — У меня есть пистолеты необыкновенно тонкой работы. Пожалуй, я предложу тебе выбрать любой по вкусу…
В тот же день Иосиф оказался во дворце Барбароссы, эмира-самозванца, и сразу узнал, что спасен юной графиней Анной.
Ее судьба сложилась тоже очень непросто. Ее продали эмиру, но она наотрез отказалась не то что говорить с ним, но даже глядеть в его сторону. Не помогли ни угрозы, ни темница.
— Пусть не грозят мне унижением и смертью, — сказала она толмачу. — Никто не может купить моей души. Пока человек сохраняет веру в добро всевышнего, душа его устоит перед любым испытанием и останется чистой. А смерть, какой бы ни была, не может свершиться иначе, нежели с благоволения бога.
И Барбаросса, не знавший никакого удержу своим прихотям, вынужден был отступить.
— Я исполню три желания этой прекрасной графини, — сказал он, — если их целью не будет бегство. Но после того, клянусь, она станет моей женой, чего бы это мне ни стоило!..
Молодая графиня держалась очень мужественно. Она была прекрасна даже в своем горе. Слезы бежали по ее бледному лицу, но она повторяла служанке:
— Я не плачу, не плачу, Умберта. Отец умер так, как и подобает настоящему рыцарю, я горжусь им. И нам, нам предстоит теперь, не дрогнув, испить ту же чашу!
— Что же делать? — спросил Иосиф.
— Я уже не могу защитить тебя, — сказала Анна, — спасайся на свой страх и риск. Нас ожидает рабская доля в хозяйстве какого-нибудь мавра или турка. Ни тебя, ни меня не выкупят, но каждый должен сражаться за свою жизнь до последнего, чтобы таким образом спасти свою душу.
— Нет, госпожа, — сказал Иосиф. — Теперь, когда случилась беда, я ни за что не расстанусь с вами по доброй воле и все свои силы употреблю на то, чтобы облегчить вашу судьбу.
Прекрасная Анна отвернулась, чтобы скрыть слезы.
— От тебя я этого не ожидала, — промолвила она. — Ты всегда был своенравен и себе на уме. Прости, я иногда думала о тебе хуже, чем ты есть…
«Может быть, самая большая ценность, которую оставил для общей культуры этот так называемый „высший класс“, почти целиком существовавший за счет своих рабов, — традиция великодушия, верности данному слову, стойкости в превратностях судьбы и горделивая верность святыням, — подумал Иосиф. — Не все эксплуататоры по рождению были эксплуататорами по духу…»
Без еды и без воды, страдая от духоты, пленники просидели взаперти до позднего вечера. Незадолго до заката солнца в щелку неплотно притворенной ставни Иосиф разглядел, что к борту галеры пристало пиратское судно. Спустя некоторое время послышались крики людей и следом — выстрелы. Вероятно, это казнили непокорных.
В сумерках в каюту втолкнули еще несколько человек. Что это за люди, очередные невольники или шпионы пиратов, было неизвестно. Когда один из них, изрыгая гнусности, попытался снять золотое кольцо с руки Анны, Иосиф обрушил на голову негодяя бронзовую капитанскую чернильницу. Видимо, это возымело должное действие, потому что Анну больше никто не трогал.
Миновала долгая ночь и еще полдня. Служанка Анны, у которой было слабое сердце, упала в обморок.
Иосиф стал стучать в дверь. Дверь, наконец, открыли.
— Кто тут шумит? — грозно спросил полуголый каторжник, к тому же не вполне трезвый. — Изрублю всякого, кто сунется со своими претензиями!.. Да здравствует свобода народа! Смерть тиранам!..
Иосиф объяснил, что люди падают в обморок от духоты и жажды.
— Ха-ха-ха! Сейчас принесем свежего пива!
Каторжник куда-то ушел и вскоре вернулся с компанией таких же пьяных ублюдков. Они сунули в каюту ведро, наполненное мочой, и, хохоча, стали похваляться своим остроумием…
Всю ночь на корабле шла попойка, а утром, когда взялся хороший ветер, пленников решили перевести в трюм.
В каюте капитана осталось несколько умерших, среди них — старая служанка Анны.
Проходя по палубе, Иосиф увидел на мачте черный пиратский флаг.
Рыжебородый собственноручно заносил в большую кожаную тетрадь имена, титулы, возраст и род занятий каждого пленника. Узнав о скончавшихся, грязно выругался по адресу каторжников.
— Ленивые скоты, способные только на то, чтобы лакать хмельное пойло! Нанесли братству ущерб — кругленькую сумму можно было выручить на любом невольничьем рынке!.. Смотрите же, если сумма потерь превысит сумму дохода, вам придется самим надеть на шею рогатку невольника! Великое братство пиратов дарует свободу, но не поощряет разнузданности и злоупотреблений!..
Рыжебородый, конечно же, неспроста устроил этот спектакль. Во-первых, он давал понять каторжникам, что время ликования позади и новые главари потребуют от них такого же безоговорочного подчинения, как прежние хозяева. Во-вторых, гасил в пленниках искры последней надежды.
В темном, вонючем трюме Иосифу было суждено промучиться еще целую неделю. На день узникам давали по кусочку сушеного сыра, маленькой лепешке и крохотному черпачку гнилой воды.
Половину своей воды Иосиф отдавал Анне, стойко переносившей лишения, сумевшей и в этих ужасных условиях сохранить достойный вид.
Наконец выгрузились в многолюдном порту.
Вокруг сновали люди в чалмах и халатах. Это был Алжир, незадолго до того захваченный авантюристом, много раз менявшим религию и имя, прежде чем объявить себя Барбароссой Первым. Кто хоть немного слышал его историю, поражался, как он оказался предводителем главных пиратских гнезд Средиземноморья; не обошлось, конечно, без убийств и подкупов, но были еще и другие тайные пружины; поговаривали, что он ставленник ростовщиков всего Востока, задумавших основать собственное королевство.
Пленников повели через город. Иосиф, сколь ни был измучен, шутил со своей госпожой, пытаясь заинтересовать ее видом необычного города.
В сущности, это была большая пыльная деревня, только возле дворца правителя теснилось несколько великолепных зданий и величественная мечеть.
Что ожидало несчастных, стало ясно, когда проходили возле мечети. Охранники начали больно хлестать людей кнутами, крича, что неверным запрещено даже глядеть на мусульманский божий дом.
Словно стадо баранов, пленников загнали через низенькие ворота во двор, огороженный каменной стеной. Это было место, где собирали и сортировали невольников, чтобы затем повыгоднее сбыть на рынке.
На помосте в тени сидел важный, полусонный чиновник, перед ним стояли воины со щитами и копьями, толмачи и писцы с навешенными на шею досками. Все новоприбывшие были описаны еще раз: имя, происхождение, возраст, род занятий, знание языков, искусств и ремесел.
Растерянные люди не знали, как лучше защитить себя — приписывали себе разные достоинства. Чиновник спрашивал о том, может ли пленник освободиться за выкуп, на какую сумму рассчитывает, адрес поручителей или посредников.
Каждому присваивался номер, дощечку с номером тотчас вешали на шею, запрещая снимать под угрозой смерти.
Затем женщин отделили от мужчин, впервые всех накормили обильной, хотя и дрянной пищей, позволили умыться и привести себя в порядок.
Понимая речь иноплеменников, собранных за оградой, Иосиф узнал множество историй и поразился масштабам охоты на людей, которую Барбаросса сделал главнейшей статьей дохода своего кровавого государства. Пираты не ограничивались захватами кораблей и их грузов, не довольствовались продажей на невольничьих рынках команды и пассажиров, они нападали на прибрежные испанские, французские, генуэзские и другие земли — ради пленных, которых брали десятками тысяч.
«Как же так? Под носом у всего христианского мира процветает преступный бизнес, и могущественные империи оказываются бессильны пресечь его?.. Как же так? Отчего все шумные походы против пиратской банды завершаются всегда тихо и безуспешно?..»
Иосиф недоумевал.
Однажды он услыхал от пожилого господина из Мессины, посла какого-то герцога:
— …Карл Пятый, располагая сотнями кораблей и опытных мореходов, никак не может высадить войска здесь, на побережье Алжира. Знаете, почему? Потому, что крупнейшие сановники императора подкуплены. Да-да, пираты повсюду держат своих людей, и как им не держать этих людей, если они ежегодно получают доходы, во много раз превышающие доходы сильнейших империй?.. Смотрите, крепость на островке Пеньон, сооруженная арагонцами, до сих пор успешно отбивается от пиратов. Непобедимость пиратов — коварная ложь, как ложь и то, что они стремятся создать государство свободы и социальной справедливости. Как это может случиться, если они существуют за счет убийств, грабежей, насилий и рабства? Их главари нарочно увлекают несчастных, но те получают не свободу и умиротворение, а непрерывные походы, разврат и разгул, полное духовное опустошение и скотство, увечья и смерть… Людям кажется все очень простым: одни грабят, другие — отбиваются от грабителей. Но, право, я, объехавший весь мир и кое-что знающий о его скрытых пороках, берусь утверждать, что грабеж такого размаха — явление не случайное, это бесовское предприятие. И оно вершится только потому, что совращены самые влиятельные лица…
Слова возмущенного господина наводили на самые грустные размышления, но Иосиф не решился развивать перед ним свою точку зрения.
Сердце болело об Анне. Иосиф был готов к мукам своей новой судьбы, сознавая, что эта действительность для него переходная, что он как-либо вырвется из плена. Но как она? У этой хрупкой и нежной девочки, нисколько не повинной в том, что она была рождена и воспитана в богатой семье, не могло быть такой уверенности.
Правда, во время бесед в корабельном трюме он убедился, что вера Анны в справедливость бога ничуть не меньше его уверенности в том, что он, Иосиф, не подвластен крайностям событий. Но тем более было жаль ее чистой и святой веры.
Иосиф поклялся Анне, что не оставит ее в беде, и она недоумевала, как это невольник, лишенный даже малейшей возможности протестовать, может прийти на помощь. Однако она от всей души поблагодарила его, и ее благодарность только укрепила чувства Иосифа. Он в самом деле привязался к этому экзотическому цветку и без колебаний отдал бы свою жизнь за то, чтобы этот цветок рос и расцветал, пусть даже вовсе недоступный ему: счастье Анны воспринималось им, как собственное счастье…
Потом, позднее Иосиф убедился в великодушии юной графини: когда обстоятельства сложились для нее так, что она могла выбирать между личной безопасностью и чистым порывом сердца, она без колебаний предпочла голос сердца и попыталась облегчить долю своего верного слуги, на которого она, правда, и смотрела как на слугу, не в силах переступить предрассудков эпохи.
Мог ли Иосиф поставить ей в вину заблуждения? Да и понимал, что ответная любовь, если бы он и добился ее, ничего, кроме новых мучений, не принесла бы, потому что он был визитером в судьбе Анны и рано или поздно должен был покинуть ее…
Однажды на заре появились гнусного вида мавры и с явным удовольствием принялись перещупывать невольников, отбирая их для продажи. Вызывая людей по номерам, они разделяли их по группам; недужных и стариков, не пообещавших никакого выкупа, отправили в подземелье.
Иосиф надеялся, что увидит Анну, но этого не случилось: женщин сортировали отдельно.
После водопоя из общего корыта (пленники лакали воду, как звери) погнали на рынок.
Иосиф впервые видел богатое и пестрое восточное торжище. Он воспринимал его как живую картинку, потому что богатства рынка для невольника не существовали. Не существовали ни эти финики, дыни, орехи, продававшиеся прямо с возков, над которыми были устроены плетеные шатры — укрылища от палящих лучей солнца или песчаной бури.
За той частью рынка, где продавали овец, коз, лошадей и мулов, начинался невольничий рынок, разноязыкий и пестрый, признававший один-единственный довод — деньги. Чалмы и фески перемежались здесь шляпами и бурнусами, тут сновали лукавые мавры, толпились шумные турки, неторопливо ходили египтяне и сирийцы, суетились евреи, и все громкими голосами убеждали друг друга, что качество «товара» совсем упало, а выручка едва покрывает издержки на его содержание.
Торгаши беспардонно лгали, сбивая цены, на виду у всех подкупали пиратских посредников, давая бакшиш.
Это было ристалище насилия и обмана, место позора и унижения. Мужчин покупали на сельхозработы, редко — в качестве учителей или воспитателей, женщин брали для услужения в домах или грязных притонах, где всякий сброд спускал краденые деньги, обогащая все тех же работорговцев. Это для них старался Барбаросса, пираты были лишь орудием их обогащения.
Вместе с группой незнакомых мужчин Иосифа поставили на пыльной площадке под навес из куска ветхой парусины.
Купцы пальцами открывали невольникам рты, смотрели зубы, глаза, щупали мускулы, справлялись через переводчика о здоровье. Иногда, не предупреждая, били в живот или грудь, по реакции определяя, у кого больны печень, почки или желчный пузырь. Это были опытные торгаши.
Напротив Иосифа остановился низенький, пузатый человек. На пухлом лице моргали круглые сальные глазки.
— Это не испанец, — сказал купец вертевшемуся рядом толмачу. — Спроси, откуда?
— Из Русистана, почтенный, — перевел толмач.
— Это на севере, — купец наморщил лоб. — Там вечные льды и выносливые люди. Вижу-вижу. — И вдруг больно ущипнул Иосифа ниже спины. — Худорлявый — кляча! Кормить надо, чтобы вышел толк. Кормить, как индейку! Большие расходы.
Он вновь протянул коричневую руку, но Иосиф ударил по руке.
Коротышка налился гневом.
— Эй ты, толмач, передай северному барашку, что на жаровне ему будет столь же уютно, как и южному! — И выставил пухлую щеку и волосатое ухо. — Пусть поцелует! Ну!..
Иосиф плевком ответил на угрозу.
Все замерли.
Купец достал шелковый платок, неторопливо вытерся и, блеснув глазами, сказал:
— Покупаю раба.
— Но я передумал, — посредник разом смекнул, что представился случай заработать. — Этот дерзкий раб стоит в два раза дороже!
— Плачу и эту цену! Надень ему веревку на шею и тащи в мой дом! Я накину за труды!
— Э, нет, — сказал Иосиф по-арабски, обращаясь к посреднику. — Меня, отпрыска благородного рода, не смеет купить за деньги ни один негодяй мира. Отведи-ка меня к своему хозяину, мы с ним потолкуем о выкупе.
Посредник сразу вспотел.
— Откуда ты знаешь арабский? — изумился он, переглянувшись с купцом и толмачом. — На твоей дощечке помечено, что ты говоришь только по-испански.
— Сам посуди, человек, — забавляясь, ответил Иосиф. — Разве может житель Русистана говорить только по-испански?
— Послушай раба, но поступи наоборот, — подмигнул торгаш, доставая из-за цветного пояса кошелек, вышитый жемчужными зернами. — Ты не слыхал этих вздорных речей, не так ли? Серебро при себе лучше золота при мулле. Я набавлю, будешь доволен.
Посредник понял, рожа его растеклась в улыбке.
— Да-да, совсем непонятное бормочет этот строптивый раб! Возьми еще парочку, почтенный, я привешу ко всем доску и дам человека доставить товар до самого дома!
Они склонились друг к другу, шушукаясь. Наконец ударили по рукам.
Вмиг слуга посредника притащил разъемную на две половины доску с прорезями для шеи. Иосифа и еще одного невольника поставили друг другу в затылок, сдавили шеи деревянной колодкой, концы стянули ремнями — до концов было не дотянуться, так что невольники оказались беспомощными. Более того, чтобы продвигаться вперед, не причиняя себе боли, им необходимо было сгибаться или тянуться вверх так, чтобы шеи были на одном уровне — ловкая придумка истязателей.
Щелкнул бич, купленных рабов погнали по жаре. Иосиф был так подавлен, что почти и не глядел по сторонам на столицу морских разбойников.
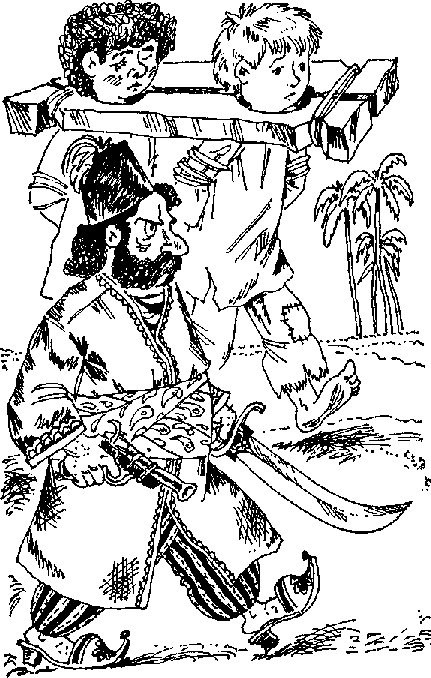
Столица казалась сонной и безразличной — приземистые хатки за стенами из глины, горячая пыль по щиколотку на кривых улочках, мальчишки с собаками, в густой тени навьюченные ослы и стайки горлиц, хлопавших крыльями в ослепительном небе.
Взгляд задерживался на зеленых кронах персиковых и абрикосовых деревьев; там, за глухими стенами, текла своя жизнь, но Иосиф догадывался, что жизнь эта нелегкая и нерадостная, потому что жители Алжира были обложены тяжелой данью в пользу захватчиков-пиратов.
Наконец остановились перед воротами, на которых было написано имя хозяина, привратник впустил невольников во двор. Иосиф увидел роскошный хозяйский дом, сад и пруд, за которым виднелось несколько хозяйственных построек.
Тут подоспел коротышка-купец, на пухлом его лице все еще хранились следы злобы и досады. Он схватил плеть и принялся хлестать Иосифа изо всех сил. Прикрываясь руками, Иосиф дергался от боли, причиняя тем страдания и себе, и своему сотоварищу.
Но вот купец устал, отшвырнул плеть и со словами «ты возместишь еще, мерзкое животное, все мои расходы!» ушел к дому, — дюжий слуга сопровождал его.
С невольников сняли колодку и сказали: «Будете ухаживать за посевами на земле господина. Сейчас придет распорядитель работ. Следуйте его указаниям, иначе он искалечит вас. Только за усердный труд и примерное поведение положены пища и ночной отдых».
Едва невольники присели в тени на прохладную землю, появился распорядитель работ: принес старые камышовые шляпы, велел надеть их и повел к овчарне, где тощий, как палка, раб возился над корытами с землей, высаживая в них рассаду.
Распорядитель объяснил, что рассада — это ячмень, предназначенный для овец, доставляемых с загородного хозяйства господина; поскольку овец надо подкормить, а пастбищ в городе нет, животных кормят загустевшими побегами ячменя. Для этого рассаживают по корытам строго определенное количество рассады и готовят почву под новый посев под руководством старшего раба, которого зовут Буба.
Распорядитель ушел, а Буба, пилигрим из Далмации, растерявший, видимо, всю набожность, принялся учить своих сотоварищей, при малейшей оплошности отвешивая им оплеухи. Иосиф терпел, думая про себя о том, что насильники и эксплуататоры неслучайно насаждают кругом жестокость и неравноправие, — подневольные люди ссорятся между собою, вымещают друг на друге все свои обиды и тем позволяют главным своим мучителям сохранять непоколебимую власть.
Поначалу работа показалась даже интересной. Переносные корыта с землей, действительно, весьма хитроумно заменяли пастбище. Маленькое зернышко при заботливом уходе в течение двух недель образовывало пышное растение.
Деревянных корыт с зеленым ячменем насчитывалось более сотни. Сегодня стравливали одни, завтра другие, так что конвейер действовал бесперебойно, снабжая скот таким запасом свежих кормов, который могло обеспечить только огромное поле.
Иосиф проработал в хозяйстве несколько дней, поражаясь, как быстро полуголодная, тупая, монотонная жизнь подавляет все высокие мысли и чувства. Он стал таким же медлительным и сонным, как остальные рабы, и однажды поймал себя на том, что наибольшую радость ему доставляет жужжание навозных мух — уютное, умиротворяющее, навевающее покорность и равнодушие ко всему на свете.
Как-то в полдень явились евнухи и увели Иосифа в баню. Там раздели донага, велели прополоскать какой-то жидкостью рот, терли мочалками спину, руки и ноги, мылили голову, потом парили в бочке с горячей водой и, завернув в простыни, отнесли в пристройку господского дома.
Маленькая, полутемная комнатка была заставлена коврами и мягкими шелковыми подушками. Принесли еду: жирный плов, верблюжий кумыс и сладкие орехи.
Иосиф тотчас разделался с едой, зная, что в его положении принято наедаться досыта, и улегся отдыхать, радуясь, что его никто не неволит.
Заглянувший евнух окурил комнату дымом, Иосиф уснул и спал долго-долго; во сне виделись ему мухи, жужжавшие возле кучи навоза, которым удобряли почву для ячменной рассады.
Ночью Иосиф проснулся от жажды. И опять принесли вкусную и жирную пищу, и опять он пил верблюжий кумыс и ел орехи, и опять комнату окурили приторным дымом, и он опять спал, и опять видел во сне мух и ряды высаженных им ростков ячменя.
Пробудившись, Иосиф долго лежал без движения, чувствуя слабость, лень и еще тревогу: «Неужели ты забыл угрозы гнусного рабовладельца? Месть, страшная месть ожидает тебя…»
Хотелось посмотреться в зеркало, но веки слипались, подушки манили, как магнит.
Когда принесли еду, Иосиф сказал:
— У меня на языке прыщ, дайте зеркало.
— Зеркало не положено. Ешь, да поскорей!
— Есть не буду, пока не принесете зеркало.
— Мы лекаря покличем.
— Но без осмотра языка я не притронусь к пище!..
Через некоторое время передали крошечное зеркальце.
Иосиф взглянул на себя и увидел, что заплывает жиром, как индюшка: физиономия округлилась, глаза сделались безразличными и равнодушными.
— Мерзавцы! — Иосиф сунул слуге зеркало и велел немедленно убирать принесенные яства.
Честно говоря, ему хотелось есть, очень хотелось есть, — человек, лишенный самостоятельной жизни, быстро приспосабливается к любому предложенному режиму, — но Иосиф догадывался, что беспрекословное выполнение воли хозяина окончится для него самым прескверным образом.
Прибежали хозяйские слуги, повалили Иосифа, стали лить в горло кумыс, и ему приходилось глотать, чтобы не захлебнуться. А потом он впал в полное безразличие: видимо, в кумыс подмешали сонного зелья.
Когда Иосиф проснулся, на него смотрел коротышка-хозяин. Руки за спиной. На роже — довольная ухмылка.
— Плод созревает, — похвалил он своих слуг, — цена повышается… В баню пока не водите, делайте массаж, пусть больше спит.
— Послушайте, — сказал Иосиф. — Я знаю историю и географию, алгебру и геометрию. Я мог бы обучать ваших детей, клянусь, я бы старался.
— У меня нет детей, раб.
— Но, может быть, есть родственники, которым вы завещаете свои богатства. Человек должен жить не только в настоящем, но и в будущем.
— Не дерзи, негодник, не то вновь спущу с тебя шкуру! Я хочу жить сейчас, а что случится потом, меня не интересует!
Иосиф понял: ничто не переменит его доли.
— Потом вас закопают в землю, хозяин, и все ваши богатства растащат проходимцы. Никто не вспомнит, что жил на земле богатый, но глупый человек.
— Я глупый, но я научу тебя хрюкать, — с ухмылкой сказал хозяин. — Мне не нужны ни твои географии, ни твои истории, мне нужна твоя заплывшая жиром шкура…
Иосиф погибал. Еда и сон с каждым днем убивали в нем энергию, развивали лень, даже думать о чем-либо становилось все более трудно, все более обременительно.
«Как легко превратить человека в самое жалкое животное! Достаточно убить в нем жажду правды… И праздность, праздность — вот что сокрушает силы, они уже не ищут себе применения… Страх перед мыслью, исследующей жизнь, — это страх перед самой жизнью, потому что вне мысли никакой мир не может быть полным, стало быть, совершенным: мысль, приближающая к правде, — самое человеческое из творений человека…»
Всплески самоукоров становились с каждым днем все глуше, вязкое состояние уюта засасывало перекормленный, измученный непрерывным отдыхом организм.
Иосиф погибал, силы протеста в нем подавлялись едой и нараставшей усталостью. Однажды, когда он «страдал», говоря себе (в который раз!), что с завтрашнего дня возьмет себя в руки и начнет совершенно иной образ жизни, а может быть, осуществит побег, вдруг червячком шевельнулось: «А зачем? Что переменится? Разве есть жизнь за пределами той, которой живешь? Раб — ну и что? Раб лучше, чем труп…»
Душеловка захлопнулась, Иосиф перестал быть Иосифом: это было уже вспучившееся, как на дрожжах, перекормленное, ничтожное создание, в котором, верно, даже мозги заплыли салом…
Можно вообразить дальнейшую его судьбу, если бы не случилась перетряхнувшая все перемена.
Однажды заболевшему меланхолией Иосифу позволили выйти на улицу. Он отдыхал в тени на скамейке у пруда, наблюдая, как пятилетний сын привратника ловит рыбу. Вдруг на берегу появились коротышка-хозяин и смуглый мужчина в тюрбане.
— А вот этот гяур, не ведающий заповедей аллаха, — сказал хозяин. — Через неделю я возьму за него гораздо больше, чем предложила ваша госпожа.
— Ты, верно, забылся, — отвечал мужчина в тюрбане, вскинув брови. — Я предложил тебе деньги в виде некоторого утешения, а не платы. Если на то пошло, я могу забрать здесь все, что мне приглянется, даже твою плешивую башку.
— Это насилие, — сказал хозяин. — Несправедливость.
— Конечно, — кивнул гость. — Но разве твое богатство приобретено не насилием и несправедливостью? Так давай поладим без лишних слов: я терпелив, но прекрасно знаю, что налоги ты платишь едва ли с десятой части своих доходов!
— Ты душевный человек, раис-эфенди, — с поклоном отозвался перепуганный хозяин. — Так и быть, бери с собой этого раба. С тех пор как я увидел его, у меня случаются одни неприятности. Я потратил на него большие деньги.
— Запомни, ты не делаешь мне одолжения, — сказал гость. — Ты исполняешь волю эмира.
— Нет, я хочу, чтобы ты остался доволен нашей встречей, — залебезил хозяин. — У меня есть пистолеты необыкновенно тонкой работы. Пожалуй, я предложу тебе выбрать любой по вкусу…
В тот же день Иосиф оказался во дворце Барбароссы, эмира-самозванца, и сразу узнал, что спасен юной графиней Анной.
Ее судьба сложилась тоже очень непросто. Ее продали эмиру, но она наотрез отказалась не то что говорить с ним, но даже глядеть в его сторону. Не помогли ни угрозы, ни темница.
— Пусть не грозят мне унижением и смертью, — сказала она толмачу. — Никто не может купить моей души. Пока человек сохраняет веру в добро всевышнего, душа его устоит перед любым испытанием и останется чистой. А смерть, какой бы ни была, не может свершиться иначе, нежели с благоволения бога.
И Барбаросса, не знавший никакого удержу своим прихотям, вынужден был отступить.
— Я исполню три желания этой прекрасной графини, — сказал он, — если их целью не будет бегство. Но после того, клянусь, она станет моей женой, чего бы это мне ни стоило!..
