Страница:
Госпожа Арамона запрокинула голову, пытаясь разглядеть солнце и хотя бы понять, где юг. Не вышло – дневное светило сгинуло в туманных тюфяках. Это вновь придало злости, а значит, и сил. Мысленно простившись с обувью, Луиза приподняла подол и бодро зашлепала между уже не сараев, но самых настоящих равелинов, однако далеко уйти не удалось – грязь стала непролазной. Когда ноги ушли в холодную серо-бурую кашу по щиколотку, женщина сочла за благо повернуть. Она сделала еще с сотню шагов, с трудом выдираясь из чавкающей глины, и поняла, что мельче грязь не становится. Оглянулась – за спиной было девственно гладко. Держась за стену, Луиза подняла ногу, стащила превратившуюся в какой-то похабный ком туфлю, перемазалась, немного успокоилась, глянула вниз. След никак не успевал затянуться. След исчез.
Что с ней сталось потом, женщина не осознавала. То воя от ужаса, то проклиная, она билась в каменной паутине, падала, поднималась, бросалась на стены, царапая скользкую кладку, куда-то бежала, пытаясь вырваться из ловушки, но камень, глина и туман держали крепко. Луиза вымокла до нитки, обломала ногти, сорвала голос и наконец, грязная и босая, вывалилась из словно бы выплюнувших добычу переходов. По глазам саданул ослепительный свет, и это было не солнце. Ядовито-зеленое, будто сладкий травяной сироп, сияние било свихнувшимся фонтаном прямо из каменных плит. Оно было завораживающе ярким, изголодавшиеся по цвету глаза вбирали в себя изумрудный мед, и госпожа Арамона не сразу поняла, где она. Слепо протянув вперед себя руки, женщина шагнула вперед.
– Иди вон! Вон!
Луиза вздрогнула и увидела. Небо. Солнце. Ноху. Дочку.
Там, где лукавый олларианец пугал придворных дур россказнями о призраках, била ножкой по пронзенной толстенным лучом плите Цилла. Дочка была в той же ночной сорочке, в которой ушла с отцом, только на головке вместо чепчика сверкала корона, а за спиной трепыхались вызолоченные крылышки. Больше между бывшей часовней королевы и заново оштукатуренным огромным зданием не было никого. Только столб зеленого света и они с Циллой. Капитанша провела ладонью по лицу. Оно, да и рука, и платье оказались сухими и чистыми, а вот туфли все-таки потерялись. Где?
– Иди вон! – крикнула кому-то Цилла. – Вон! Это мой город! Не дам!!!
Сиянье слегка поблекло, а может, Луиза начала к нему привыкать. К нему, к босым ногам, к дочке без тени и ее короне. В Олларию не пройти – так говорят и Зоя, и скотина Арнольд, но она прошла. Прошла! Она бы и в Надор прорвалась, если б там остались ее дети, а не бедняга Эйвон с Айри…
– Пошел вон! Гад-дурак, дохлый рак!
Маленькая круглая пятка с силой ударилась о камень. Святая Октавия, она же ногу отобьет.
– Цилла! Цилла… Маленькая моя… Стой…
– Ну тебя, – буркнула дочка и вдруг присела на корточки. Так она делала, собираясь играть в могилки. – Отстань! Мамка-шелупявка, на заду пиявка…
4
5
6
7
Часть вторая
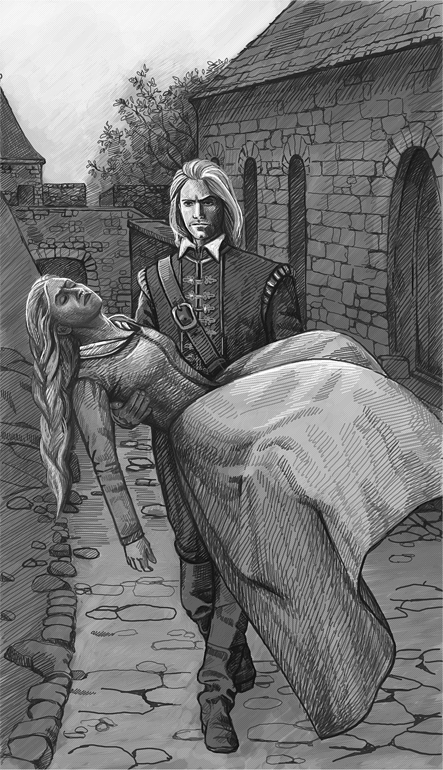
Глава 1
1
Что с ней сталось потом, женщина не осознавала. То воя от ужаса, то проклиная, она билась в каменной паутине, падала, поднималась, бросалась на стены, царапая скользкую кладку, куда-то бежала, пытаясь вырваться из ловушки, но камень, глина и туман держали крепко. Луиза вымокла до нитки, обломала ногти, сорвала голос и наконец, грязная и босая, вывалилась из словно бы выплюнувших добычу переходов. По глазам саданул ослепительный свет, и это было не солнце. Ядовито-зеленое, будто сладкий травяной сироп, сияние било свихнувшимся фонтаном прямо из каменных плит. Оно было завораживающе ярким, изголодавшиеся по цвету глаза вбирали в себя изумрудный мед, и госпожа Арамона не сразу поняла, где она. Слепо протянув вперед себя руки, женщина шагнула вперед.
– Иди вон! Вон!
Луиза вздрогнула и увидела. Небо. Солнце. Ноху. Дочку.
Там, где лукавый олларианец пугал придворных дур россказнями о призраках, била ножкой по пронзенной толстенным лучом плите Цилла. Дочка была в той же ночной сорочке, в которой ушла с отцом, только на головке вместо чепчика сверкала корона, а за спиной трепыхались вызолоченные крылышки. Больше между бывшей часовней королевы и заново оштукатуренным огромным зданием не было никого. Только столб зеленого света и они с Циллой. Капитанша провела ладонью по лицу. Оно, да и рука, и платье оказались сухими и чистыми, а вот туфли все-таки потерялись. Где?
– Иди вон! – крикнула кому-то Цилла. – Вон! Это мой город! Не дам!!!
Сиянье слегка поблекло, а может, Луиза начала к нему привыкать. К нему, к босым ногам, к дочке без тени и ее короне. В Олларию не пройти – так говорят и Зоя, и скотина Арнольд, но она прошла. Прошла! Она бы и в Надор прорвалась, если б там остались ее дети, а не бедняга Эйвон с Айри…
– Пошел вон! Гад-дурак, дохлый рак!
Маленькая круглая пятка с силой ударилась о камень. Святая Октавия, она же ногу отобьет.
– Цилла! Цилла… Маленькая моя… Стой…
– Ну тебя, – буркнула дочка и вдруг присела на корточки. Так она делала, собираясь играть в могилки. – Отстань! Мамка-шелупявка, на заду пиявка…
4
Теперь Лионель знал – нельзя отдаляться от Нохи. Чертополох, солнце, толпа – они могут что-то значить, а могут быть просто бурьяном, просто летом, просто бунтом, вот чем они не являются точно – в этом Савиньяк не сомневался, – так это бредом. Маршал видел, как у чудом не тронутых ни Олларами, ни Альдо тяжелых ворот вспухает злобное людское болото, чтобы нехотя отползти назад, оставив на некогда чистых камнях клочья мертвой тины. Подмоги все не было, но положение осажденных бедственным пока не казалось; если, разумеется, стрелки скупились на смерть не из-за нехватки пороха, а из здравого смысла. Ли надеялся, что так оно и есть, тем более что толпа все прибывала, изливаясь сходящимися к монастырю улицами. На то, чтобы затопить всю площадь, ее пока не хватало, да и на штурм по своим же трупам добрые обыватели рвались не слишком, и все же зрелище особых надежд на спокойную ночь не подавало.
В Нохе Лионель разыскал старшего церковника и остался доволен – несомненный ветеран, тот головы не потерял. Его помощники – капитан и несколько теньентов выглядели собранными, напряженными, но спокойными. Ни следов страха или, того хуже, позаимствованного у врагов безумия. Кому следует находиться на стенах, те льнут к бойницам, прочие – в ближнем дворе, и их, к сожалению, меньше, чем нужно, раза в три.
Часы на колокольне показали четыре пополудни, в Агмштадте тоже должно пробить четыре, значит, до трапезы у маркграфа три часа, время есть. Мушкетеры на стенах сменились, тех, кто спустился вниз, ждал обед. Ли, еще раз похвалив ветерана, о чем тот, разумеется, не подозревал, занялся выходящими на площадь жилыми домами. На первый взгляд пустые, они могли многое рассказать о городе, и они рассказали.
Большинство было покинуто, некоторые – давно, из других уходили в последние дни, а может, и часы; где-то озаботились укутать мебель небеленым полотном и снять лампы, где-то побросали даже иконы и седоземельские меха. Взгляд маршала скользил по засохшим гераням, распахнувшим голодные пасти сундукам, валяющемуся на пороге деревянному паяцу, рассыпанной крупе, на которой безнаказанно пировала мышь… Через стену от обжиравшейся счастливицы молились люди: шесть коленопреклоненных фигур среди наспех увязанных тюков, на одном надрывается спеленатый младенец. Следующий дом был пуст, а в особняке напротив женщина убивала мужчину. Жертва, беззвучно разевая рот, истекала кровью, убийца в нарядном желтом платье, блаженно улыбаясь, любовалась зрелищем, а потом ткнула еще раз чем-то, что показалось Лионелю вертелом. Маршал запомнил обоих и шагнул сквозь обтянутую веселой, в цветочки и бабочки, тканью стену. Он вернулся на площадь как раз вовремя, чтобы увидеть, как вдоль стены со стороны города Франциска надвигается новая толпа.
Численностью гораздо меньше клубящейся напротив главных ворот, но куда лучше вооруженная, она состояла только из мужчин самого подозрительного вида. Савиньяк ускорил шаг и вгляделся. Да, все верно: у большинства тесаки и длинные кинжалы, но мелькают шпаги, палаши, а кое-где даже пистолеты.
Впереди в окружении десятка головорезов вышагивал голенастый малый с картинно обнаженным клинком, эдакая пародия на увлекающего в битву солдат генерала. Не будь в Нохе матери, Савиньяк, возможно, и улыбнулся бы, припомнив себя у Ор-Гаролис, но мать была там, внутри, и никакие торские победы и договоры не меняли того обстоятельства, что на одного защитника аббатства теперь приходилось не меньше полудюжины мерзавцев, знающих, как держать оружие. И это не считая продолжавших осаждать ворота горожан, а те уже завидели пополнение и возликовали.
Наверное, они орали что-то приветственное, орали и потрясали палками, топорами, кулаками. Ненависть, которую люди честные питают к городскому отребью, была забыта: явились союзники, более того, вожаки! Ободренный голенастый вдобавок к абордажной сабле вытащил еще и пистолет. Жест показался знакомым, но Савиньяк и так догадался, на кого смотрит. Новая «Тень», возведенная Рокэ на престол взамен прикормленного сразу и супремом, и кансилльером крысенка. В краткую бытность комендантом Олларии Ли пару раз видел этого… с ошейником, и не убил. Скольких они с Росио не убили, когда могли, и счет надо было открыть Сильвестром.
Ускорив шаг, Лионель обогнал вновь прибывших и в который раз за этот бред обернулся, оказавшись с предводителем лицом к лицу. Память не подвела: это в самом деле был король «висельников»… Его звали Джанис, и он, не дойдя до толпы всего пару шагов, разрядил свой пистолет в брюхо грозившему Нохе кулаком мастеровому.
В Нохе Лионель разыскал старшего церковника и остался доволен – несомненный ветеран, тот головы не потерял. Его помощники – капитан и несколько теньентов выглядели собранными, напряженными, но спокойными. Ни следов страха или, того хуже, позаимствованного у врагов безумия. Кому следует находиться на стенах, те льнут к бойницам, прочие – в ближнем дворе, и их, к сожалению, меньше, чем нужно, раза в три.
Часы на колокольне показали четыре пополудни, в Агмштадте тоже должно пробить четыре, значит, до трапезы у маркграфа три часа, время есть. Мушкетеры на стенах сменились, тех, кто спустился вниз, ждал обед. Ли, еще раз похвалив ветерана, о чем тот, разумеется, не подозревал, занялся выходящими на площадь жилыми домами. На первый взгляд пустые, они могли многое рассказать о городе, и они рассказали.
Большинство было покинуто, некоторые – давно, из других уходили в последние дни, а может, и часы; где-то озаботились укутать мебель небеленым полотном и снять лампы, где-то побросали даже иконы и седоземельские меха. Взгляд маршала скользил по засохшим гераням, распахнувшим голодные пасти сундукам, валяющемуся на пороге деревянному паяцу, рассыпанной крупе, на которой безнаказанно пировала мышь… Через стену от обжиравшейся счастливицы молились люди: шесть коленопреклоненных фигур среди наспех увязанных тюков, на одном надрывается спеленатый младенец. Следующий дом был пуст, а в особняке напротив женщина убивала мужчину. Жертва, беззвучно разевая рот, истекала кровью, убийца в нарядном желтом платье, блаженно улыбаясь, любовалась зрелищем, а потом ткнула еще раз чем-то, что показалось Лионелю вертелом. Маршал запомнил обоих и шагнул сквозь обтянутую веселой, в цветочки и бабочки, тканью стену. Он вернулся на площадь как раз вовремя, чтобы увидеть, как вдоль стены со стороны города Франциска надвигается новая толпа.
Численностью гораздо меньше клубящейся напротив главных ворот, но куда лучше вооруженная, она состояла только из мужчин самого подозрительного вида. Савиньяк ускорил шаг и вгляделся. Да, все верно: у большинства тесаки и длинные кинжалы, но мелькают шпаги, палаши, а кое-где даже пистолеты.
Впереди в окружении десятка головорезов вышагивал голенастый малый с картинно обнаженным клинком, эдакая пародия на увлекающего в битву солдат генерала. Не будь в Нохе матери, Савиньяк, возможно, и улыбнулся бы, припомнив себя у Ор-Гаролис, но мать была там, внутри, и никакие торские победы и договоры не меняли того обстоятельства, что на одного защитника аббатства теперь приходилось не меньше полудюжины мерзавцев, знающих, как держать оружие. И это не считая продолжавших осаждать ворота горожан, а те уже завидели пополнение и возликовали.
Наверное, они орали что-то приветственное, орали и потрясали палками, топорами, кулаками. Ненависть, которую люди честные питают к городскому отребью, была забыта: явились союзники, более того, вожаки! Ободренный голенастый вдобавок к абордажной сабле вытащил еще и пистолет. Жест показался знакомым, но Савиньяк и так догадался, на кого смотрит. Новая «Тень», возведенная Рокэ на престол взамен прикормленного сразу и супремом, и кансилльером крысенка. В краткую бытность комендантом Олларии Ли пару раз видел этого… с ошейником, и не убил. Скольких они с Росио не убили, когда могли, и счет надо было открыть Сильвестром.
Ускорив шаг, Лионель обогнал вновь прибывших и в который раз за этот бред обернулся, оказавшись с предводителем лицом к лицу. Память не подвела: это в самом деле был король «висельников»… Его звали Джанис, и он, не дойдя до толпы всего пару шагов, разрядил свой пистолет в брюхо грозившему Нохе кулаком мастеровому.
5
Цилла сидела на корточках, глядя исподлобья, и настырно бурчала:
– Не-дам-не-дам-не-дам-не-дам!..
Внимания на мать паршивка больше не обращала; раньше она так себя вела, если поблизости торчал Арнольд. Луиза завертела головой в поисках покойного мужа, но они с Циллой по-прежнему были одни: ни Арнольда, ни Зои, ни того, кому дочка не желает чего-то давать… Никого.
– Вот тебе! Шлёпа рачья! – Цилла вскочила и широко улыбнулась. Не матери – чему-то, что ей очень нравилось. Быстро облизнула губы и вприпрыжку побежала к воротам. Впереди дочки огромным мячом скакала коронованная круглая тень. Тень, которой у мертвой не может быть… Луиза ущипнула себя за руку, стало больно, но Ноха осталась Нохой, только пустой – ни человека, ни воробья. Наверху сверкнуло – Цилла била в ладоши уже на крыше бывшего архива, как раз над залом, где Оноре спорил с придурочным епископом.
– Цилла, девочка моя…
– Ну тебя!
Луиза не обиделась. Какой бы дикостью и грехом это ни было, она тоже чувствовала себя счастливой. Ее девочка тут, и ей хорошо. Лучше, чем было дома… И Арнольду, мертвому, лучше, и Зое. Они не хотят назад к «горячим», где их мало любили, но и не злятся, ведь теперь у них все в порядке. Цилла никогда так не смеялась, никогда!
– Маленькая моя, прости меня… нас!
Не слышит и не слушает, у нее теперь своя жизнь… Жизнь?!
Глаза режет, душно, что-то тяжелое рокочет, ворочается там, за острым гребнем, будто ярмарка шумит.
– Ха! Не слушались? Вот вам! Тра-та-та, а-та-та!..
– Стой… Упадешь! Тут высоко!
Не падает. Застывает на самом краю, сосредоточенно смотрит. И Луиза тоже смотрит, как, перехлестывая ворота Нохи, на ставшую прудом площадь изливается тягучий сверкающий поток. Пруд прозрачно-зелен, и на его дне идет драка. Не заметившие того, что они утонули, люди калечат и убивают друг друга. Неспешно, плавно, лениво, и эта лень не дает отнестись к заливному из смерти серьезно. Вот это, медленное, светящееся, зеленое, оно просто не может быть настоящим!
Пущенный сонной рукой камень плывет в ставшем смолой дыму, попадает в изнемогшего старика, и тот оседает на мостовую… Ему не спастись, он это знает и не борется с неизбежностью. Зачем? Медноволосый одиночка надвигается на окутанную зеленью толпу – такую же, что сейчас раздирает себя внизу. По небу скользит ворона с чем-то блестящим в клюве, бессильные колокольни тычутся в равнодушную вышину… Весна, цветущие каштаны, канун праздника.
– Не-дам-не-дам-не-дам-не-дам!..
Внимания на мать паршивка больше не обращала; раньше она так себя вела, если поблизости торчал Арнольд. Луиза завертела головой в поисках покойного мужа, но они с Циллой по-прежнему были одни: ни Арнольда, ни Зои, ни того, кому дочка не желает чего-то давать… Никого.
– Вот тебе! Шлёпа рачья! – Цилла вскочила и широко улыбнулась. Не матери – чему-то, что ей очень нравилось. Быстро облизнула губы и вприпрыжку побежала к воротам. Впереди дочки огромным мячом скакала коронованная круглая тень. Тень, которой у мертвой не может быть… Луиза ущипнула себя за руку, стало больно, но Ноха осталась Нохой, только пустой – ни человека, ни воробья. Наверху сверкнуло – Цилла била в ладоши уже на крыше бывшего архива, как раз над залом, где Оноре спорил с придурочным епископом.
Как она сама взобралась к дочке, капитанша не поняла и не запомнила, она вообще отчаялась хоть что-то понять в своей безумной беготне. Просто приняла, что стоит у трубы ближе к гребню крыши, а ниже Цилла играет с зеленью, что призрачными волнами накатывает на старую черепичную кладку. Подобрав сорочку, дочка со смехом подбегала к самому краю, спускала ножку, шевелила пальчиками и отскакивала назад, почти к самой трубе, а за ней тянулась сверкающая волна, над которой кружило что-то неспешно-летучее, словно надорская моль обернулась не то ленивыми брызгами, не то почти изумрудными искрами…
У-гу-гу, у-гу-гу,
Я могу, могу, могу…
Растущий, распухающий на глазах столб света, залитые неживым сияньем крыши, дочкин смех и песенка. Веселая, торжествующая. Цилла может, может, может… Она пляшет и смеется, она счастлива, ведь она может…
– Я туда, туда, туда…
Я – беда, и ты – беда!
– Цилла, девочка моя…
– Ну тебя!
Луиза не обиделась. Какой бы дикостью и грехом это ни было, она тоже чувствовала себя счастливой. Ее девочка тут, и ей хорошо. Лучше, чем было дома… И Арнольду, мертвому, лучше, и Зое. Они не хотят назад к «горячим», где их мало любили, но и не злятся, ведь теперь у них все в порядке. Цилла никогда так не смеялась, никогда!
– Маленькая моя, прости меня… нас!
Не слышит и не слушает, у нее теперь своя жизнь… Жизнь?!
Глаза режет, душно, что-то тяжелое рокочет, ворочается там, за острым гребнем, будто ярмарка шумит.
Арнольдовы считалочки. Маменька за них била внуков по губам, теперь маменька – графиня; Арнольд не хочет в зятья графа, вот Цилла и ухватила короля… У дочки, у ее уродливой малышки, есть свой король, оттого и корона, но откуда крылья? И зачем? Неужели летать? Хотя как иначе попасть на крышу? На гребень крыши? А Цилла больше не играет с зелеными волнами, она смеется, она бежит вниз!
– А ты мой, а ты мой…
Я беру тебя, король!
У-гу-гу, у-гу-гу,
Я могу, могу, могу…
– Ха! Не слушались? Вот вам! Тра-та-та, а-та-та!..
– Стой… Упадешь! Тут высоко!
Не падает. Застывает на самом краю, сосредоточенно смотрит. И Луиза тоже смотрит, как, перехлестывая ворота Нохи, на ставшую прудом площадь изливается тягучий сверкающий поток. Пруд прозрачно-зелен, и на его дне идет драка. Не заметившие того, что они утонули, люди калечат и убивают друг друга. Неспешно, плавно, лениво, и эта лень не дает отнестись к заливному из смерти серьезно. Вот это, медленное, светящееся, зеленое, оно просто не может быть настоящим!
Госпожа Арамона отшатнулась и вцепилась в трубу – она вспомнила! Вспомнила, причеши его хорек!
– Эге-гей, дядьку бей,
Носа, глаза не жалей!
У-гу-гу, у-гу-гу,
Я могу, могу, могу…
Пущенный сонной рукой камень плывет в ставшем смолой дыму, попадает в изнемогшего старика, и тот оседает на мостовую… Ему не спастись, он это знает и не борется с неизбежностью. Зачем? Медноволосый одиночка надвигается на окутанную зеленью толпу – такую же, что сейчас раздирает себя внизу. По небу скользит ворона с чем-то блестящим в клюве, бессильные колокольни тычутся в равнодушную вышину… Весна, цветущие каштаны, канун праздника.
Вот она, беда – смерть и зелень, зелень, в которой водорослями в гнилой воде вьются волосы и тряпки. Такое в Олларии уже творилось, и Луиза это видела, только снизу, с самого дна. Там было тихо-тихо, а здесь, на нохской крыше, пляшет и хлопает в ладоши радостная Цилла. Неужели дочка и тогда плясала над смертью, над безумием, над горящими складами, мертвыми мясниками, над обгорелым сукном и черными лигистскими лентами?..
Вот и да, вот и да,
Я – беда, и ты – беда…
6
По брови заляпанный чужой кровью оборванец увлеченно и умело полосует двумя кинжалами обступивших его ремесленников, и те один за другим валятся под ноги дерущимся, пока тяжелая шипастая дубинка не сокрушает затылок умельца.
Увлеченно размахивая какой-то палкой, вертится на месте дородная мещанка средних лет с развевающимися косами. За волосы ее и ловят – рывок, удар в спину, забившая фонтанчиком изо рта кровь… Унявший ведьму громила, глупо и беззвучно осклабившись, швыряет тело в стайку подмастерий с сапожными ножами, те подаются назад. Становится виден пожилой негоциант с багровой – пора пускать кровь – физиономией. Полнокровие – дело излечимое, а вот сумасшествие…
Из темного людского варева, то и дело приправляемого алым, пузырями всплывали перекошенные рожи, и маршал Савиньяк имел сомнительное удовольствие разглядеть свихнувшихся во всех подробностях. Собственно, только это он и мог, шагая вдоль края резни, и резня эта поражала как своей бессмысленностью, так и своим зверством. Маршал больше не перешагивал трупы и не уворачивался от бьющей в лицо бесплотной крови – он почти привык, только мелькнула короткая четкая мысль: в настоящем бою опыт призрачной прогулки, если его не отбросить, будет стоить головы. И хорошо бы бывать лишь в таких боях – с пушками и солдатами в мундирах.
Не отдать должное ожесточенности схватки Ли не мог – дрались на площади самозабвенно, не заботясь о собственной шкуре, главное – дорваться до очередного врага, перерезать или даже перегрызть ему горло, выпустить кишки, раскроить череп… Вчерашние мирные, запуганные, не сподобившиеся дать отпор ни чужакам, ни мародерам обыватели забыли, что значит страх, но перестать бояться еще не значит стать бойцом. Желания убивать хоть отбавляй, а сноровки маловато, «висельники» же худо-бедно, но бойцы, с оружием знакомы не понаслышке, орудуют им умело и споро. Неумехи с корявыми руками таким не соперники, если задавят, то разве что числом, но нет! Несколько минут бешеной мясорубки – и горожане сперва пятятся, потом шарахаются в овраги улиц. Слава Леворукому, они все еще боятся. И пуль, и вылезших среди бела дня на улицы «висельников». Только тем-то что понадобилось?
Если бы подданные «Тени» грабили, резали, насиловали, вламывались в дома, Ли понял бы, но они лупили горожан, даже не думая срывать с поясов порой довольно-таки пухлые кошельки и выдирать из ушей сбесившихся женщин серьги. Не стремилось ворье и оттеснить толпу от пусть огрызающейся, но добычи, чтобы поживиться самим. Никто не пытался под шумок влезть на стены, никто не пробовал улизнуть, даже раненые не выходили из боя, убивая, пока хватало сил, – Ли видел, как упавший с проломленной головой молодчик из последних сил подсек ноги здоровяку в лекарской мантии, больше напоминавшему мясника, чем врача. Это было уже на самом краю площади. Савиньяк отвернулся от упавших, выискивая глазами Джаниса. Нашел. Тот был жив и вовсю орудовал абордажным клинком; Росио не ошибся ни в морском прошлом упрямого «висельника», ни в нем самом.
Увлеченно размахивая какой-то палкой, вертится на месте дородная мещанка средних лет с развевающимися косами. За волосы ее и ловят – рывок, удар в спину, забившая фонтанчиком изо рта кровь… Унявший ведьму громила, глупо и беззвучно осклабившись, швыряет тело в стайку подмастерий с сапожными ножами, те подаются назад. Становится виден пожилой негоциант с багровой – пора пускать кровь – физиономией. Полнокровие – дело излечимое, а вот сумасшествие…
Из темного людского варева, то и дело приправляемого алым, пузырями всплывали перекошенные рожи, и маршал Савиньяк имел сомнительное удовольствие разглядеть свихнувшихся во всех подробностях. Собственно, только это он и мог, шагая вдоль края резни, и резня эта поражала как своей бессмысленностью, так и своим зверством. Маршал больше не перешагивал трупы и не уворачивался от бьющей в лицо бесплотной крови – он почти привык, только мелькнула короткая четкая мысль: в настоящем бою опыт призрачной прогулки, если его не отбросить, будет стоить головы. И хорошо бы бывать лишь в таких боях – с пушками и солдатами в мундирах.
Не отдать должное ожесточенности схватки Ли не мог – дрались на площади самозабвенно, не заботясь о собственной шкуре, главное – дорваться до очередного врага, перерезать или даже перегрызть ему горло, выпустить кишки, раскроить череп… Вчерашние мирные, запуганные, не сподобившиеся дать отпор ни чужакам, ни мародерам обыватели забыли, что значит страх, но перестать бояться еще не значит стать бойцом. Желания убивать хоть отбавляй, а сноровки маловато, «висельники» же худо-бедно, но бойцы, с оружием знакомы не понаслышке, орудуют им умело и споро. Неумехи с корявыми руками таким не соперники, если задавят, то разве что числом, но нет! Несколько минут бешеной мясорубки – и горожане сперва пятятся, потом шарахаются в овраги улиц. Слава Леворукому, они все еще боятся. И пуль, и вылезших среди бела дня на улицы «висельников». Только тем-то что понадобилось?
Если бы подданные «Тени» грабили, резали, насиловали, вламывались в дома, Ли понял бы, но они лупили горожан, даже не думая срывать с поясов порой довольно-таки пухлые кошельки и выдирать из ушей сбесившихся женщин серьги. Не стремилось ворье и оттеснить толпу от пусть огрызающейся, но добычи, чтобы поживиться самим. Никто не пытался под шумок влезть на стены, никто не пробовал улизнуть, даже раненые не выходили из боя, убивая, пока хватало сил, – Ли видел, как упавший с проломленной головой молодчик из последних сил подсек ноги здоровяку в лекарской мантии, больше напоминавшему мясника, чем врача. Это было уже на самом краю площади. Савиньяк отвернулся от упавших, выискивая глазами Джаниса. Нашел. Тот был жив и вовсю орудовал абордажным клинком; Росио не ошибся ни в морском прошлом упрямого «висельника», ни в нем самом.
7
Что-то происходило. Не внизу, где продолжалось сонное побоище, в самой Нохе. Луиза это почуяла за мгновенье до того, как Цилла, прекратив пляску, застыла, будто принюхиваясь. Маленькая, нахохленная, в яркой, сверкающей короне… Луиза тоже принюхалась – ничего, кроме принесенной откуда-то гари. Дочка поняла больше; зло топнув, она опрометью припустила по гребню крыши, будто по лезвию гигантского ножа. Луиза, путаясь в проклятых придворных юбках, кинулась за дочкой, но та пропала за трубами, и госпожа Арамона заметалась по оказавшемуся ловушкой скату. Ни слухового окна, ни лестницы – только враз ставшая осклизлой черепица. Будь капитанша в туфлях, она б уже валялась на камнях двора окровавленным мешком, но босые ноги чувствовали, куда можно наступать, а потом Луиза поняла, что удобней передвигаться ползком. Важной бархатной жучихой она перевалила гребень и начала спускаться. На внутренней стороне было не так страшно – часть крыши опоясывала невысокая балюстрада с загаженными голубями вазами. Женщина кое-как добралась до ограждения и, вцепившись ногтями в крошащийся алебастр, глянула вниз.
Цилла была там, на просторной террасе с клетчатым полом. Поднимавшееся от разлитой по двору дряни сиянье делало черное темно-зеленым, а белое – мерзко-салатовым.
– Ну ты! – потребовала с террасы Цилла, ее корона вырывалась из вызелененного мира радужным ярким пятном. – Где тебя кошки носят, скотина ты паршивая?! Мне не разорваться!..
Госпожа Арамона знала эти слова, как и позу – руки на боках, подбородок задран вверх. Они с Арнольдом ругались, Цилла подслушивала, вот и набралась…
– Оглох? Уши отвалились? Или ниже? Может, поднимешь задницу наконец? Ну и сокровище мне подсупонили! У людей мужья как мужья, а ты…
Детский голосок продолжал выкрикивать гнусные взрослые слова, а некогда изрыгавшая их дурища едва не грызла со стыда черепицу, потому и не поняла, что дочка не просто грубит, она зовет, изо всех сил зовет того, кто не идет.
– Паршивец-вшивец! – взвизгнуло внизу. Это уже не было торжеством, в тронутом смертью голоске слышались слезы, пусть и злые. – Ну где же ты? Кобелина-королина, по башке тебя дубиной!
Теперь во дворе пахло сладко и скверно. То ли мертвыми цветами, то ли мертвечиной. Зеленый мед затянул каменные плиты, но щели меж ними все еще виднелись, будто трещины на стекле, да и весь двор от часовни с примыкавшей к ней стенкой до здоровенного архива стал скверным витражом, и только зеленый фонтан по-прежнему бил и бил.
– Королишка, полные штанишки! – Теперь Цилла стояла на балюстраде террасы и озиралась по сторонам удивленно и беспомощно. – Ну давай же! Ты мой! Мой! Мне папка обещал…
Арнольд? Что он наплел малышке? Кого она ждет?!
– Цилла! Девочка моя…
– Мамка? Где мой король! Дай! Это мой город! Мой! Не дам! Рак-дурак, пошел вон! Не лезь сюда!!!
Цилла опять затопала, сжимая кулачки, и Луиза наконец увидела того, кого прогоняла ее дочурка. Он выдвигался из трясины, будто его поднимала чудовищная ладонь. Обнаженный и зеленый, как и все вокруг, еще не старый, необычайно красивый, с липнущими ко лбу волосами-сосульками, он спал и омерзительно улыбался во сне. Под узкой темной полоской усиков то появлялась, то исчезала изумрудная полоска зубов. Ровных, блестящих, меленьких.
– Не дам! Вон! Пошел вон! Это мой город!!! Я – королева… Сейчас придет мой король! Он тебя…
Цилла прыгала, топала, ругалась, как сапожник, то есть как пьяный Арнольд. Усатый спал и улыбался, его баюкало зеленое желе, и оно уже не было прозрачным. В нем ползали темные длинные пятна, то поднимаясь к поверхности, то исчезая в глубине. У стены вспух здоровенный блестящий пузырь, и тут же набрякло еще несколько. Площадь закипала без огня, усатый спал и улыбался, но его естество было возбуждено. Он, как и Цилла, то и дело облизывал губы, длинная рука описала полукруг, словно кого-то обнимала или душила.
– Вон! Это мое!
– Цилла, назад!
Назад, потому что зеленый опасен. К нему нельзя приближаться, и смотреть на него тоже нельзя…
– Цилла, беги!
– Это мой город!
Спящий больше не двигался и не облизывал губ. Все с той же сладострастной улыбкой он уходил назад, в светящуюся глубину. Медленно, по волоску, но уходил, и вместе с ним опадали пузыри. Цилла спрыгнула вниз, расплескав, вернее разбив, сдающееся стекло. Полностью захваченная своим поединком, она не ругалась, не озиралась по сторонам, не звала своего короля. Она не видела высокой статной фигуры, оказавшейся у нее за спиной. Луиза тоже ее заметила, когда поздно было даже кричать. Сильная, впору гнуть подковы, рука сорвала с дочкиной головы корону.
– Цилла!
– И-и-и!.. – Малышка уже все поняла и обернулась к новому врагу. Простоволосая, яростная, она подскочила чуть ли не на высоту своего роста, норовя вцепиться вору в горло.
– Ты не он! Отдай!!! Не твое! Ты не мой! Ты не король… Подлый пфук! Жаба! Отдай!!! Вот тебе!
Ошеломленный высокий – Альдо Ракан! – отшатнулся, корона вырвалась из сильных пальцев, коснулась растекшейся зелени и канула, растаяла солью в бульоне. Сразу, и это был конец. Луиза не знала, как она это поняла, но поняла сразу.
– Мамка! Мамка, дай… Короля дай! Моего!!!
Альдо съежился, прикрывая голову руками, заорал, его щека лопнула, потом что-то сталось с его глазом, шеей, мундиром. Казалось, его рвут невидимые псы, рвут и ревут, как ревет дальняя ярмарка, как ревела черноленточная толпа в Заречье, а зеленый столб распухал невиданной клубящейся кроной, будто на нем вырастала злобная, нечистая гроза. Не надорские сходящиеся луны, не ожившие камни, нечто худшее, что не просто раздавит, погребет под толщами камня и воды, а исковеркает, извратит и затянет в зеленый пахнущий тленом мед, из которого уже поднялся усатый. Он проснулся, и останавливать его было некому. Кроме Циллы. Малышка не бежала, не пряталась, не плакала. Молча, набычившись, она глядела на проснувшегося, и тот больше не улыбался. Двое – девочка в рубашонке и возбужденный голый красавец, застыли друг против друга по щиколотку в зеленой погибели и стояли, пока камни не предали окончательно и Цилла не провалилась в ядовито-медовую топь, как проваливается в болото прельстившийся сочной травой теленок.
– Мамка! – Отчаянный крик разом убил и страх, и разум. Луиза рванулась к погибающей дочке, не разбирая пути. Может, она прыгнула с крыши, может, упала, может, слетела… Или это была не крыша, или вообще не было ничего, кроме зовущей мать малышки, живой ли, мертвой ли, но дочки, кровиночки, существа, за которое только и стоит умирать. И неважно, что станется с тобой, только б Цилла смеялась и плакала, только б она была. Луиза что-то отпихнула, что-то перескочила, упала, поднялась, вцепилась в заступившую путь снулую килеанью морду, та размазалась в кашицу, как сгнившие в вазе цветочные листья.
– Мама… – уже не кричало, хрипело где-то за зеленой струей, за спинами встающих один за другим дохлых кавалеров, – мамо… чка!
– Я тут! Тут!.. Я с тобой… Святая Октавия, кто-нибудь, помогите! Не дайте этим… Этому! Цилла, нет! Нет!!!
Цилла была там, на просторной террасе с клетчатым полом. Поднимавшееся от разлитой по двору дряни сиянье делало черное темно-зеленым, а белое – мерзко-салатовым.
– Ну ты! – потребовала с террасы Цилла, ее корона вырывалась из вызелененного мира радужным ярким пятном. – Где тебя кошки носят, скотина ты паршивая?! Мне не разорваться!..
Госпожа Арамона знала эти слова, как и позу – руки на боках, подбородок задран вверх. Они с Арнольдом ругались, Цилла подслушивала, вот и набралась…
– Оглох? Уши отвалились? Или ниже? Может, поднимешь задницу наконец? Ну и сокровище мне подсупонили! У людей мужья как мужья, а ты…
Детский голосок продолжал выкрикивать гнусные взрослые слова, а некогда изрыгавшая их дурища едва не грызла со стыда черепицу, потому и не поняла, что дочка не просто грубит, она зовет, изо всех сил зовет того, кто не идет.
– Паршивец-вшивец! – взвизгнуло внизу. Это уже не было торжеством, в тронутом смертью голоске слышались слезы, пусть и злые. – Ну где же ты? Кобелина-королина, по башке тебя дубиной!
Теперь во дворе пахло сладко и скверно. То ли мертвыми цветами, то ли мертвечиной. Зеленый мед затянул каменные плиты, но щели меж ними все еще виднелись, будто трещины на стекле, да и весь двор от часовни с примыкавшей к ней стенкой до здоровенного архива стал скверным витражом, и только зеленый фонтан по-прежнему бил и бил.
– Королишка, полные штанишки! – Теперь Цилла стояла на балюстраде террасы и озиралась по сторонам удивленно и беспомощно. – Ну давай же! Ты мой! Мой! Мне папка обещал…
Арнольд? Что он наплел малышке? Кого она ждет?!
– Цилла! Девочка моя…
– Мамка? Где мой король! Дай! Это мой город! Мой! Не дам! Рак-дурак, пошел вон! Не лезь сюда!!!
Цилла опять затопала, сжимая кулачки, и Луиза наконец увидела того, кого прогоняла ее дочурка. Он выдвигался из трясины, будто его поднимала чудовищная ладонь. Обнаженный и зеленый, как и все вокруг, еще не старый, необычайно красивый, с липнущими ко лбу волосами-сосульками, он спал и омерзительно улыбался во сне. Под узкой темной полоской усиков то появлялась, то исчезала изумрудная полоска зубов. Ровных, блестящих, меленьких.
– Не дам! Вон! Пошел вон! Это мой город!!! Я – королева… Сейчас придет мой король! Он тебя…
Цилла прыгала, топала, ругалась, как сапожник, то есть как пьяный Арнольд. Усатый спал и улыбался, его баюкало зеленое желе, и оно уже не было прозрачным. В нем ползали темные длинные пятна, то поднимаясь к поверхности, то исчезая в глубине. У стены вспух здоровенный блестящий пузырь, и тут же набрякло еще несколько. Площадь закипала без огня, усатый спал и улыбался, но его естество было возбуждено. Он, как и Цилла, то и дело облизывал губы, длинная рука описала полукруг, словно кого-то обнимала или душила.
– Вон! Это мое!
– Цилла, назад!
Назад, потому что зеленый опасен. К нему нельзя приближаться, и смотреть на него тоже нельзя…
– Цилла, беги!
– Это мой город!
Спящий больше не двигался и не облизывал губ. Все с той же сладострастной улыбкой он уходил назад, в светящуюся глубину. Медленно, по волоску, но уходил, и вместе с ним опадали пузыри. Цилла спрыгнула вниз, расплескав, вернее разбив, сдающееся стекло. Полностью захваченная своим поединком, она не ругалась, не озиралась по сторонам, не звала своего короля. Она не видела высокой статной фигуры, оказавшейся у нее за спиной. Луиза тоже ее заметила, когда поздно было даже кричать. Сильная, впору гнуть подковы, рука сорвала с дочкиной головы корону.
– Цилла!
– И-и-и!.. – Малышка уже все поняла и обернулась к новому врагу. Простоволосая, яростная, она подскочила чуть ли не на высоту своего роста, норовя вцепиться вору в горло.
– Ты не он! Отдай!!! Не твое! Ты не мой! Ты не король… Подлый пфук! Жаба! Отдай!!! Вот тебе!
Ошеломленный высокий – Альдо Ракан! – отшатнулся, корона вырвалась из сильных пальцев, коснулась растекшейся зелени и канула, растаяла солью в бульоне. Сразу, и это был конец. Луиза не знала, как она это поняла, но поняла сразу.
– Мамка! Мамка, дай… Короля дай! Моего!!!
Альдо съежился, прикрывая голову руками, заорал, его щека лопнула, потом что-то сталось с его глазом, шеей, мундиром. Казалось, его рвут невидимые псы, рвут и ревут, как ревет дальняя ярмарка, как ревела черноленточная толпа в Заречье, а зеленый столб распухал невиданной клубящейся кроной, будто на нем вырастала злобная, нечистая гроза. Не надорские сходящиеся луны, не ожившие камни, нечто худшее, что не просто раздавит, погребет под толщами камня и воды, а исковеркает, извратит и затянет в зеленый пахнущий тленом мед, из которого уже поднялся усатый. Он проснулся, и останавливать его было некому. Кроме Циллы. Малышка не бежала, не пряталась, не плакала. Молча, набычившись, она глядела на проснувшегося, и тот больше не улыбался. Двое – девочка в рубашонке и возбужденный голый красавец, застыли друг против друга по щиколотку в зеленой погибели и стояли, пока камни не предали окончательно и Цилла не провалилась в ядовито-медовую топь, как проваливается в болото прельстившийся сочной травой теленок.
– Мамка! – Отчаянный крик разом убил и страх, и разум. Луиза рванулась к погибающей дочке, не разбирая пути. Может, она прыгнула с крыши, может, упала, может, слетела… Или это была не крыша, или вообще не было ничего, кроме зовущей мать малышки, живой ли, мертвой ли, но дочки, кровиночки, существа, за которое только и стоит умирать. И неважно, что станется с тобой, только б Цилла смеялась и плакала, только б она была. Луиза что-то отпихнула, что-то перескочила, упала, поднялась, вцепилась в заступившую путь снулую килеанью морду, та размазалась в кашицу, как сгнившие в вазе цветочные листья.
– Мама… – уже не кричало, хрипело где-то за зеленой струей, за спинами встающих один за другим дохлых кавалеров, – мамо… чка!
– Я тут! Тут!.. Я с тобой… Святая Октавия, кто-нибудь, помогите! Не дайте этим… Этому! Цилла, нет! Нет!!!
Часть вторая
«Десятка Мечей»[2]
Мы не можем быть уверены в том, что нам есть ради чего жить, пока мы не будем готовы отдать за это свою жизнь.
Эрнесто Гевара Линч де ла Серна
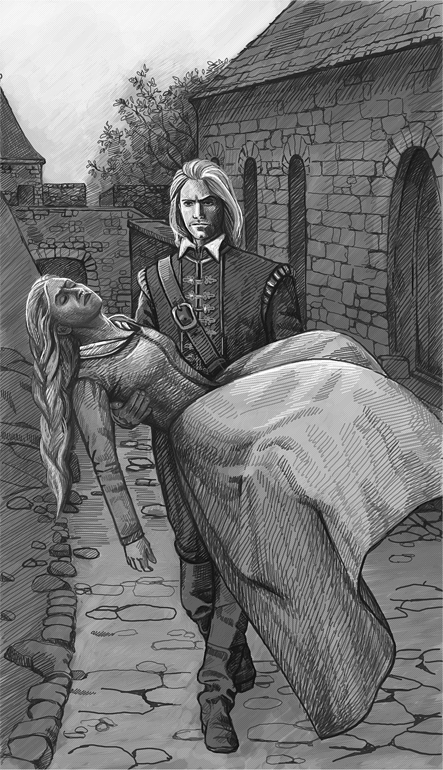
Глава 1
Талиг. Оллария
400 год К. С. 7-й день Летних Молний
1
Смерть Халлорана оказалась лишь началом, но Робера это не удивило, его вообще ничего больше не удивляло. Вечно сомневающийся человек куда-то делся, пропал, растворился во вдруг переставшем быть фальшивым Проэмперадоре. Эпинэ действовал, как заведенные кем-то куранты, бездумно и правильно. То есть он понимал, что прав, уже решив, сделав, приказав… Так он велел стрелять у Святой Денизы по очередным черноленточникам. Так он перебрался в городские казармы на Арсенальной, и туда сразу же стали стекаться известия, которые могли не добраться до дворца. Другое дело, что известия эти были, как бурчал Дювье, «надо б гаже, да некуда».
В центре с грехом пополам разгребали, зато забурлило в северных предместьях, у Поганого канала и на Кузнечных дворах. Одновременно и сильно. У «Поганки» городская стража справилась своими силами, к Кузнечным пришлось посылать подкрепления. Два десятка кавалеристов погнали коней грязными безлюдными улицами; поднялась и повисла в воздухе похожая на зеленоватый дым пыль. Эпинэ проводил ускакавших взглядом и впервые за несколько часов подумал о женщинах, за которых он отвечал, как любой посмевший отказаться от одиночества мужчина.
Графиня увезла Марианну в Ноху, графиня должна уехать… Первое передал побывавший у Капуль-Гизайлей южанин, о втором они с Левием договорились еще вчера. Что ж, будем надеяться на Арлетту и на церковников, потому что Проэмперадор не может отвлечься ни на минуту. Нет у него такого права. После лжи над телом Катари – нет.
– Монсеньор…
Снова гонцы, снова доклады о разгоне очередной толпы. В этот раз – на левом берегу, перед Узким мостом.
– Отлично, – холодно одобряет некто, засевший в душе. – Перекрыть мост намертво, потребуется – поджечь.
В центре с грехом пополам разгребали, зато забурлило в северных предместьях, у Поганого канала и на Кузнечных дворах. Одновременно и сильно. У «Поганки» городская стража справилась своими силами, к Кузнечным пришлось посылать подкрепления. Два десятка кавалеристов погнали коней грязными безлюдными улицами; поднялась и повисла в воздухе похожая на зеленоватый дым пыль. Эпинэ проводил ускакавших взглядом и впервые за несколько часов подумал о женщинах, за которых он отвечал, как любой посмевший отказаться от одиночества мужчина.
Графиня увезла Марианну в Ноху, графиня должна уехать… Первое передал побывавший у Капуль-Гизайлей южанин, о втором они с Левием договорились еще вчера. Что ж, будем надеяться на Арлетту и на церковников, потому что Проэмперадор не может отвлечься ни на минуту. Нет у него такого права. После лжи над телом Катари – нет.
– Монсеньор…
Снова гонцы, снова доклады о разгоне очередной толпы. В этот раз – на левом берегу, перед Узким мостом.
– Отлично, – холодно одобряет некто, засевший в душе. – Перекрыть мост намертво, потребуется – поджечь.
