Вячеслав Яковлевич Шишков
Смерть Тарелкина
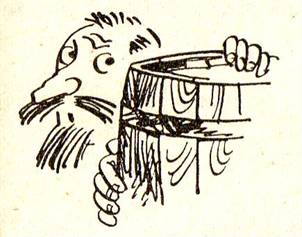
— К черту, — сказал сам себе Петр Иваныч Тарелкин, прикултыхав домой с трудповинности, и бросил в угол лопату. — Так больше жить нельзя. Это не жизнь, а каторга… Хуже! Это хождение преподобной Феодоры по мукам[1]. Хуже…
Он снял с правой ноги стоптанный сапожишко и осмотрел ступню: так и есть, большой палец посинел и вспух. Руки тоже поцарапаны, и рассечена бровь. Он размотал веревку, служившую ему поясом, швырнул ее под кровать, сорвал с плеч дырявую бабью кацавейку и долго шагал взад-вперед в одном сапоге, припадая на больную ногу.
— Ха, транспорт… Вози им песок из карьера, балласт… — бубнил он, тараща озлобленные мутные глаза. — А зимой дрова заготовляй на железку, для общественных портомоен проруби долби, окопы рой… Тьфу! Черт бы их драл.
Петр Иваныч остановился и так свирепо потряс кулаками, что рыжие длинные космы его заплясали по острым плечам. В эту минуту, взлохмаченный, дикий, грязный, он напоминал допившегося до чертиков дьякона.
В изнеможении он повалился на кровать и сердито запыхтел.
— И завтра, и послезавтра все то же, то же. Может быть, еще десять лет такую волынку тянуть придется… Это с больным-то сердцем.
Но настроение его вдруг резко изменилось: по испитому длинному лицу проползла улыбка, большой кадык на хрящеватом горле судорожно запрыгал, фиолетовый нос весь наморщился, засвистел и затрясся в смехе.
— Гениально! Гениально! — радостно воскликнул Петр Иваныч и ударил себя ладонью в лоб.
Отворилась дверь. Петр Иваныч поспешно придал лицу вид безвинно пострадавшей жертвы и закрыл глаза.
— Петруша! Да что ж ты, голубчик, развалился-то, — чуть гнусавя, сказала Фелицата Николаевна и стала разматывать с головы шаль, хотя бы рассаду полил, ведь завтра некогда, завтра ты назначен на заготовку шпал. Милицейский с бумажкой приходил.
— Не пойду, — равнодушно сказал Петр Иваныч и густо, но без всякого выражения сплюнул. — Я — бывший соборный регент, а не батрак. К черту!.. Я им больше не слуга… Арестант я, что ли?
Треугольное личико миниатюрной Фелицаты Николаевны побелело.
— Да, никак, ты рехнулся, Петруша! Да ведь по нынешним временам за это могут расстрелять!
— Как это меня могут расстрелять, раз я умру, — загробным голосом проговорил Петр Иваныч.
Жена испуганно задвигала бровями.
— Как, Петрушенька, умрешь?
— А очень просто: вот вытяну ноги и умру… Вон какие перебои в сердце.
Фелицата Николаевна уронила на пол шаль и криво опустилась на стул.
— Нет, довольно! — вскричал Петр Иваныч басом и так свирепо шевельнулся, что кровать заскрипела под ним, как коростель.
— Вместо того чтобы этак мучиться, Фелицата Николаевна, лучше раз навсегда покончить все расчеты с жизнью.
Обомлевшая женщина метнулась взглядом по широкому ножу, по веревке, по здоровенному крючку, где висела лампа «молния», и враз замелькали перед ней хрипящие призраки.
— Ты не имеешь права умирать!.. Ты не смеешь руку на себя накладывать! — И лицо ее перекосилось от ужаса.
«Очень любопытно, черт возьми», — едва сдерживая смех, подумал Петр Иваныч.
Но ему стало жаль жену, и он сказал:
— Дурочка… Фелицата Николаевна… Я ж пошутил. Я умру не по-настоящему. «Смерть Тарелкина»-то смотрели, пьесу-то, помнишь[2]? Недаром и фамилия у меня такая же — Тарелкин.
Фелицата Николаевна сидела с разинутым ртом и ничего не понимала.
На другой день она заявилась в отдел учета рабочей силы. От волнения лицо ее горело, руки тряслись, по груди и животу ходили волны робости.
Безусый заведующий поправил кепку и ткнул в яичную скорлупу окурок.
— Вам, гражданка, что?
Пишущие машинки трещали с ожесточением, очаровательная блондинка пудрила пуховкой нос и щеки.
— Извиняюсь, товарищ, — начала Фелицата Николаевна, потряхивая головой, задыхаясь. — Я пришла доложить, что мой муж, товарищ Тарелкин, и вчера не был на трудовой повинности, и сегодня не пойдет, да, может, совсем не будет ходить.
Юноша засопел, лицо его стало как уксус.
— Ха!.. Значит, с вашей стороны донос? Очень приятно… Садитесь, гражданка… Ваш адрес? Я сейчас пошлю арестовать его.
Машинки вдруг замолкли. Пуховка в очаровательной руке остановилась.
Фелицата Николаевна впилась руками в край стола.
— Что вы, товарищ!.. У него понос, холера у него. Он вот-вот умрет.
— Холера? — Брови молодого человека взлетели вверх. — Тогда его немедленно надо в заразные бараки. Грибами, что ли, объелся? Сейчас я позвоню. — И рука его потянулась к телефону.
— Ради бога! Не холера у него, извиняюсь. Я перепутала, просто я от неприятности вся трясусь. — Фелицата Николаевна окончательно потеряла нить мыслей. — Он нес дрова, упал и разбил себе голову… Теперь в беспамятстве, сорок два градуса жару.
Лицо юноши стало как горчица, потом — как игривый квас.
— Не упали ль вы сами, гражданка, на голову? — Губы его кривились в улыбке. — И что вам наконец от меня угодно?
Фелицата Николаевна беспомощно вытаращила глаза, как бы припоминая цель своего прихода.
— Товарищ! — вышла она из оцепенения. — Извиняюсь, товарищ, извиняюсь. Я пришла заявить, что мой муж, гражданин Тарелкин, извиняюсь, при смерти.
Она выходила на цыпочках и косолапо, барышни провожали ее улыбками, а когда скрылась, начальствующий юноша сказал кокетливым баском:
— Ненормальная дура.
Их городишко небольшой. Жили они во флигеле на одиноком пустынном огороде. Петр Иваныч было разделал пять гряд под картошку и всякую всячину, а тут, пожалуйте, шпалы. Ха! А не желаете ли вы фигу?!
Петр Иваныч на третий день благополучно умер.
Фелицата Николаевна, в черном платочке, двое суток без передыху бегала по всем надлежащим местам. Наконец все документы выправлены, и покойный гражданин Тарелкин был навсегда вычеркнут из списка живых.
Петр Иваныч целую неделю со всем усердием копался на огороде. Погода солнечная, все зазеленело. Скворец в скворешнике гоготал, словно молодой жеребчик, и заливался свистом, как ямщик на облучке.
Эх, как это прелестно, что Петр Иваныч умер! Для кого умер? Для них, а не для себя. Теперь знай работай. Кто из знакомых на такой пустырь придет? Полная гарантия. Отлично, гениально!
Как-то попала Петру Иванычу в руки старая газета. Прочел, и глаза его засверкали.
— Да ведь мы — чурбаны, колпаки! Мы прозевали изрядную выдачу… Не угодно ли: на саван столько-то аршин. На траур столько-то… Гроб из заготовительного склада; в случае отсутствия такового — выдается денежная себестоимость. Срок получения десятидневный. Боже мой, сегодня последний день!..
А Фелицата Николаевна, как на грех, уехала в деревню за мукой. Усопший Петр Иваныч немедленно составил подложную доверенность от лица жены на имя несуществующего двоюродного дяди, Антона Огурцова, нахлобучил шляпу грибом на самый кончик носа, отхватил ножницами половину бороды, нафабрил ее черным жениным фиксатуаром, отчего рыжая борода стала темно-зеленой, и под видом гражданина Огурцова, предвкушая большой барыш — недаром всю ночь вошь снилась, — корыстолюбиво зашагал по пыльной улице.
«Господи, как бы не влопаться», — с ноющим чувством подумал он.
Но когда поднялся в присутствие и внимательным взглядом окинул лица всех служащих, от сердца отлегло: ни одного знакомого человека.
Заявление его все инстанции прошло благополучно: двенадцать виз с росчерками и печатями так исполосовали все свободные места бумаги, что негде клюнуть курице, и вот, в конце занятий, когда служащие похватались за картузы, ему вручили ордер на получение, сказав:
— Бегите скорей вон к тому оконцу… Без двух минут четыре… Может, успеете.
Петр Иваныч совсем по-молодому, — даже приподнял темные, нарочно надетые очки, — подъехал, как на лыжах, к загородке и сунул в оконце ордер:
— Ради бога… Вот!..
Но его протянутую руку вдруг схватила за решеткой для дружеского пожатия неизвестная рука, и знакомый голос произнес:
— А, Петр Иваныч!.. Здравствуйте, милый человек.
И обе головы, одна перепуганно, другая любопытно,
так порывисто нырнули друг другу навстречу, что в самом оконце сильно стукнулись лбами и едва не поцеловались.
Петр Иваныч в страхе отпрянул, как от вставшей перед ним змеи, выдернул руку, волосы на его голове зашевелились, и, словно в тяжком сне, он прирос к месту.
Из оконца высунулась широколобая лысая голова с черными височками и не то подозрительно, не то приветливо осклабилась в самые очки усопшего.
— Однако что же это такое? Вы, должно быть, хворали, вас нельзя узнать, Петр Иваныч! А?
— Вы ошибаетесь… Я совсем не Петр Иваныч… Петр Иваныч Тарелкин помер… Вы ошибаетесь. Я — Антон Огурцов — дядя.
Но голова, очевидно, не слыхала. Она на мгновение поджала бритые сухие губы и вновь растеклась в улыбке, на этот раз определенно ядовитой.
Петр Иваныч словно окунулся в ледяную воду.
— Позвольте мне обратно ордер, — забормотал он. — Тут ошибка… Ради бога, ордер…
— Ордер? Он регистрируется… Сейчас, сейчас… Кто ж у вас умер, Петр Иваныч? Уж не супруга ли?
Голова унырнула за решетку и близоруко стала водить по ордеру острым носом. Вдруг рот головы вытянулся ижицей, брови заскакали по лбу вниз и вверх, уши и черные зачесы на височках задвигались.
— Гм!.. — зловеще сказала голова, щелкнула кистью руки по ордеру и, как торпеда, выбросилась в оконце. — Гражданин Тарелкин!..
Но на том месте, где стоял Петр Иваныч, была совершеннейшая пустота.
Вечер. Покойник с собственной вдовой, только что вернувшейся из деревни, пили морковный чай. На покойнике лица нет, руки его тряслись. Не переставая, он курил махру.
— Чует мое сердце, что облава нагрянет, арестуют, — говорил он. — И откуда этот бритый дьявол взялся? Ведь он же в отъезде был. Бывший кабатчик, в коммунисты записался, перевертень, черт. Такие самые злобные. Боюсь я… И надо ж было так влопаться… Тьфу!
— Придется, Петенька, завтра же в деревню тебе бежать… Ох, хоть бы ноченьку-то переночевать благополучно!
— Я так полагаю, надо обриться мне…
Вдруг раздался стук в дверь.
Оба вздрогнули и открыли рты. Занавески на окнах спущены, горела лампа.
— Скорей в подполье!.. Пропал я, пропал… — зашипел покойник. Сердце его стучало, и громко стучали в дверь.
Мигом спустились в подполье; Петр Иваныч залез в мешок и сел в угол,
— Заслони меня чем-нибудь… Вот ящиком… Вот еще мешком с углями…
Вдова вылезла, закрыла люк и, придав лицу скорбное выражение, вся оледеневшая, открыла дверь.
— А-а, — протянула она и сразу обозлилась. — Ульяна Сидоровна!.. И откуда это вы приперлись?
— А уж я думала, тебя зарезал кто, — пробасила, вваливаясь, рыхлая женщина. Дряблое лицо ее жирно и красно, белый чепец на голове взмок, под мышкой огромный веник, в руке чемодан. Она закрестилась на иконы. — Фу-у-у!.. А я из бани к тебе… Дай, думаю, навещу вдовуху, божью сироту. Почитай, с полден пошла, да ишь как… Очередь с версту… Тьфу ты! Что и за жизнь — и когда эти большевичишки сквозь землю-то провалятся…
Женщина грузно шлепнулась на кресло и вытерла рукавом салопа потное свое лицо.
— А с кем же ты чай-то пила? Две чашки-то за чем?.. А табачищем-то как разит. Дым как на пожаре. Неужто куришь?
— Курю, — сказала вдова, и уши ее покраснели. — После покойника осьмушечка осталась… С горя.
— Фу-фу… Да. Посетил господь. С чего это он? Вот те и Петр Иваныч!. Царство ему небесное… Э-эх!.. Ну-ка, налей чайку.
— Извиняюсь, — растерянно и не без раздражения на чала вдова. Зубы ее выбивали дробь. — Извиняюсь, Ульяна Сидоровна… Я вас никак не могу угостить чаем… Пожалуйте в другой раз, Ульяна Сидоровна.
— Почему это не можешь? — гостья сдернула мокрый чепец, бросила его на стол, и заплывшие жиром красненькие, безбровые глазки ее засверкали.
— Я сейчас спать лягу, Ульяна Сидоровна… Я должна завтра чем свет встать, чтоб к заутрени на кладбище попасть, Ульяна Сидоровна, на панихидку…
— Чудесно, — перебила гостья, — я у тебя ночую. И я с тобой на панихидку пойду.
Хозяйка вся затряслась от злобы. Подбородок ее подался вперед.
— Нет, нет, это невозможно, Ульяна Сидоровна!
— Я пятьдесят пять лет Ульяна Сидоровна! Ошалела, что ли, ты… Как это невозможно? — и стала цедить из чайника в чашку. — Я вот на кушетке и прикорну… Не бойся, не объем, у меня кой-что захвачено… Ой, и пить захотелось, прямо душа горит.
Гостья, кряхтя, нагнулась под стол, вытащила из чемоданчика мочалку с мылом, потом грязное белье, бутылку самогонки, два яйца, завернутую в тряпицу селедку и краюху хлеба.
— Эх, хорошо бы еще луковку.
А в это время покойник прогрыз в мешке дыру и жадно прильнул к ней волосатым, как овчинная рукавица, ухом.
— Погиб… погиб…
Но заскрипел люк, опрокинулся вниз сноп света и перед покойником кто-то задышал.
— Петруша…
Из дыры на мгновенье блеснул колючий глаз, на смену ему подъехал рот.
— Кто? Облава? — прошипел рот и тотчас же уступил место уху.
Раздался чей-то голос и скрип ступеней. Ухо, глаз, рот упали вниз, покойник весь съежился, вминаясь в угол, и перестал дышать.
— И куда вы лезете?! Куда лезете!.. — раздраженно бросала хозяйка. Но покойник не мог разобрать слов. — Не сидится вверху-то вам!..
Все смолкло.
Ухо, потом глаз подъехали к дыре: тишина и темень.
Петр Иваныч облегченно передохнул, перекрестился: «Кажись, ушли», — и его забила такая сильная дрожь, что мешок подскакивал и мотался во все стороны.
Прошел битый час. Что за оказия, почему не приходит жена, уже не арестовали ль ее? Петр Иваныч вылез из мешка и, расшарашив во тьме руки, тыкался в покрытые плесенью углы.
Он взобрался на лесенку и приник глазом к светлой щели люка. В поле зрения заблестел самовар, чашки, чьи-то толстые красные руки. Ба! Да ведь это бабка Ульяна. И самогонка. Разве войти да покаяться? А вдруг облава, и ежели при бабке сесть в мешок, обязательно выдаст. Нет, надо ждать.
— Пей, — говорит старуха, придвинув чашку хозяйке.
— Не много ли будет, — отвечает та хмельным голосом, — с непривычки-то. Уж очень крепок самогон-то…
— За упокой души… Хоть и не стоит он того… Ну, превечный ему покой, — говорит старуха и пьет.
Петр Иваныч сплюнул и прошипел:
— Чтоб те самой сдохнуть без покаяния!
— А ты не хнычь, — говорит старуха. — Слава богу, что и помер-то. Пьяница, царство ему небесное, был…
— Нет, извиняюсь, он хороший, — возражает вдова и пьет.
— Хороший? Первый поножовщик был покойничек… Первый пьяница. Все певчие пьяницы. Я сызмальства знаю его. Подзаборник, кабацкая затычка, не тем будь помянут…
Петр Иваныч стиснул зубы и сжал кулак.
«Ну и чертова старушка!» — подумал он. Глаза его горели ненавистью, душа горела жаждой выпить. Взор его был зорок и хищен, как у ястреба.
— Он мне, каторжная душа, семь с полтиной золотом остался должен. Ха, тоже муженек!.. Уж раз подох, превечный спокой его головушке, то скажу тебе, сирота. Как-то говорит мне пьяненький: «Ох, говорит, Ульяна Сидоровна! Жена, говорит, мне наскучила, подыщи ты мне вальяжную даму из купеческого или епархиального сословия».
Петр Иваныч ударился теменем в крышку люка и проскорготал:
«Ну, только бы революция окончилась, я тебя, дьявольскую старушку, изувечу».
Хозяйка прижала к глазам платок и горько заплакала. Старуха потянулась к бутылке.
«Ах, выжрет все», — с жадностью подумал усопший. Но старуха, налив две чашки, отставила порожнюю бутылку и вытащила из чемодана другую.
— Давайте скорей ложиться спать, — сквозь слезы сказала хозяйка.
Петр Иваныч замерз, запрокинутая голова его кружилась, затекла спина. И ужасно хотелось выпить самогону. Ну, положеньице! Черт его сунул умереть! Сидя на ступеньке под самым потолком, он засунул руки в рукава, клюнул раз-другой носом, задремал.
А когда открыл глаза, было тихо. Покойник приподнял крышку люка. Тишина, горит лампадка. Он просунул в комнату свою рыжую встрепанную голову и осторожно закорючил ногу, чтоб выбраться наверх.
Но вдруг душераздирающий визг хлестнул его колом. С хриплым лаем, визгом, криком мимо него толстобоко протряслась старуха.
И все сорвалось с мест и понеслось: стол, самовар, окошки…
Старуха мчалась среди лунной ночи вскачь, за ней — мертвец. Старуха ухнула, упала. С маху на нее упал мертвец.
— Ульяна Сидоровна! Душечка!.. Это я, Тарелкин… Самогону, дайте самогону!..
Старуха рявкнула и заорала, и с нею заорал весь свет. Покойник ткнул кулаком в пьяную старушью пасть.
— Ульяна Сидоровна!.. Ангел.. — и сгреб старуху за глотку.
Старуха вскинула к небу толстые ноги, вытянулась вся и захрипела.
«Бежать… Скорей…»
Мертвец метнулся и — по воздуху, как птица. И вслед свистки, ругань, крики:
— Держи, держи!..
Все опрокинулось и завертелось: капуста, гряды, глазастый месяц, орущая толпа людей — и красный конь пронесся с хохотом.
Петр Иваныч в сенцах. Схватил тяжелый топор-колун и притаился: пропадать так пропадать.
И первому — раз по голове, другому — раз… Свалили, вяжут.
— Ребята, к стене его!
— Как, без суда?
— Без суда… Он мертвый… Морды, морды, морды, тыща ружей в грудь.
— Пли!! — залп.
С треском обломилась гнилая ступенька, на которой кошмарно спал Петр Иваныч, он кувырнулся в пустой, из-под капусты, чан, враз проснулся и от страшного испуга по-настоящему, мгновенно умер.
1923
