Леонид Соловьев
Новый дом
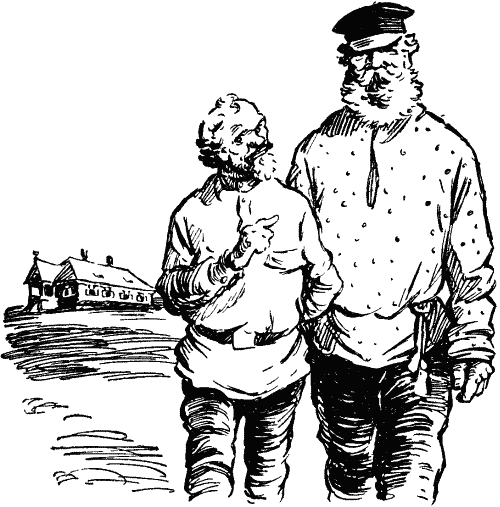
1
О себе Кузьма Андреевич Севастьянов говорил так:
– На это я, мил-человек, любитель старинное сказывать. Я ее, старину-то, насквозь помню. Удивительное дело, мил-человек, годов мне все более, тело грузное, а память светлее. Я через свое умение пятерку заработал. Давно это было – лет десять. Приехал к нам эдак же один из города, заночевал у меня в избе. «Хозяин, – говорит, – ты, наверное, видел много, скажи, – говорит, – мне про старое». Я ему, конечно, всю ночь сказывал, а он – в книжечку. Да все пишет с успехом, а поспеть все одно не может. Прощаемся утром. «Спасибо тебе, Кузьма Андреев. На-ка, – говорит, – выпей за мое здоровье». Я жду, конечно, полтинник, и тому рад, а он – пятерку! Легкие, видно, были у него деньги…
Рассказывал Кузьма Андреевич хорошо, нараспев, мудрыми и светлыми словами. Забудется, закроет глаза и слушает сам себя как будто издалека.
Нового человека Кузьма Андреевич ни за что, бывало, не пропустит. Два дня будет ходить вокруг да около, выберет все-таки время и расскажет о старине. Очень уж поговорить любил. Оно и неудивительно, потому что никакой другой утехи в своей жизни Кузьма Андреевич не имел.
Был он широк в кости, здоров и на работу лютый, а прожил весь долгий век в покосившейся избенке; черные прогнившие доски крыльца давно уж покрылись мохом, на крыше выросла травка и даже большой куст лебеды. Стены избенки поддерживались хитроумным переплетом подпорок и кольев – вышиби две подпорки – и готово: завалилась избенка.
Еще в молодые годы мечтал Кузьма Андреевич поставить новый дом, да так и не собрался с деньгами. Всю жизнь он маялся то без лошади, то без коровы. Разве построишься?
Мечта о новом доме горечью осела на его сердце; если теперь приходилось увидеть где-нибудь проездом белый сруб, синеватый в отесинах, и сизые крылья мужицких топоров вкруг него – на целый день терял Кузьма Андреевич благодушие.
– На это я, мил-человек, любитель старинное сказывать. Я ее, старину-то, насквозь помню. Удивительное дело, мил-человек, годов мне все более, тело грузное, а память светлее. Я через свое умение пятерку заработал. Давно это было – лет десять. Приехал к нам эдак же один из города, заночевал у меня в избе. «Хозяин, – говорит, – ты, наверное, видел много, скажи, – говорит, – мне про старое». Я ему, конечно, всю ночь сказывал, а он – в книжечку. Да все пишет с успехом, а поспеть все одно не может. Прощаемся утром. «Спасибо тебе, Кузьма Андреев. На-ка, – говорит, – выпей за мое здоровье». Я жду, конечно, полтинник, и тому рад, а он – пятерку! Легкие, видно, были у него деньги…
Рассказывал Кузьма Андреевич хорошо, нараспев, мудрыми и светлыми словами. Забудется, закроет глаза и слушает сам себя как будто издалека.
Нового человека Кузьма Андреевич ни за что, бывало, не пропустит. Два дня будет ходить вокруг да около, выберет все-таки время и расскажет о старине. Очень уж поговорить любил. Оно и неудивительно, потому что никакой другой утехи в своей жизни Кузьма Андреевич не имел.
Был он широк в кости, здоров и на работу лютый, а прожил весь долгий век в покосившейся избенке; черные прогнившие доски крыльца давно уж покрылись мохом, на крыше выросла травка и даже большой куст лебеды. Стены избенки поддерживались хитроумным переплетом подпорок и кольев – вышиби две подпорки – и готово: завалилась избенка.
Еще в молодые годы мечтал Кузьма Андреевич поставить новый дом, да так и не собрался с деньгами. Всю жизнь он маялся то без лошади, то без коровы. Разве построишься?
Мечта о новом доме горечью осела на его сердце; если теперь приходилось увидеть где-нибудь проездом белый сруб, синеватый в отесинах, и сизые крылья мужицких топоров вкруг него – на целый день терял Кузьма Андреевич благодушие.
2
Однажды весенней ночью Кузьма Андреевич вышел на колхозные огороды, что примыкали к задней, глухой стене его избенки.
Ровный голубой свет заливал деревню, плыли облака; по крышам, по дороге и дальше, на полях, стлались дымные легкие тени и, добежав до оврага, исчезали, точно сваливались в него.
В голубом тумане дрожит тонкая комариная струна, роса блестит на траве, на кленовых лапчатых листьях, где-то далеко-далеко, словно за тридевять земель, сипло надрывается обезголосевший пес. Кричат лягушки в пруду – выгоняют месяц, что залез непрошеным гостем и разлегся в глубине на мягких зеленых водорослях.
Кузьма Андреевич осмотрелся. Никого… Подошел к стене, вышиб одну подпорку, другую. Бревна сразу осели; с крыши посыпалась слежавшаяся в землю солома.
Совершив это странное дело, Кузьма Андреевич вернулся в избу.
– Вышиб, – сообщил он старухе. – Завтра к полудню завалится. Дольше не выстоит.
– Ох, Кузьма! А не завалится она, часом, ночью? Придавит!
– Бог милослив, – сказал он, снимая сапоги. – Только, старуха, молчок! Завалилась и завалилась. От старости, мол, нам ровесница.
Когда в избенке потух огонек, совершилось второе странное дело.
Из-за плетня появился человек – маленький, с бороденкой хвостиком, в облезшем собачьем малахае, поставил на место колья, подумал, сходил куда-то, вернулся с толстой березовой жердью и подпер стену еще с правого угла.
– Врешь, Кузьма! – злорадно прошептал он. – Не завалится твоя избенка! Уберегу я твою избенку!
Проснулся Кузьма Андреевич рано. Кричал петух на дворе, красная заря светила в окно.
– Ну, вот и не придавило. Пойтить поглядеть. К полудню, чай, обязательно завалится.
В дверях он обернулся.
– Я на работу уйду. И тебе, старуха, уйтить бы. А как завалится, бежи, кричи. Да чтобы слезу видали.
– Ох, Кузьма! Не умею я со слезой.
– Дура! Потри глаза луком. Луковицу-то положь в карман.
Он вышел – и остолбенел. Пальцы сами сложились для крестного знамения. Особенно поразила его новая жердь, дымящаяся под ветром белыми прозрачными завитками.
– Что же ты спишь как бревно! – угрюмо сказал он старухе. – Ничего не слышишь.
– Ох, Кузьма!..
– Вот тебе и Кузьма! Подкузьмили!
На следующую ночь он решил обмануть врага и отодвинул подпорки так, что с виду они как будто поддерживали стену, а в действительности торчали зря – нижние концы не имели упора.
К утру появился упор – здоровенные осиновые колья.
А когда вышел Кузьма Андреевич на дорогу и оглянулся, то чуть не упал. Рамы были окрашены синим, а наличники – желтым. Избенка выглядела нарядной, хоть куда!
Кузьма Андреевич схватил косырь и мгновенно соскреб всю краску. Она была еще сырая и липла к пальцам. Потом Кузьма Андреевич принес из лужи полную лопату грязи, заляпал стену и окна. Избенка сразу посерела и осунулась.
Ровный голубой свет заливал деревню, плыли облака; по крышам, по дороге и дальше, на полях, стлались дымные легкие тени и, добежав до оврага, исчезали, точно сваливались в него.
В голубом тумане дрожит тонкая комариная струна, роса блестит на траве, на кленовых лапчатых листьях, где-то далеко-далеко, словно за тридевять земель, сипло надрывается обезголосевший пес. Кричат лягушки в пруду – выгоняют месяц, что залез непрошеным гостем и разлегся в глубине на мягких зеленых водорослях.
Кузьма Андреевич осмотрелся. Никого… Подошел к стене, вышиб одну подпорку, другую. Бревна сразу осели; с крыши посыпалась слежавшаяся в землю солома.
Совершив это странное дело, Кузьма Андреевич вернулся в избу.
– Вышиб, – сообщил он старухе. – Завтра к полудню завалится. Дольше не выстоит.
– Ох, Кузьма! А не завалится она, часом, ночью? Придавит!
– Бог милослив, – сказал он, снимая сапоги. – Только, старуха, молчок! Завалилась и завалилась. От старости, мол, нам ровесница.
Когда в избенке потух огонек, совершилось второе странное дело.
Из-за плетня появился человек – маленький, с бороденкой хвостиком, в облезшем собачьем малахае, поставил на место колья, подумал, сходил куда-то, вернулся с толстой березовой жердью и подпер стену еще с правого угла.
– Врешь, Кузьма! – злорадно прошептал он. – Не завалится твоя избенка! Уберегу я твою избенку!
Проснулся Кузьма Андреевич рано. Кричал петух на дворе, красная заря светила в окно.
– Ну, вот и не придавило. Пойтить поглядеть. К полудню, чай, обязательно завалится.
В дверях он обернулся.
– Я на работу уйду. И тебе, старуха, уйтить бы. А как завалится, бежи, кричи. Да чтобы слезу видали.
– Ох, Кузьма! Не умею я со слезой.
– Дура! Потри глаза луком. Луковицу-то положь в карман.
Он вышел – и остолбенел. Пальцы сами сложились для крестного знамения. Особенно поразила его новая жердь, дымящаяся под ветром белыми прозрачными завитками.
– Что же ты спишь как бревно! – угрюмо сказал он старухе. – Ничего не слышишь.
– Ох, Кузьма!..
– Вот тебе и Кузьма! Подкузьмили!
На следующую ночь он решил обмануть врага и отодвинул подпорки так, что с виду они как будто поддерживали стену, а в действительности торчали зря – нижние концы не имели упора.
К утру появился упор – здоровенные осиновые колья.
А когда вышел Кузьма Андреевич на дорогу и оглянулся, то чуть не упал. Рамы были окрашены синим, а наличники – желтым. Избенка выглядела нарядной, хоть куда!
Кузьма Андреевич схватил косырь и мгновенно соскреб всю краску. Она была еще сырая и липла к пальцам. Потом Кузьма Андреевич принес из лужи полную лопату грязи, заляпал стену и окна. Избенка сразу посерела и осунулась.
3
Странным ночным событиям предшествовало выселение кулака Хрулина. Недели через две после его отъезда прошел дождь, и тогда обнаружилось, что железная крыша кулацкого дома вся порублена топором.
С этого и началась великая душевная смута Кузьмы Андреевича.
Как-то вечером он залез на хрулинскую крышу посмотреть прорубины. Они были длинными, глубоко вдавленными с того конца, где топор ударял углом; краска потрескалась и облупилась. «До чего мужик вредный!» – подумал Кузьма Андреевич с искренней обидой на кулака.
Он ходил, внимательно приглядываясь и соображая, можно ли поднять края прорубин и залепить швы замазкой. Он так увлекся планами ремонта крыши, что даже забыл о ноющей, сверлящей зубной боли. Правую щеку разнесло, физиономия походила на кособокий арбуз.
Кузьма Андреевич направился к лестнице. В это время над обрезом крыши появилась голова в собачьем малахае, с ехидной бороденкой хвостиком. Это был Тимофей Пронин, прозванный в деревне за острый, злой язык и поперечный нрав «Скорпионом».
Оба смутились и немного испугались.
Первым опомнился Тимофей.
– Ага…
– Угм, – в тон ему ответил Кузьма Андреевич.
– Та-ак, – протянул Тимофей, занося на крышу ногу в расхлябанном ржавом сапоге.
– Эдак.
– Оно, конечно…
– Ну что?..
– Да вот порубил, окаянный!
Тимофей пошел исследовать крышу. Кузьма Андреевич ревниво следил за ним, и все ему казалось, что Тимофей шагает слишком тяжело и еще больше разворачивает прорубины.
– Чтой ты, Кузьма, в птичье сословье записался? – сказал Тимофей. – Эк тебе, милый, рожу-то перекосило. Ай ночью лазил на крышу да загремел отсюдова?
Кузьма Андреевич, неловко оттопыривая зад, спустился с лестницы и ушел, поддерживая ладонью вздутую щеку.
Он шел будто бы к своей избенке, а когда хрулинский дом скрылся за деревьями, свернул и быстро зашагал в правление колхоза.
– Здравствуй, Гаврила Степанов!
Председатель поднял стриженную лестницей голову. На столе перед ним лежала толстая тетрадь в клеенчатой обложке. В последние месяцы он не расставался с ней, что-то записывал, высчитывал, чертил, но никому не показывал.
– Эх, – вздохнул председатель, жесткие короткие волосы скрипнули под его загрубевшей ладонью. – Эх, темнота наша! Сбежал счетовод, дезертир колхозного фронта, щучий сын! Не хотят жить счетоводы в деревне, театров им здесь нет! Что тебе спонадобилось, Кузьма Андреевич?
– Да вроде бы ничего. Проведать зашел. Как оно, здоровьишко-то?
– Да ничего.
– А я все зубами мучаюсь.
– Ишь ты, – равнодушно сказал председатель, продолжая писать.
По его небритой щеке, отливающей медью, ползла большая муха. Скривившись, он дул, пытаясь согнать ее.
– Собрание-то когда? – спросил Кузьма Андреевич, зажмуриваясь от нестерпимой боли.
– А что?
– Надо бы… Всякое там. Вопросы.
Помолчав, Кузьма Андреевич осторожно добавил:
– Крыша опять же…
– Какая еще крыша?
– А на хрулинском доме. Порубил ее Хрулин…
– Так что?
– Чинить, мол, нужно.
– Кого вселим, тот пусть и чинит.
Колени Кузьмы Андреевича дрогнули. Он ответил не сразу, чтобы не выдать волнения:
– То-то… Пусть уж новый хозяин чинит.
– Безусловно.
– Вот и я эдак же говорю мужикам, что безусловно, – ответил Кузьма Андреевич, с видом величайшего безразличия разглядывая потолок. – Опять же – кого вселять?
– На собрании обсудим.
– Во, во!.. Я эдак же говорю, – на обсуждение, мол, надо. Кто, значит, беднейший.
– Беднейший, в работе наилучший, у кого жилье плохое, – сказал председатель.
Муха слетела с его щеки, пересекла – золотая – солнечный столб, угодила с размаху в паутину и забилась с тонким, звенящим зудением.
В окно, загораживая солнце, всунулся малахай Тимофея.
– Гаврила, – обратился он к председателю, – хрулинску-то крышу будем чинить?
– Вы что, сбесились с этой крышей! – закричал председатель и сердито швырнул ручку. – Спокою нет мне от вас!
Тимофей заметил Кузьму Андреевича. Ехидная бороденка Тимофея дрогнула.
– Чтой ты, Кузьма, ровно заячьи ноги заимел. Везде вперед поспеваешь.
С этого и началась великая душевная смута Кузьмы Андреевича.
Как-то вечером он залез на хрулинскую крышу посмотреть прорубины. Они были длинными, глубоко вдавленными с того конца, где топор ударял углом; краска потрескалась и облупилась. «До чего мужик вредный!» – подумал Кузьма Андреевич с искренней обидой на кулака.
Он ходил, внимательно приглядываясь и соображая, можно ли поднять края прорубин и залепить швы замазкой. Он так увлекся планами ремонта крыши, что даже забыл о ноющей, сверлящей зубной боли. Правую щеку разнесло, физиономия походила на кособокий арбуз.
Кузьма Андреевич направился к лестнице. В это время над обрезом крыши появилась голова в собачьем малахае, с ехидной бороденкой хвостиком. Это был Тимофей Пронин, прозванный в деревне за острый, злой язык и поперечный нрав «Скорпионом».
Оба смутились и немного испугались.
Первым опомнился Тимофей.
– Ага…
– Угм, – в тон ему ответил Кузьма Андреевич.
– Та-ак, – протянул Тимофей, занося на крышу ногу в расхлябанном ржавом сапоге.
– Эдак.
– Оно, конечно…
– Ну что?..
– Да вот порубил, окаянный!
Тимофей пошел исследовать крышу. Кузьма Андреевич ревниво следил за ним, и все ему казалось, что Тимофей шагает слишком тяжело и еще больше разворачивает прорубины.
– Чтой ты, Кузьма, в птичье сословье записался? – сказал Тимофей. – Эк тебе, милый, рожу-то перекосило. Ай ночью лазил на крышу да загремел отсюдова?
Кузьма Андреевич, неловко оттопыривая зад, спустился с лестницы и ушел, поддерживая ладонью вздутую щеку.
Он шел будто бы к своей избенке, а когда хрулинский дом скрылся за деревьями, свернул и быстро зашагал в правление колхоза.
– Здравствуй, Гаврила Степанов!
Председатель поднял стриженную лестницей голову. На столе перед ним лежала толстая тетрадь в клеенчатой обложке. В последние месяцы он не расставался с ней, что-то записывал, высчитывал, чертил, но никому не показывал.
– Эх, – вздохнул председатель, жесткие короткие волосы скрипнули под его загрубевшей ладонью. – Эх, темнота наша! Сбежал счетовод, дезертир колхозного фронта, щучий сын! Не хотят жить счетоводы в деревне, театров им здесь нет! Что тебе спонадобилось, Кузьма Андреевич?
– Да вроде бы ничего. Проведать зашел. Как оно, здоровьишко-то?
– Да ничего.
– А я все зубами мучаюсь.
– Ишь ты, – равнодушно сказал председатель, продолжая писать.
По его небритой щеке, отливающей медью, ползла большая муха. Скривившись, он дул, пытаясь согнать ее.
– Собрание-то когда? – спросил Кузьма Андреевич, зажмуриваясь от нестерпимой боли.
– А что?
– Надо бы… Всякое там. Вопросы.
Помолчав, Кузьма Андреевич осторожно добавил:
– Крыша опять же…
– Какая еще крыша?
– А на хрулинском доме. Порубил ее Хрулин…
– Так что?
– Чинить, мол, нужно.
– Кого вселим, тот пусть и чинит.
Колени Кузьмы Андреевича дрогнули. Он ответил не сразу, чтобы не выдать волнения:
– То-то… Пусть уж новый хозяин чинит.
– Безусловно.
– Вот и я эдак же говорю мужикам, что безусловно, – ответил Кузьма Андреевич, с видом величайшего безразличия разглядывая потолок. – Опять же – кого вселять?
– На собрании обсудим.
– Во, во!.. Я эдак же говорю, – на обсуждение, мол, надо. Кто, значит, беднейший.
– Беднейший, в работе наилучший, у кого жилье плохое, – сказал председатель.
Муха слетела с его щеки, пересекла – золотая – солнечный столб, угодила с размаху в паутину и забилась с тонким, звенящим зудением.
В окно, загораживая солнце, всунулся малахай Тимофея.
– Гаврила, – обратился он к председателю, – хрулинску-то крышу будем чинить?
– Вы что, сбесились с этой крышей! – закричал председатель и сердито швырнул ручку. – Спокою нет мне от вас!
Тимофей заметил Кузьму Андреевича. Ехидная бороденка Тимофея дрогнула.
– Чтой ты, Кузьма, ровно заячьи ноги заимел. Везде вперед поспеваешь.
4
– Тимофей цепляется, – сообщил Кузьма Андреевич старухе.
Зуб расходился все злее. Правая сторона лица отнялась целиком.
– Сходи к Кириллу, – сказала старуха. – Отдай ему рубль, хапуге. Третью ночь не спишь.
Но Кузьме Андреевичу было жалко рубля. Старуха прогнала его почти силой. Он спустился по огородам. Внизу, прислонившись к ветлам, стояла хибарка Кирилла, вечерняя тень накрывала ее.
Кузьма Андреевич постучал.
– Войди с богом, – ответил старческий голос.
Кирилл – божий человек, местный молельщик и знахарь, сидел на скамейке под образами. Костным лоском отблескивал его желтый сухой череп, по затылку бежала, точно привязанная к ушам, тонкая седая кайма.
Он улыбнулся, сощурил бледные глаза, и все обличье его стало благостным, как икона.
– А я все молюсь, – радостно сообщил он. – Я все молюсь. Садись, золотой, помолимся вместе.
– Зуб вот, – мрачно ответил Кузьма Андреевич.
Кирилл сочувственно заохал и проворно достал с божницы темный пузырек.
– Из Ерусалима, – шепотом сказал он крестясь, – из самого Ерусалима!
Он отлил несколько капель в другой пузырек, поменьше, и подал Кузьме Андреевичу.
– Монашек принес один. Давай три рубля.
Они торговались долго. Наконец знахарь скинул рублевку.
Кузьма Андреевич тут же вылил содержимое пузырька в рот и, глухо замычав, пошатнулся. От холодной воды зуб рвануло, в глазах, как выстрел, мелькнули красные жала.
…Зуб болел еще четыре дня. Наконец опухоль прошла. Мысли Кузьмы Андреевича прояснились.
Его извечная мечта была теперь доступной и совсем близкой.
Вот он стоит на пригорке, новый хрулинский дом, на кирпичном фундаменте, под железной крышей, с красными разводами на ставнях. Он овеян влажным зеленым дымом весенних берез, над ним в бледном небе кучатся взбитые облака, и так четко виден на их белизне железный петушок – флюгер. Кузьма Андреевич хорошо знал всю историю этого дома – он был сложен из самых лучших сосновых бревен, полы настелены в два ряда, дубовые балки, раскорячившись, держат потолочные перекрытия.
Когда у Хрулина не хватило денег на покупку железа для крыши, он потребовал с Кузьмы Андреевича старый долг. Пришлось отвести на базар корову и тройку овец. Теперь Кузьме Андреевичу казалось, что он, больше всех претерпевший от Хрулина, имеет самые неоспоримые права на этот дом. Но Тимофей Пронин думал, очевидно, иначе и не скрывал своих намерений справить в ближайшие дни новоселье.
«Не поддамся!» – думал Кузьма Андреевич. Для начала он решил перегнать в работе всех колхозникоз. Возили жерди крыть скотный двор и сараи. Кузьма Андреевич трудился до поздней ночи. В три дня Кузьма Андреевич наворотил огромное штабелище жердей. И хотя Скорпион воровал у него жерди целыми десятками, все признали Кузьму Андреевича первым ударником. Он окончательно утвердился в этом звании после ремонта силосной башни. В ней проступила вода, прошлогодний силос испортился, и нельзя было заготовлять новый. Раскинув мозгами, Кузьма Андреевич прокопал переплет канавок и отвел воду.
– Голова! – значительно сказали мужики, а председатель, для которого силосная башня имела, помимо практического значения, еще и символическое – как первый законченный объект его плана, изложенного в клеенчатой тетради, – записал Кузьме Андреевичу за этот подвиг сразу восемь трудодней.
Чтобы выбить из рук Тимофея последний козырь, Кузьма Андреевич решил сделать свою избенку наихудшей в деревне, просто-напросто завалить ее. Но злоехидный Тимофей проник в его мысли и зорко оберегал избенку, каждую ночь проверял подпорки, забивал колья и даже выкрасил оконные рамы. Он хотел выкрасить весь фасад, но в его запасах, хранившихся еще с тех пор, когда ходил он на заработки по малярному делу, не нашлось охры, почему этот план и не был приведен в исполнение.
Так и не удалось завалить избенку, хотя Кузьма Андреевич прибегал к разным хитростям.
На собрании сидел он красный и гордый. Председатель долго перечислял его заслуги. Стенгазета, составленная комсомольцами, восхваляла Кузьму Андреевича и в прозе и в стихах. Заслуги были так велики и неоспоримы, что мужики заранее поздравляли его с новосельем.
– Предлагаю, – сказал председатель (Кузьма Андреевич замер, скамейка будто качнулась под ним), – предлагаю ввести товарища Севастьянова в правление.
– Давай! – загудели мужики и выбрали Кузьму Андреевича единогласно.
– Следующий вопрос – о хрулинском доме, – начал председатель, роясь в своей засаленной лохматой папке.
Собрание притихло; через головы мужиков тянул сизый махорочный дым.
Мечты Кузьмы Андреевича рухнули. Председатель сказал, что районный исполком, заслушав его доклад и учитывая, с одной стороны, успехи колхоза в посевной кампании, а с другой стороны – отдаленность больницы, постановил открыть в колхозе амбулаторию, использовав для этого хрулинский дом.
Мужики захлопали в ладоши. Собрание окончилось.
Тимофей сказал:
– Вот и зря горб мозолил.
– А тебе спасибо, – язвительно ответил Кузьма Андреевич. – Поклон тебе низкий: поддержал ты мою избенку.
– Для хорошего человека почему не постараться? Подпорку-то возверни березову.
– Это моя подпорка.
– Как твоя?
– Эдак, – злорадно ответил Кузьма Андреевич. – Раз у моей избы, значит моя!
И ушел.
– Обождь, обождь! – кричал ему вслед Тимофей. – Моя жердь!
Возвращался Кузьма Андреевич окольной дорогой, мимо хрулинского дома. На окнах и на двери белели тесовые перекресты.
Кузьма Андреевич сердито подумал: «Эх, жизня! Верно, так и помрем в хибарке!»
Около избы его поджидала старуха.
– Кузьма, погоди!
Щекоча его бороду своим теплым дыханием, она прошептала:
– Я тут без тебя завалила стенку-то. Бревном подворотила. Ежели, мол, придут с собрания поглядеть…
Ночью подул ветер, избенку продувало насквозь. Глухо гудели корявые вербы, мешали Кузьме Андреевичу спать.
Утром он принялся за ремонт избенки. Сеялся тонкий дождь. В мягком его тумане расплывались очертания дальних сараев. Лес сразу отступил на полверсты.
Смущенная старуха говорила:
– Все хотела как лучше…
Кузьма Андреевич только покряхтывал, ворочая бревна. Они замшели в пазах и были скользкими.
Зуб расходился все злее. Правая сторона лица отнялась целиком.
– Сходи к Кириллу, – сказала старуха. – Отдай ему рубль, хапуге. Третью ночь не спишь.
Но Кузьме Андреевичу было жалко рубля. Старуха прогнала его почти силой. Он спустился по огородам. Внизу, прислонившись к ветлам, стояла хибарка Кирилла, вечерняя тень накрывала ее.
Кузьма Андреевич постучал.
– Войди с богом, – ответил старческий голос.
Кирилл – божий человек, местный молельщик и знахарь, сидел на скамейке под образами. Костным лоском отблескивал его желтый сухой череп, по затылку бежала, точно привязанная к ушам, тонкая седая кайма.
Он улыбнулся, сощурил бледные глаза, и все обличье его стало благостным, как икона.
– А я все молюсь, – радостно сообщил он. – Я все молюсь. Садись, золотой, помолимся вместе.
– Зуб вот, – мрачно ответил Кузьма Андреевич.
Кирилл сочувственно заохал и проворно достал с божницы темный пузырек.
– Из Ерусалима, – шепотом сказал он крестясь, – из самого Ерусалима!
Он отлил несколько капель в другой пузырек, поменьше, и подал Кузьме Андреевичу.
– Монашек принес один. Давай три рубля.
Они торговались долго. Наконец знахарь скинул рублевку.
Кузьма Андреевич тут же вылил содержимое пузырька в рот и, глухо замычав, пошатнулся. От холодной воды зуб рвануло, в глазах, как выстрел, мелькнули красные жала.
…Зуб болел еще четыре дня. Наконец опухоль прошла. Мысли Кузьмы Андреевича прояснились.
Его извечная мечта была теперь доступной и совсем близкой.
Вот он стоит на пригорке, новый хрулинский дом, на кирпичном фундаменте, под железной крышей, с красными разводами на ставнях. Он овеян влажным зеленым дымом весенних берез, над ним в бледном небе кучатся взбитые облака, и так четко виден на их белизне железный петушок – флюгер. Кузьма Андреевич хорошо знал всю историю этого дома – он был сложен из самых лучших сосновых бревен, полы настелены в два ряда, дубовые балки, раскорячившись, держат потолочные перекрытия.
Когда у Хрулина не хватило денег на покупку железа для крыши, он потребовал с Кузьмы Андреевича старый долг. Пришлось отвести на базар корову и тройку овец. Теперь Кузьме Андреевичу казалось, что он, больше всех претерпевший от Хрулина, имеет самые неоспоримые права на этот дом. Но Тимофей Пронин думал, очевидно, иначе и не скрывал своих намерений справить в ближайшие дни новоселье.
«Не поддамся!» – думал Кузьма Андреевич. Для начала он решил перегнать в работе всех колхозникоз. Возили жерди крыть скотный двор и сараи. Кузьма Андреевич трудился до поздней ночи. В три дня Кузьма Андреевич наворотил огромное штабелище жердей. И хотя Скорпион воровал у него жерди целыми десятками, все признали Кузьму Андреевича первым ударником. Он окончательно утвердился в этом звании после ремонта силосной башни. В ней проступила вода, прошлогодний силос испортился, и нельзя было заготовлять новый. Раскинув мозгами, Кузьма Андреевич прокопал переплет канавок и отвел воду.
– Голова! – значительно сказали мужики, а председатель, для которого силосная башня имела, помимо практического значения, еще и символическое – как первый законченный объект его плана, изложенного в клеенчатой тетради, – записал Кузьме Андреевичу за этот подвиг сразу восемь трудодней.
Чтобы выбить из рук Тимофея последний козырь, Кузьма Андреевич решил сделать свою избенку наихудшей в деревне, просто-напросто завалить ее. Но злоехидный Тимофей проник в его мысли и зорко оберегал избенку, каждую ночь проверял подпорки, забивал колья и даже выкрасил оконные рамы. Он хотел выкрасить весь фасад, но в его запасах, хранившихся еще с тех пор, когда ходил он на заработки по малярному делу, не нашлось охры, почему этот план и не был приведен в исполнение.
Так и не удалось завалить избенку, хотя Кузьма Андреевич прибегал к разным хитростям.
На собрании сидел он красный и гордый. Председатель долго перечислял его заслуги. Стенгазета, составленная комсомольцами, восхваляла Кузьму Андреевича и в прозе и в стихах. Заслуги были так велики и неоспоримы, что мужики заранее поздравляли его с новосельем.
– Предлагаю, – сказал председатель (Кузьма Андреевич замер, скамейка будто качнулась под ним), – предлагаю ввести товарища Севастьянова в правление.
– Давай! – загудели мужики и выбрали Кузьму Андреевича единогласно.
– Следующий вопрос – о хрулинском доме, – начал председатель, роясь в своей засаленной лохматой папке.
Собрание притихло; через головы мужиков тянул сизый махорочный дым.
Мечты Кузьмы Андреевича рухнули. Председатель сказал, что районный исполком, заслушав его доклад и учитывая, с одной стороны, успехи колхоза в посевной кампании, а с другой стороны – отдаленность больницы, постановил открыть в колхозе амбулаторию, использовав для этого хрулинский дом.
Мужики захлопали в ладоши. Собрание окончилось.
Тимофей сказал:
– Вот и зря горб мозолил.
– А тебе спасибо, – язвительно ответил Кузьма Андреевич. – Поклон тебе низкий: поддержал ты мою избенку.
– Для хорошего человека почему не постараться? Подпорку-то возверни березову.
– Это моя подпорка.
– Как твоя?
– Эдак, – злорадно ответил Кузьма Андреевич. – Раз у моей избы, значит моя!
И ушел.
– Обождь, обождь! – кричал ему вслед Тимофей. – Моя жердь!
Возвращался Кузьма Андреевич окольной дорогой, мимо хрулинского дома. На окнах и на двери белели тесовые перекресты.
Кузьма Андреевич сердито подумал: «Эх, жизня! Верно, так и помрем в хибарке!»
Около избы его поджидала старуха.
– Кузьма, погоди!
Щекоча его бороду своим теплым дыханием, она прошептала:
– Я тут без тебя завалила стенку-то. Бревном подворотила. Ежели, мол, придут с собрания поглядеть…
Ночью подул ветер, избенку продувало насквозь. Глухо гудели корявые вербы, мешали Кузьме Андреевичу спать.
Утром он принялся за ремонт избенки. Сеялся тонкий дождь. В мягком его тумане расплывались очертания дальних сараев. Лес сразу отступил на полверсты.
Смущенная старуха говорила:
– Все хотела как лучше…
Кузьма Андреевич только покряхтывал, ворочая бревна. Они замшели в пазах и были скользкими.
5
Вскоре приехал фельдшер. У него были жиденькие усы, круглые совиные глаза и огромный череп, надвинутый, как малахай, на сплющенное лицо.
О себе фельдшер был чрезвычайно высокого мнения, в разговорах с колхозниками обходился двумя словами: «дяре́вня» и «дикость».
– Вы как жуки в навозе здесь живете, – говорил он. – Дяре́вня! Культурному чтоб человеку с вами никак терпеть невозможно. Дикость!
Мужики виновато покашливали. Фельдшер продолжал^
– Мне к примеру, с вами вовсе нечего делать, как я имею специальность по нервным и психическим. Какея могут быть у него нервы, – ткнул фельдшер пальцем в Кузьму Андреевича. – Дяре́вня у него, а чтоб о нервах, он даже не понимает. Или возьмем слово самое: «пси-хи-ат-рия». Кто здесь эдакое слово может понять? Дикость!
– А какое же в нем понятие, в этом слове? – любопытствовали мужики.
– Да вам что объяснять, – презрительно отвечал фельдшер. – Латинского вы все равно не учили…
Так и не узнали мужики, что значит мудреное слово «психиатрия».
Хотя фельдшер получал в районе жалованье, но даром никого не лечил. Брал он много дороже Кирилла, амбулатория пустовала. Мужики ходили туда исключительно за справками о невыходе на работу по болезни, иначе председатель не верил. Фельдшер выдавал справки охотно, потому что был почитателем собственного почерка и радовался всякому случаю лишний раз подписаться. Он долго раскачивал кисть руки, примерялся справа и слева, наконец, с размаху бросал перо на бумагу и выводил длинный завулон. Развлекаясь, он исчертил своей подписью всю «Книгу учета больных».
По штату в амбулатории полагалась уборщица. Гаврила Степанович предложил эту должность Устинье с условием, что колхозной работы она не бросит.
Устинья была вдова, муж ее утонул три года тому назад, она честно вдовствовала, никого не подпуская к себе. Многие вздыхали по ней. Она и в самом деле была хороша: крупная и по-тяжелому красивая, на переносице сходились широкие сердитые брови, красная повязка обрезала гладко зачесанные волосы.
– Так, – значительно сказал фельдшер, в его мутных глазах блеснул хищный огонек. – Подойди-ка поближе, дяре́вня.
Через пять минут мужики, сидевшие на крыльце правления, услышали доносившийся из амбулатории неясный топот и крики. Вдруг с треском, сразу на обе рамы, лопнуло окно.
– Караул! – тонко закричала Устинья и выскочила на улицу.
В ту же секунду в окне показалась потная и красная физиономия фельдшера. Он ловко на лету поймал Устинью за юбку и пытался втащить обратно.
Шея председателя побагровела.
– Пусти! – закричал он так страшно, что Кузьма Андреевич вздрогнул. Председатель встал, подошел к окну.
Кузьма Андреевич подумал, что сейчас он ударит фельдшера.
– Ты, – сказал председатель, – ты моих колхозниц не трожь!
Он медленно закрывал раму, точно отгораживая фельдшера от колхоза стеклом.
Устинья срамила фельдшера последними словами.
– Уйди! – приказал председатель.
Она ушла, поминутно оглядываясь.
После продолжительного молчания Кузьма Андреевич сказал:
– Все говорит фельдшер-то: «дикость», «дикость». А от его же самого и происходит дикость!
Деревенская улица упиралась в лес; через сквозистые вершины сосен, через их чешуйчатые стволы широкими пыльными полосами дышало солнце и зажигало стекла в хрулинском доме.
– Елемент! – сказал, наконец, председатель. – Его бы за это в газетке предать позору. А тронь его попробуй. Уедет – и останемся без амбулатории.
Голос его звучал так, словно он извинялся перед колхозниками за мягкость своего обращения с фельдшером.
О себе фельдшер был чрезвычайно высокого мнения, в разговорах с колхозниками обходился двумя словами: «дяре́вня» и «дикость».
– Вы как жуки в навозе здесь живете, – говорил он. – Дяре́вня! Культурному чтоб человеку с вами никак терпеть невозможно. Дикость!
Мужики виновато покашливали. Фельдшер продолжал^
– Мне к примеру, с вами вовсе нечего делать, как я имею специальность по нервным и психическим. Какея могут быть у него нервы, – ткнул фельдшер пальцем в Кузьму Андреевича. – Дяре́вня у него, а чтоб о нервах, он даже не понимает. Или возьмем слово самое: «пси-хи-ат-рия». Кто здесь эдакое слово может понять? Дикость!
– А какое же в нем понятие, в этом слове? – любопытствовали мужики.
– Да вам что объяснять, – презрительно отвечал фельдшер. – Латинского вы все равно не учили…
Так и не узнали мужики, что значит мудреное слово «психиатрия».
Хотя фельдшер получал в районе жалованье, но даром никого не лечил. Брал он много дороже Кирилла, амбулатория пустовала. Мужики ходили туда исключительно за справками о невыходе на работу по болезни, иначе председатель не верил. Фельдшер выдавал справки охотно, потому что был почитателем собственного почерка и радовался всякому случаю лишний раз подписаться. Он долго раскачивал кисть руки, примерялся справа и слева, наконец, с размаху бросал перо на бумагу и выводил длинный завулон. Развлекаясь, он исчертил своей подписью всю «Книгу учета больных».
По штату в амбулатории полагалась уборщица. Гаврила Степанович предложил эту должность Устинье с условием, что колхозной работы она не бросит.
Устинья была вдова, муж ее утонул три года тому назад, она честно вдовствовала, никого не подпуская к себе. Многие вздыхали по ней. Она и в самом деле была хороша: крупная и по-тяжелому красивая, на переносице сходились широкие сердитые брови, красная повязка обрезала гладко зачесанные волосы.
– Так, – значительно сказал фельдшер, в его мутных глазах блеснул хищный огонек. – Подойди-ка поближе, дяре́вня.
Через пять минут мужики, сидевшие на крыльце правления, услышали доносившийся из амбулатории неясный топот и крики. Вдруг с треском, сразу на обе рамы, лопнуло окно.
– Караул! – тонко закричала Устинья и выскочила на улицу.
В ту же секунду в окне показалась потная и красная физиономия фельдшера. Он ловко на лету поймал Устинью за юбку и пытался втащить обратно.
Шея председателя побагровела.
– Пусти! – закричал он так страшно, что Кузьма Андреевич вздрогнул. Председатель встал, подошел к окну.
Кузьма Андреевич подумал, что сейчас он ударит фельдшера.
– Ты, – сказал председатель, – ты моих колхозниц не трожь!
Он медленно закрывал раму, точно отгораживая фельдшера от колхоза стеклом.
Устинья срамила фельдшера последними словами.
– Уйди! – приказал председатель.
Она ушла, поминутно оглядываясь.
После продолжительного молчания Кузьма Андреевич сказал:
– Все говорит фельдшер-то: «дикость», «дикость». А от его же самого и происходит дикость!
Деревенская улица упиралась в лес; через сквозистые вершины сосен, через их чешуйчатые стволы широкими пыльными полосами дышало солнце и зажигало стекла в хрулинском доме.
– Елемент! – сказал, наконец, председатель. – Его бы за это в газетке предать позору. А тронь его попробуй. Уедет – и останемся без амбулатории.
Голос его звучал так, словно он извинялся перед колхозниками за мягкость своего обращения с фельдшером.
6
С германского фронта Тимофей пришел пузом вперед: гордился своей медалью.
В колхоз он вступил последним – было приятно, что Гаврила Степанович на глазах у всей деревни ходит за ним и уговаривает. Значит, он, Тимофей Пронин, для колхоза необходимый человек, и без него дело не пойдет.
Последующая жизнь в колхозе казалась ему цепью сплошных обид. Его не выбрали членом правления, а в хрулинском доме, на который он так надеялся, открыли амбулаторию. А если бы ее не открыли, то дом достался бы все-таки не ему, а Кузьме Андреевичу.
«Как вы со мной, так и я с вами», – решил Тимофей и бросил работать. Гаврила Степанович писал ему по трети и по четверти трудодня, но Тимофей был неисправим.
Однажды он попал в бригаду Кузьмы Андреевича. Устраивали подземное хранилище для картошки. Лопаты легко входили в плотную глину и до блеска сглаживали разрез. Рубаха Кузьмы Андреевича уже посерела от пота. Он оглянулся и увидел, что Тимофей сидит, свесив ноги в яму, и курит.
– Ты что же? – спросил Кузьма Андреевич. – А работа?
– Работа?.. – сплюнул Тимофей. – Работа, она дураков любит.
Кузьма Андреевич чувствовал на себе глаза всей бригады и понимал, что обязан дать Тимофею достойный ответ.
– Дураков?.. Я вот работаю. Я, значит, по-твоему, дурак?
– А ты что привязался? – закричал Тимофей. – Знаем таких! Ударник!.. Насчет нового дома! Знаем!
У Кузьмы Андревича перехватило дыхание.
– Язык бы тебе ножницами остричь, – озлобившись, сказал он. – А только я теперь все одно поставлю вопрос на правлении.
– А может, я больной, – сказал Тимофей. – Как ты имеешь право ставить вопрос, ежели я больной?
Весь день Кузьма Андреевич работал без отрыва: боялся, что, если сядет отдохнуть, вся бригада поверит в правильность слов Тимофея. Вечером, когда окончили работу, он сказал, неискренне усмехаясь:
– Выдумает… хрулинский дом…В хрулинском доме ныне амбулатория, а я все одно стараюсь для колхозного дела.
Никто не ответил ему, и он почувствовал, что этих слов не следовало говорить.
В колхоз он вступил последним – было приятно, что Гаврила Степанович на глазах у всей деревни ходит за ним и уговаривает. Значит, он, Тимофей Пронин, для колхоза необходимый человек, и без него дело не пойдет.
Последующая жизнь в колхозе казалась ему цепью сплошных обид. Его не выбрали членом правления, а в хрулинском доме, на который он так надеялся, открыли амбулаторию. А если бы ее не открыли, то дом достался бы все-таки не ему, а Кузьме Андреевичу.
«Как вы со мной, так и я с вами», – решил Тимофей и бросил работать. Гаврила Степанович писал ему по трети и по четверти трудодня, но Тимофей был неисправим.
Однажды он попал в бригаду Кузьмы Андреевича. Устраивали подземное хранилище для картошки. Лопаты легко входили в плотную глину и до блеска сглаживали разрез. Рубаха Кузьмы Андреевича уже посерела от пота. Он оглянулся и увидел, что Тимофей сидит, свесив ноги в яму, и курит.
– Ты что же? – спросил Кузьма Андреевич. – А работа?
– Работа?.. – сплюнул Тимофей. – Работа, она дураков любит.
Кузьма Андреевич чувствовал на себе глаза всей бригады и понимал, что обязан дать Тимофею достойный ответ.
– Дураков?.. Я вот работаю. Я, значит, по-твоему, дурак?
– А ты что привязался? – закричал Тимофей. – Знаем таких! Ударник!.. Насчет нового дома! Знаем!
У Кузьмы Андревича перехватило дыхание.
– Язык бы тебе ножницами остричь, – озлобившись, сказал он. – А только я теперь все одно поставлю вопрос на правлении.
– А может, я больной, – сказал Тимофей. – Как ты имеешь право ставить вопрос, ежели я больной?
Весь день Кузьма Андреевич работал без отрыва: боялся, что, если сядет отдохнуть, вся бригада поверит в правильность слов Тимофея. Вечером, когда окончили работу, он сказал, неискренне усмехаясь:
– Выдумает… хрулинский дом…В хрулинском доме ныне амбулатория, а я все одно стараюсь для колхозного дела.
Никто не ответил ему, и он почувствовал, что этих слов не следовало говорить.
7
На следующее утро Тимофей выволок из хлева единственного своего гуся и топором отрубил ему голову. Кровь, пузырясь, ударила в сухую землю. Медленные судороги шли по гусиному телу, вытягивались, дрожа, красные лапы.
Баба ощипала и опалила гуся. Завернув его в чистое полотенце, Тимофей отправился к фельдшеру.
Специалист по нервным и психическим еще не вставал. Он встретил Тимофея весьма неприветливо, но, увидев гуся, смягчился.
– Положи на скамейку. Куды прешь в сапожищах! Оставь полотенце-то!
Тимофей с душевной болью накрыл гуся полотенцем.
В комнате из-под полотенца торчали красные перепончатые лапы гуся, из-под лоскутного засаленного одеяла – грязные ноги фельдшера с желтыми, восковыми пятками и слоистыми, как раковина, ногтями.
– Ну что? – сонно спросил фельдшер.
– Да вот. Животом мучаюсь. С ерманской войны. Как работа тяжелая, так мне смертынька.
– Давит?
– Ох, давит!..
– Щемит?
– Ох, щемит!..
– Пухнет?
– Каждый день пухнет.
И вдруг Тимофей вспомнил, что у него в самом деле два раза болел живот – однажды на фронте, а потом в деревне, года четыре назад.
Прислонившись к дверному косяку, он подробно повествовал о своих страданиях.
– Грыжа, явная грыжа, – перебил фельдшер. – Тяжелого поднимать нельзя.
– Так ведь не верят… Справочку бы…
Фельдшер встал и в грязных подштанниках пошел в приемную. Завязки волочились за ним, шевеля обгорелые спички и окурки. Тимофей ликующе ждал. Фельдшер вернулся и вручил ему справку, украшенную завулоном подписи.
Председатель Гаврила Степанович уважал науку и против справки ничего поделать не мог. Тимофея назначили охранять коровник. Он обрел, наконец, тихую пристань. Вечером, застелив угол свежей соломой, он устраивался поудобнее и спал всю ночь в парном запахе коровьего помета.
Баба ощипала и опалила гуся. Завернув его в чистое полотенце, Тимофей отправился к фельдшеру.
Специалист по нервным и психическим еще не вставал. Он встретил Тимофея весьма неприветливо, но, увидев гуся, смягчился.
– Положи на скамейку. Куды прешь в сапожищах! Оставь полотенце-то!
Тимофей с душевной болью накрыл гуся полотенцем.
В комнате из-под полотенца торчали красные перепончатые лапы гуся, из-под лоскутного засаленного одеяла – грязные ноги фельдшера с желтыми, восковыми пятками и слоистыми, как раковина, ногтями.
– Ну что? – сонно спросил фельдшер.
– Да вот. Животом мучаюсь. С ерманской войны. Как работа тяжелая, так мне смертынька.
– Давит?
– Ох, давит!..
– Щемит?
– Ох, щемит!..
– Пухнет?
– Каждый день пухнет.
И вдруг Тимофей вспомнил, что у него в самом деле два раза болел живот – однажды на фронте, а потом в деревне, года четыре назад.
Прислонившись к дверному косяку, он подробно повествовал о своих страданиях.
– Грыжа, явная грыжа, – перебил фельдшер. – Тяжелого поднимать нельзя.
– Так ведь не верят… Справочку бы…
Фельдшер встал и в грязных подштанниках пошел в приемную. Завязки волочились за ним, шевеля обгорелые спички и окурки. Тимофей ликующе ждал. Фельдшер вернулся и вручил ему справку, украшенную завулоном подписи.
Председатель Гаврила Степанович уважал науку и против справки ничего поделать не мог. Тимофея назначили охранять коровник. Он обрел, наконец, тихую пристань. Вечером, застелив угол свежей соломой, он устраивался поудобнее и спал всю ночь в парном запахе коровьего помета.
8
Утром по деревне прошел почтарь-кольцевик, а в полдень фельдшер заявил, что ему необходимо ехать на станцию за медикаментами.
С подводой нарядили Кузьму Андреевича. Он сидел впереди, свесив правую ногу, денек выдался задумчивый, облачный, помахивала жиденьким хвостом лошаденка, кованый обод прыгал с кочки на кочку.
До станции считалось полтора часа, в молчанку играть Кузьма Андреевич не любил, откашлялся, огладил бороду и сказал напевно и проникновенно:
– Да, мил-человек. Старину я всю вот как помню. Удивительное дело, годов мне все более, тело грузнее, а память светлее. Через это свое уменье про старину сказывать я пятерку заработал. Места наши тогда были глухие да лесистые. Ничего-то мы не слышали, ничего не видели, а чтоб радиво – этого даже не понимали.
– Что ж с дяре́вни спрашивать? – ответил фельдшер. – Эка невидаль – радио! Мне уж сорок лет, а я его еще мальчонкой слушал.
Сердился Кузьма Андреевич, когда его перебивали, однако стерпел. Очень уж соскучился по своему напевному голосу, закружился с этим колхозом, некогда и про старину вспоминать.
– Ну, а потом – верно, что стали к нам городские люди наезжать. Флегонтов Маркел Авдеич, из московских купцов, имение купил у барина у нашего.
С подводой нарядили Кузьму Андреевича. Он сидел впереди, свесив правую ногу, денек выдался задумчивый, облачный, помахивала жиденьким хвостом лошаденка, кованый обод прыгал с кочки на кочку.
До станции считалось полтора часа, в молчанку играть Кузьма Андреевич не любил, откашлялся, огладил бороду и сказал напевно и проникновенно:
– Да, мил-человек. Старину я всю вот как помню. Удивительное дело, годов мне все более, тело грузнее, а память светлее. Через это свое уменье про старину сказывать я пятерку заработал. Места наши тогда были глухие да лесистые. Ничего-то мы не слышали, ничего не видели, а чтоб радиво – этого даже не понимали.
– Что ж с дяре́вни спрашивать? – ответил фельдшер. – Эка невидаль – радио! Мне уж сорок лет, а я его еще мальчонкой слушал.
Сердился Кузьма Андреевич, когда его перебивали, однако стерпел. Очень уж соскучился по своему напевному голосу, закружился с этим колхозом, некогда и про старину вспоминать.
– Ну, а потом – верно, что стали к нам городские люди наезжать. Флегонтов Маркел Авдеич, из московских купцов, имение купил у барина у нашего.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента
