Б. Тарбаев
Бурка
Жил со мной на Севере весёлый друг, никогда не жаловался, не хныкал. Только одним страдал недостатком: не умел писать писем. Два года мы были с ним в разлуке, и за два года хоть бы весточку прислал. Когда я вернулся на Север, то, конечно, первым делом вспомнил о нём.
«Скучновато без него будет ходить по тундре», – подумал я и попросил лётчика, который привёз нас на место, сделать в последнем рейсе небольшой крюк – двадцать километров в сторону – за моим другом. Лётчик удивлённо посмотрел на меня, хотел что-то возразить, но я спокойно объяснил, что друг привык летать на самолётах... и потом, до него совсем недалеко – двадцать километров в сторону. Лётчик выслушал меня и согласился. Вечером друг прибыл.
– Пассажир чувствовал себя хорошо? – спросил я лётчика.
Он улыбнулся.
– Кажется, сначала у него немного кружилась голова, но потом всё обошлось.
Я заглянул в самолёт и увидел своего друга – он улыбался во всю пасть.
«Гав! Гав!» – сказал он мне. Это означало: «Я очень рад!»
– Добро пожаловать, Бурка!
Пёс выпрыгнул на траву и лизнул мне руку, – не в пример другим собакам, которые при встрече от избытка радости носятся вокруг немыслимым галопом. Мы посмотрели друг другу в глаза и сразу поняли, какие дела сейчас важнее всего: нам следовало идти в лагерь и закусить.
В палатке я дал Бурке рыбу, он съел её, как подобает воспитанному псу, всю без остатка и облизнулся. Последнее означало, что одной рыбы ему мало и он желает получить ещё одну. Но у меня была лишь одна рыбина, я сконфузился и предложил ему взамен миску фасолевой похлёбки с мясными консервами. Он деловито понюхал суп и поступил с ним так же, как и с рыбой, – съел весь без остатка. После ужина я показал ему лагерь: спальную палатку, палатку, где мы делали чертежи, и, наконец, кухню. Палатка-кухня понравилась ему больше всего. Он тщательно обнюхал её снаружи, заглянул внутрь и дал мне понять, что ему лучше всего остаться на ночь здесь, возле дверей, на всякий случай... Хорошо, когда имеется верный друг – не скучно, а главное, за продукты спокойно.
На следующее утро меня разбудили гуси. За ближайшим холмом было озеро, и тамошние гуси время от времени устраивали соревнование, кто громче крикнет. Голоса у гусей были звонкие – недаром их горластые предки Рим спасли, только порядка у них не было – кричали они все вместе, получалось сплошное: «Га-га-га...» Оказалось, что Бурка проснулся раньше, чем я, и уже ожидал меня у дверей палатки.
«Пойдём, – сказал он мне глазами, – я принёс такую штуку, какой ты никогда не видел».
Он повёл меня за палатку. Там лежал небольшой тюлень, вернее, не тюлень, а две трети тюленя. Куда девалось остальное, я не знал; может, съел Бурка или кто-нибудь другой... Бурка тихонько взвизгнул и лизнул тушку, предлагая мне сделать то же самое, но я отказался.
– Видишь ли, – объяснил я Бурке, – этот тюлень не целый, и я не знаю, кто съел его третью часть, – может быть тот, кто её ел, и зубов никогда не чистит, и потом, все дохлые тюлени – дрянь, плохо пахнут.
Бурка отчаянно закрутил хвостом:
«Ничего подобного, хороший тюлень!»
Мы с ним поспорили: каждый остался при своём мнении. После чего я заткнул себе нос, взял железный крючок и оттащил тюленя подальше от лагеря.
– Давай лучше пойдём на охоту, – предложил я Бурке, – что-нибудь повкуснее добудем.
В знак согласия Бурка свернул кольцом свой пушистый хвост и побежал в тундру. Там он стал рыскать среди кочек и кустов карликовой берёзки, совал морду в мох и фыркал.
«Очень много было куропаток, – то и дело сигналил его хвост, – да вот куда-то все подевались».
– Надо найти! – требовал я.
«Устал, – обиделся Бурка, – я не молодой. Попробуй столько побегать с утра». И лёг возле меня, высунув язык.
Сел и я на кочку. И тут привязался к нам один крикун. Спина у крикуна сизая, брюхо жёлто-белое в пестринах, лапы жёлтые, клюв крючком. Мы его сразу узнали, это был сокол-дербник; прилетел невесть откуда и кружился над нами.
«Ки! Ки!..» – кричал.
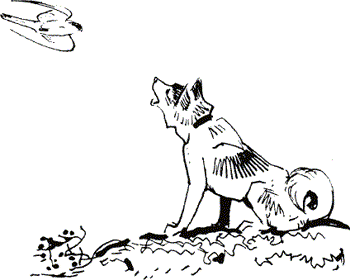
«Гав, – ответил ему Бурка. – Проваливай, а то застрелим».
Мы, конечно, крикуна стрелять не стали: пусть кричит на здоровье, если нравится. Отдохнул Бурка и стал по сторонам носом водить. Нос у него чёрный, влажный, всякие запахи ловит – чудесный нос.
Наклонил Бурка голову набок и хитро так взглянул на меня.
«Простофили мы с тобой! Ведь куропатки-то в ивняке сидят».
Стали мы к тому ивняку подкрадываться: Бурка впереди, я сзади.
Бурка сделает десять шагов, повернёт голову и говорит глазами:
«Сидят, на одном месте сидят – жирные...»
Совсем близко подошли мы к ивняку, остановился я и приготовился стрелять. Бурка струной вытянулся, нос и глаза на куропаток нацелил. Легавые собаки, которые медали получают на выставках, стойку на дичь делают. Какой-нибудь сеттер или пойнтер, перед тем как куропатку из куста выпугнуть, поднимает переднюю ногу. Бурка на выставках не был, потом никакой он не сеттер и не пойнтер, а самая обыкновенная лайка. Переднюю ногу он не поднимает, он поднимает ту, которую удобнее.
«Гвах! Гвах! Охо-хо-хо! – захохотали куропатки, взлетая. – Видели мы вас, видели! Теперь снова поищите нас!..»
Бах! – выпалил я из одного ствола. Бах! – из второго.
«Ай! Ай!» – завизжал Бурка.
«Ох! Ох! Подальше от вас, подальше!» – орали куропатки, что есть мочи размахивая крыльями.
Бурка рыскал по кустам, искал добычу, но ничего не нашёл. Подбежал ко мне, посмотрел в глаза:
«Подкрадывались?»
– Подкрадывались.
«Стреляли?»
– Стреляли.
«А где же добыча?»
Развёл я руками:
– Промазал. Тут уж ничего не поделаешь, пойдём в лагерь суп с говяжьей тушёнкой есть.
Бурка отвернулся и повесил хвост поленом: «И чего это мы пошли за куропатками, если ты стрелять не умеешь, был же тюлень...»
– Да ну тебя, ворчуна. Ты, видно, брат, стареешь, – сказал я ему.
Бурка, не поднимая хвоста, побежал вперёд и ни разу не оглянулся.
С тех пор мы стали дуться друг на друга.
Спустя неделю оленеводы подарили нам молодого песца. Был он как котёнок и смотрел на всех печальными глазками, уговаривал: «Вы меня не трогайте, а я уж вас никогда не трону».
Сидел щенок на цепочке возле палатки. К нему подошёл Бурка и показал зубы.
– Что, разве не нравится зверушка? – спросил я.
Бурка холодно взглянул на меня, наморщил нос: «Мерзкий песец, и пахнет от него мерзко. Все песцы мерзкие».
– Ладно, – сказал я, – любить не люби, и трогать не трогай – он маленький.
Бурка на мои слова и ухом не повёл. Посмотрел песец на Бурку, и растаяло у него сердечко: родню он ему напомнил – у родни ведь тоже четыре лапы и пушистый хвост. Тихо подкрался малыш к Буркиному хвосту и робко дёрнул. Пса как будто электрическим током пронзило – затрясся весь. Гневно взглянул на меня:
«Вот до чего я дожил, уж и песец стал меня оскорблять. И всё по вашей милости...»
Встал он и пошёл прочь; хвост по земле волочится. Я-то знал, о чём он в этот момент думал: «Ненавижу я этих песцов! Ненавижу!»
Совсем испортились наши отношения с Буркой. А тут ещё приключилась история с гусем...
Жил в нашем лагере дикий гусь, мы его поймали птенцом. Когда он подрос, придумали ему имя: Петька. Это был очень важный и умный гусь. По утрам он степенно провожал нас умываться и тоже барахтался в воде; днём ходил вместе с поваром собирать ягоды. Правда, ягоды собирал не в лукошко: он рвал их клювом – и проглатывал. Увидел Петька Бурку и удивился. Шею вытянул, насторожился:
«Га! Га! Откуда взялся жёлтый пёс?»
– На самолёте прилетел, – объяснил я Петьке, – очень прошу тебя любить его и жаловать.
«Жёлтого пса – никогда!» – прогоготал гусь и удалился в палатку.
Бурка конфузливо завилял хвостом: «Очень важная персона этот гусь, не подступишься к нему».
Я думал, что пройдёт день-другой и они подружатся, да не тут-то было: Петька оказался с характером. Бурку в палатке он не терпел. Сунется, бывало, Бурка в палатку, а ему сразу на пороге: «Прочь, невежа!» Проглотит пёс обиду и уйдет.
Однажды всё-таки не стерпело Буркино сердце. Вошёл он в палатку, и то ли у него дело было настолько важное, что пропустил он мимо ушей предупреждение, то ли просто не слышал окрика, только перешёл гусь от слов к делу: клюнул Бурку в нос.
«У-у-у!.. – заплакал Бурка и рассердился: – Гам! Съем я тебя, задиру!»
Гусь даже на цыпочки поднялся:
«Что?.. Вы слышали?!»
Подхватился Бурка – и ко мне:
«Либо этот гусь, либо я – выбирай».
Почесал я затылок:
– Придётся, брат, терпеть. Сам знаешь, какие они, гуси...
Понурился Бурка. По морде видно, что сильно обиделся. С этого дня стал он спать за палаткой даже в сильный дождь и за завтраком не просил у меня добавки.
Северное лето быстро прошло, и наступила осень. По ночам печальные песни запел ветер: «Скучно мне, очень скучно. Несу я холодные облака, сыплю унылый дождик. Слушайте меня те, кто в каменных домах, слушайте те, кто в деревянных, и вы, которые в палатках, тоже слушайте – всем вам скоро станет скучно...»
Послушал я ветер и в самом деле заскучал: пора уезжать в тёплые края. У геологов сборы недолги – запаковали во вьючные сумы снаряжение, сложили палатки – и завьючивай лошадей!
В один прекрасный день погрузились мы и поехали. Путь длинный. Едем день, едем два, уж и стойбище близко, где живёт Буркин хозяин: через гору перевалить да в низину спуститься, потом опять на гору и опять в низину, шесть ручьёв перейти вброд и две реки... Недалеко стойбище, да ночь ещё ближе, сзади шагает, вот-вот обгонит. Остановился наш караван, и давай мы между собой совет держать: разбивать лагерь или дальше идти. Посмотрели по сторонам: кругом болото, сырь да гниль, ни дров для костра, ни травы для лошадей – гиблое место.
– Э-э, ничего... – заговорил я. – Вчера была лунная ночь, будет и сегодня. При луне иной раз светлей, чем днём; дойдём до стойбища и ночью – по оленьей дороге.
Стемнело, и вдруг надвинулась с севера туча, снег полетел, ветер завыл, как голодная собака. Такая пурга началась, что словами не описать. С такой погодой шутки плохи – в два счёта пропасть можно.
– Ну, Бурка, – спросил я пса, – как дорогу будем искать?
Отряхнулся Бурка, презрительно фыркнул: дескать, никчёмный вы народ, пустяка сделать не можете – и повёл караван. Долго мы шли и сильно продрогли. Самое время отдохнуть, горячего чая выпить, да куда там: встала у нас на пути река, глубина саженная.
– Что скажешь, верный друг Бурка?
Оглянулся я – нет Бурки.
– Бурка! Бурка!..
«У-у-у...» – воет ветер. Видно, бросил нас Бурка в отместку за все обиды.
Совсем некстати теперь сводить Бурке счёты, плохую погоду выбрал.
Что мы делать будем?..
Стал я думать, куда нам податься, и, пока думал, так продрог, до самого сердца холод добрался. И вдруг сквозь свист ветра голос:
– Э-э-эй-эй!
Прислушался, и опять с порывом ветра:
– Э-э-э-эй!
Толкнул меня кто-то сзади, я оглянулся: Бурка, мокрый весь, только что реку переплыл.
– Что, старина, наверное, лодку привезли?..
В темноте Буркиной морды не было видно, но знал я, что он мне по-своему, по-собачьи, глазами говорил: «Пустяки всё! Через час в стойбище прибудем – там уж и похлёбку для нас из оленины варят. Я понюхал – слюнки потекли».
Приплыл с противоположной стороны человек на лодке. Людей перевёз, снаряжение перевёз, ну а лошади сами переплыли реку. Вскоре мы сидели в чуме и ели похлёбку из оленины.
Неделей позже расстались мы с Буркой. Сел я в самолёт, глянул в окно: стоит он рядом, хвостом машет. Высунулся я в дверцу и не очень громко, чтобы другие не слышали, спросил:
– Ты на меня не обижаешься? А?
Мотнул Бурка головой:
«Да ну их, эти обиды».
– Ну, тогда до лета!
«Гав! Конечно, до лета. Не забудь прислать самолёт».
«Скучновато без него будет ходить по тундре», – подумал я и попросил лётчика, который привёз нас на место, сделать в последнем рейсе небольшой крюк – двадцать километров в сторону – за моим другом. Лётчик удивлённо посмотрел на меня, хотел что-то возразить, но я спокойно объяснил, что друг привык летать на самолётах... и потом, до него совсем недалеко – двадцать километров в сторону. Лётчик выслушал меня и согласился. Вечером друг прибыл.
– Пассажир чувствовал себя хорошо? – спросил я лётчика.
Он улыбнулся.
– Кажется, сначала у него немного кружилась голова, но потом всё обошлось.
Я заглянул в самолёт и увидел своего друга – он улыбался во всю пасть.
«Гав! Гав!» – сказал он мне. Это означало: «Я очень рад!»
– Добро пожаловать, Бурка!
Пёс выпрыгнул на траву и лизнул мне руку, – не в пример другим собакам, которые при встрече от избытка радости носятся вокруг немыслимым галопом. Мы посмотрели друг другу в глаза и сразу поняли, какие дела сейчас важнее всего: нам следовало идти в лагерь и закусить.
В палатке я дал Бурке рыбу, он съел её, как подобает воспитанному псу, всю без остатка и облизнулся. Последнее означало, что одной рыбы ему мало и он желает получить ещё одну. Но у меня была лишь одна рыбина, я сконфузился и предложил ему взамен миску фасолевой похлёбки с мясными консервами. Он деловито понюхал суп и поступил с ним так же, как и с рыбой, – съел весь без остатка. После ужина я показал ему лагерь: спальную палатку, палатку, где мы делали чертежи, и, наконец, кухню. Палатка-кухня понравилась ему больше всего. Он тщательно обнюхал её снаружи, заглянул внутрь и дал мне понять, что ему лучше всего остаться на ночь здесь, возле дверей, на всякий случай... Хорошо, когда имеется верный друг – не скучно, а главное, за продукты спокойно.
На следующее утро меня разбудили гуси. За ближайшим холмом было озеро, и тамошние гуси время от времени устраивали соревнование, кто громче крикнет. Голоса у гусей были звонкие – недаром их горластые предки Рим спасли, только порядка у них не было – кричали они все вместе, получалось сплошное: «Га-га-га...» Оказалось, что Бурка проснулся раньше, чем я, и уже ожидал меня у дверей палатки.
«Пойдём, – сказал он мне глазами, – я принёс такую штуку, какой ты никогда не видел».
Он повёл меня за палатку. Там лежал небольшой тюлень, вернее, не тюлень, а две трети тюленя. Куда девалось остальное, я не знал; может, съел Бурка или кто-нибудь другой... Бурка тихонько взвизгнул и лизнул тушку, предлагая мне сделать то же самое, но я отказался.
– Видишь ли, – объяснил я Бурке, – этот тюлень не целый, и я не знаю, кто съел его третью часть, – может быть тот, кто её ел, и зубов никогда не чистит, и потом, все дохлые тюлени – дрянь, плохо пахнут.
Бурка отчаянно закрутил хвостом:
«Ничего подобного, хороший тюлень!»
Мы с ним поспорили: каждый остался при своём мнении. После чего я заткнул себе нос, взял железный крючок и оттащил тюленя подальше от лагеря.
– Давай лучше пойдём на охоту, – предложил я Бурке, – что-нибудь повкуснее добудем.
В знак согласия Бурка свернул кольцом свой пушистый хвост и побежал в тундру. Там он стал рыскать среди кочек и кустов карликовой берёзки, совал морду в мох и фыркал.
«Очень много было куропаток, – то и дело сигналил его хвост, – да вот куда-то все подевались».
– Надо найти! – требовал я.
«Устал, – обиделся Бурка, – я не молодой. Попробуй столько побегать с утра». И лёг возле меня, высунув язык.
Сел и я на кочку. И тут привязался к нам один крикун. Спина у крикуна сизая, брюхо жёлто-белое в пестринах, лапы жёлтые, клюв крючком. Мы его сразу узнали, это был сокол-дербник; прилетел невесть откуда и кружился над нами.
«Ки! Ки!..» – кричал.
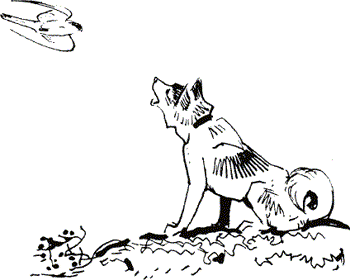
«Гав, – ответил ему Бурка. – Проваливай, а то застрелим».
Мы, конечно, крикуна стрелять не стали: пусть кричит на здоровье, если нравится. Отдохнул Бурка и стал по сторонам носом водить. Нос у него чёрный, влажный, всякие запахи ловит – чудесный нос.
Наклонил Бурка голову набок и хитро так взглянул на меня.
«Простофили мы с тобой! Ведь куропатки-то в ивняке сидят».
Стали мы к тому ивняку подкрадываться: Бурка впереди, я сзади.
Бурка сделает десять шагов, повернёт голову и говорит глазами:
«Сидят, на одном месте сидят – жирные...»
Совсем близко подошли мы к ивняку, остановился я и приготовился стрелять. Бурка струной вытянулся, нос и глаза на куропаток нацелил. Легавые собаки, которые медали получают на выставках, стойку на дичь делают. Какой-нибудь сеттер или пойнтер, перед тем как куропатку из куста выпугнуть, поднимает переднюю ногу. Бурка на выставках не был, потом никакой он не сеттер и не пойнтер, а самая обыкновенная лайка. Переднюю ногу он не поднимает, он поднимает ту, которую удобнее.
«Гвах! Гвах! Охо-хо-хо! – захохотали куропатки, взлетая. – Видели мы вас, видели! Теперь снова поищите нас!..»
Бах! – выпалил я из одного ствола. Бах! – из второго.
«Ай! Ай!» – завизжал Бурка.
«Ох! Ох! Подальше от вас, подальше!» – орали куропатки, что есть мочи размахивая крыльями.
Бурка рыскал по кустам, искал добычу, но ничего не нашёл. Подбежал ко мне, посмотрел в глаза:
«Подкрадывались?»
– Подкрадывались.
«Стреляли?»
– Стреляли.
«А где же добыча?»
Развёл я руками:
– Промазал. Тут уж ничего не поделаешь, пойдём в лагерь суп с говяжьей тушёнкой есть.
Бурка отвернулся и повесил хвост поленом: «И чего это мы пошли за куропатками, если ты стрелять не умеешь, был же тюлень...»
– Да ну тебя, ворчуна. Ты, видно, брат, стареешь, – сказал я ему.
Бурка, не поднимая хвоста, побежал вперёд и ни разу не оглянулся.
С тех пор мы стали дуться друг на друга.
Спустя неделю оленеводы подарили нам молодого песца. Был он как котёнок и смотрел на всех печальными глазками, уговаривал: «Вы меня не трогайте, а я уж вас никогда не трону».
Сидел щенок на цепочке возле палатки. К нему подошёл Бурка и показал зубы.
– Что, разве не нравится зверушка? – спросил я.
Бурка холодно взглянул на меня, наморщил нос: «Мерзкий песец, и пахнет от него мерзко. Все песцы мерзкие».
– Ладно, – сказал я, – любить не люби, и трогать не трогай – он маленький.
Бурка на мои слова и ухом не повёл. Посмотрел песец на Бурку, и растаяло у него сердечко: родню он ему напомнил – у родни ведь тоже четыре лапы и пушистый хвост. Тихо подкрался малыш к Буркиному хвосту и робко дёрнул. Пса как будто электрическим током пронзило – затрясся весь. Гневно взглянул на меня:
«Вот до чего я дожил, уж и песец стал меня оскорблять. И всё по вашей милости...»
Встал он и пошёл прочь; хвост по земле волочится. Я-то знал, о чём он в этот момент думал: «Ненавижу я этих песцов! Ненавижу!»
Совсем испортились наши отношения с Буркой. А тут ещё приключилась история с гусем...
Жил в нашем лагере дикий гусь, мы его поймали птенцом. Когда он подрос, придумали ему имя: Петька. Это был очень важный и умный гусь. По утрам он степенно провожал нас умываться и тоже барахтался в воде; днём ходил вместе с поваром собирать ягоды. Правда, ягоды собирал не в лукошко: он рвал их клювом – и проглатывал. Увидел Петька Бурку и удивился. Шею вытянул, насторожился:
«Га! Га! Откуда взялся жёлтый пёс?»
– На самолёте прилетел, – объяснил я Петьке, – очень прошу тебя любить его и жаловать.
«Жёлтого пса – никогда!» – прогоготал гусь и удалился в палатку.
Бурка конфузливо завилял хвостом: «Очень важная персона этот гусь, не подступишься к нему».
Я думал, что пройдёт день-другой и они подружатся, да не тут-то было: Петька оказался с характером. Бурку в палатке он не терпел. Сунется, бывало, Бурка в палатку, а ему сразу на пороге: «Прочь, невежа!» Проглотит пёс обиду и уйдет.
Однажды всё-таки не стерпело Буркино сердце. Вошёл он в палатку, и то ли у него дело было настолько важное, что пропустил он мимо ушей предупреждение, то ли просто не слышал окрика, только перешёл гусь от слов к делу: клюнул Бурку в нос.
«У-у-у!.. – заплакал Бурка и рассердился: – Гам! Съем я тебя, задиру!»
Гусь даже на цыпочки поднялся:
«Что?.. Вы слышали?!»
Подхватился Бурка – и ко мне:
«Либо этот гусь, либо я – выбирай».
Почесал я затылок:
– Придётся, брат, терпеть. Сам знаешь, какие они, гуси...
Понурился Бурка. По морде видно, что сильно обиделся. С этого дня стал он спать за палаткой даже в сильный дождь и за завтраком не просил у меня добавки.
Северное лето быстро прошло, и наступила осень. По ночам печальные песни запел ветер: «Скучно мне, очень скучно. Несу я холодные облака, сыплю унылый дождик. Слушайте меня те, кто в каменных домах, слушайте те, кто в деревянных, и вы, которые в палатках, тоже слушайте – всем вам скоро станет скучно...»
Послушал я ветер и в самом деле заскучал: пора уезжать в тёплые края. У геологов сборы недолги – запаковали во вьючные сумы снаряжение, сложили палатки – и завьючивай лошадей!
В один прекрасный день погрузились мы и поехали. Путь длинный. Едем день, едем два, уж и стойбище близко, где живёт Буркин хозяин: через гору перевалить да в низину спуститься, потом опять на гору и опять в низину, шесть ручьёв перейти вброд и две реки... Недалеко стойбище, да ночь ещё ближе, сзади шагает, вот-вот обгонит. Остановился наш караван, и давай мы между собой совет держать: разбивать лагерь или дальше идти. Посмотрели по сторонам: кругом болото, сырь да гниль, ни дров для костра, ни травы для лошадей – гиблое место.
– Э-э, ничего... – заговорил я. – Вчера была лунная ночь, будет и сегодня. При луне иной раз светлей, чем днём; дойдём до стойбища и ночью – по оленьей дороге.
Стемнело, и вдруг надвинулась с севера туча, снег полетел, ветер завыл, как голодная собака. Такая пурга началась, что словами не описать. С такой погодой шутки плохи – в два счёта пропасть можно.
– Ну, Бурка, – спросил я пса, – как дорогу будем искать?
Отряхнулся Бурка, презрительно фыркнул: дескать, никчёмный вы народ, пустяка сделать не можете – и повёл караван. Долго мы шли и сильно продрогли. Самое время отдохнуть, горячего чая выпить, да куда там: встала у нас на пути река, глубина саженная.
– Что скажешь, верный друг Бурка?
Оглянулся я – нет Бурки.
– Бурка! Бурка!..
«У-у-у...» – воет ветер. Видно, бросил нас Бурка в отместку за все обиды.
Совсем некстати теперь сводить Бурке счёты, плохую погоду выбрал.
Что мы делать будем?..
Стал я думать, куда нам податься, и, пока думал, так продрог, до самого сердца холод добрался. И вдруг сквозь свист ветра голос:
– Э-э-эй-эй!
Прислушался, и опять с порывом ветра:
– Э-э-э-эй!
Толкнул меня кто-то сзади, я оглянулся: Бурка, мокрый весь, только что реку переплыл.
– Что, старина, наверное, лодку привезли?..
В темноте Буркиной морды не было видно, но знал я, что он мне по-своему, по-собачьи, глазами говорил: «Пустяки всё! Через час в стойбище прибудем – там уж и похлёбку для нас из оленины варят. Я понюхал – слюнки потекли».
Приплыл с противоположной стороны человек на лодке. Людей перевёз, снаряжение перевёз, ну а лошади сами переплыли реку. Вскоре мы сидели в чуме и ели похлёбку из оленины.
Неделей позже расстались мы с Буркой. Сел я в самолёт, глянул в окно: стоит он рядом, хвостом машет. Высунулся я в дверцу и не очень громко, чтобы другие не слышали, спросил:
– Ты на меня не обижаешься? А?
Мотнул Бурка головой:
«Да ну их, эти обиды».
– Ну, тогда до лета!
«Гав! Конечно, до лета. Не забудь прислать самолёт».
