Страница:
Утром, когда утих дождь и взошло солнце, Сурок увидел у горизонта рощу и курган возле нее. Догадался: это и есть Гореловская роща и это тот самый курган, на котором живут товарищи Хомяка.
– Пойду к ним, с ними жить буду, – сказал Сурок и, встряхнувшись, побежал к роще».
– И вот он перед нами, – закончила Кири-Бум свою сказку. – Я встретила его у Ванина колодца и привела сюда. Он просит разрешить ему поселиться у нас на Маньяшином кургане. Что ты скажешь на это, Потапыч?
Потапыч сдвинул брови. Сурок стоял перед ним навытяжку желтеньким пенечком. Вокруг шумели:
– Разреши ему, Потапыч. Он хороший. И Потапыч махнул лапой:
– Живи.
– Ну вот, одним жильцом у нас в роще стало больше, – сказала черепаха. – А теперь давайте решим, записывать о нем сказку или нет.
– Как же не записывать, – басил медведь Михайло. – Раз он теперь наш, то и на березе для него должно найтись место.
Не о Сурке заботился медведь Михайло. Знал он: чем больше на березе будет выбито сказок о других, тем меньше на ней останется места для сказки о нем, а может, и вовсе не останется. Потому и басил медведь:
– Обязательно записать надо.
Страшная весть

Весь день сидел барсук Филька у окошка своего домика и с тревогой прислушивался к доносящимся с поляны голосам. Обхватывал голову лапами: «Неужели сегодня обо мне говорит Кири-Бум?»
И ждал Сороку: появится она и все расскажет.
Перед вечером небо заволокли тучи, и пошел дождь. Филька заволновался: что если испугается Сорока дождя, не прилетит, и не узнает Филька, была о нем сегодня речь у березы или нет. Может, весь день только о нем и говорили.
Но зря тревожился Филька. Прилетела Сорока, не устрашилась дождя. Вынырнула из-за сосны, затараторила:
– Иди сюда, Филька, скорее иди. Радость скажу.
– У меня окошко открыто. Я и так слышу, говори.
– Ишь ты какой, – сказала Сорока, умащиваясь на суку. – Я мокнуть на сосне буду, а ты будешь из окошка глядеть на меня. Не пойдет. Если хочешь секрет узнать выходи на улицу.
Не падким был Филька на чужие секреты. И если бы Сорока прилетела к нему с обычной своей сплетней Филька прогнал бы ее. Но Сорока знала, опозорен Филька или еще нет. И Филька вышел наружу. Дождь стучал по его узенькой голове, тяжелыми каплями скатывался с бровей.
– Ну говори скорее, с чем прилетела-то.
Но говорить Сорока не спешила. Ей было приятно видеть, как стоит Филька под дождем, мокнет. И она все возилась на суку, все умащивалась. А Филька стоял и глядел на нее, и глаза его наливались слезами: Фильке было жаль самого себя:
«Вот оно как в лесу-то жить: один раз ошибся, и потом всю жизнь тебе этой ошибкой в глаза тычут».
Увидела Сорока печальные глаза Фильки, растрогалась: как он ее, Филька-то, любит. Каждый день слушает, не прогоняет, не то что другие. Вон даже дождик его мочит, а он стоит, ждет, что скажет она ему. И, благодарная Фильке за внимание, Сорока начала свой рассказ с главной новости:
– Радуйся, Филька: завтра о тебе черепаха сказку рассказывать будет.
Сорока думала обрадовать барсука, а он испугался. Щека у него задергалась, зубы застучали:
– Откуда ты знаешь?
– Я всегда все знаю, – приподнялась на цыпочки Сорока. – Кири-Бум сказала. Приходите, говорит, завтра о Фильке рассказывать буду. Так прямо и сказала – все приходите. Вот, Филька, как она тебя любит.
– Пусть бы она лучше тебя так любила, – зло сказал Филька и пошел в избу.
Сорока прыгала на суку, кричала:
– Куда же ты, Филя? Я еще сказки сегодняшние не рассказала тебе.
– Расскажи себе их, – буркнул Филька и хлопнул дверью.
Спать в эту ночь он не мог. Постель ему казалась жесткой. И воздуху не хватало Фильке, хоть и открыты были все окна. До полуночи проворочался Филька в постели, а потом поднялся и сказал, глядя в темный угол: «Нельзя спать в такую ночь. Решается судьба моя, а я под одеялом прячусь».
Филька решил идти к черепахе Кири-Бум. Пошел. По пути к березе свернул. Омытая дождем, она тускло белела среди дубов и кленов. Сказки шли сверху, каждая в своей рамочке, каждая со своим заголовком. Филька скользнул по ним взглядом. На одном задержался. Он был особенно крупным и страшным. «ПРОВОРОВАЛСЯ» – прочитал Филька и оглянулся вокруг.
Простонал, поскрипывая зубами:
– Нет, уж лучше быть повешенным на березе, чем в такой сказке на ней пропечатанным.
И затрусил по мокрой траве к Бобровой запруде. Долго топтался на берегу, звал:
– Выйди, Кири-Бум.
Из своей хатки высунулся бобер Яшка:
– Это ты, Филька? Ты чего поздно как?
– Когда случилась нужда, тогда и пришел, – оборвал его Филька. – Тебе-то что? Спи иди.
И топтался на берегу, звал:
– Выйди Кири-Бум.
Черепаха устала да к тому же с вечера дождик брызнул, спалось ей крепко, и Филька долго не мог докликаться ее. Наконец, всплыла она со дна запруды и протирая кулаком глаза, спросила:
– Кто здесь? Кто это зовет меня?
– Я, – сказал барсук.
И черепаха узнала его по голосу: ночью она видела плохо.
– Ты – Филька? Что не спишь?
– Не до сна мне сегодня. Сорока прилетала, говорила, что ты собираешься завтра обо мне сказку рассказывать.
– О других говорила, и о тебе говорить буду.
И встал Филька на колени перед черепахой, лапы над водой вытянул:
– Не срами меня, Кири-Бум. За мной давно уж дурных дел не водится. И это теперь навсегда. Я не медведь Тяжелая Лапа, умею себе укорот сделать. Зачем же старое ворошить?
– А я и не собираюсь говорить о твоей прошлой жизни, есть что рассказать и о сегодняшней.
– Это неправда! – воскликнул Филька. – Тебя, может, в заблуждение ввели. Наговорить невесть что могут. В моей сегодняшней жизни ничего плохого нет, – сказал это Филька и вдруг вспомнил недавний сон, как он был в гостях у давнего товарища барсука Федора, и как Федор выставил его из избы за жадность.
И еще отчаяннее стал просить Филька:
– Не рассказывай, Кири-Бум.
– Не могу, – сказала черепаха и опустилась на дно запруды.
К Потапычу побежал Филька. С постели его поднял:
– Только ты один можешь спасти меня, Потапыч. Ты у нас хозяин рощи. Выручи.
– Чего тебе? – сипел со сна медведь.
– Запрети, Потапыч, записывать обо мне сказку. Не переживу я этого.
Помялся Потапыч, сказал:
– И рад бы тебе помочь, Филька, да не могу. Не я решаю, какую сказку записывать на березе, а какую нет.
– А кто же решает?
– Все. Как решат все, так и будет.
Шел Филька домой и плакал. Катились по его худым щекам слезы и падали на мокрую после дождя траву, и когда утром шла к запруде за черепахой Машута, то думала о них: «Ишь, росинки светлые какие».
Есть друг и у Фильки
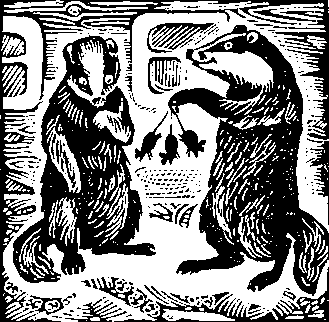
Всю ночь Филька не сомкнул глаз. То на завалинке сидел, то ходил перед окнами и все думал, думал. Жизнь к концу продвинулась, было о чем подумать. А звезды медленно, но упрямо поворачивали к рассвету. С рассветом пришла в рощу заря и алым пламенем подожгла небо.
Постаревший и осунувшийся за ночь Филька поднялся с завалинки.
– Пойду хоть послушаю, как будут убивать меня.
И пошел к березе. Он не был первым. За кустом малины стоял Кабан и похрюкивал. Погорячился Кабан, когда рассказывала черепаха сказку о Мышонке, и ушел от березы. Ждал: позовут его. Но позвать никто не догадался. Вот и прячется с той поры Кабан каждый день за кустом, но прячется так, что его наполовину видно.
Филька спрятался по-настоящему. Из-за куста видел он, как уверенно и солидно прошел к березе медведь Михайло и прочно опустился на поваленную липу. Липа охнула под ним и вдавилась в землю.
Прибежал Енот. Встал перед березой. Почмокал губами:
– И все-таки зря в конце сказки обо мне дятел поставил две точки. Ни к чему они.
И сел возле медведя Михайлы.
Пришел медведь Сидор. Постоял у березы, поглядел на сказку о себе, хмыкнул:
– Вот ведь как! Живешь ты и не знаешь, что из твоей жизни в сказку угодит.
И сел возле Енота. Потом взял его под мышки и поднял. Енот задергался, завизжал:
– Ой, щекотки боюсь.
Сидор пересадил его к себе с левой стороны, а сам к медведю Михайле подвинулся.
– Так будет правильней, а, Михайло? А скажи, приятно это, когда о тебе сказку на березе выбивают?
– Кому как, – буркнул медведь Михайло. Говорить с Сидором у него охоты не было. Михайло с опаской поглядывал на березу: как много на ней еще места. Вполне может хватить и на сказку о нем.
«Запишут в самом низу, и будет всякая лесная мелочь нос совать и зубы скалить», – думал медведь Михайло и горбил плечи: вот житье пришло невеселое.
Пришла Машута и принесла черепаху Кири-Бум. Она уселась поудобнее на своем пеньке и вздохнула:
– Вроде и не шла, а устала.
«Вот она, посрамительница моя», – глядя на черепаху из-за куста малины, думал Филька и даже не замечал, что царапает когтями землю.
Прилетел Ду-Дук. Окинул березу гордым взглядом.
– Исписал сколько! Сейчас вот еще Фильку впишу.
«Типун тебе на язык», – подумал Филька и вздохнул. Кабан тоже вздохнул и захрюкал: дескать, слышите – здесь я, зовите меня.
Подполз к кусту заяц с рыжими усами. Толкнул Кабана под бок.
– Обо мне еще не было речи?
– Ни о ком еще пока не было?
– А будут обо мне говорить, не знаешь?
– Откуда мне знать?
– А ты спроси, чего тебе стоит? Замолви за меня словечко.
– Обо мне самом кто бы замолвил. Ты разве не видишь, я под кустом прячусь? И вообще, шел бы ты, милый, домой, не до тебя тут.
– Нет, я домой не пойду. Я ждать буду, – сказал заяц и, подкрутив рыжие усы, вдвинулся в куст.
Черепаха Кири-Бум откашлялась и подняла лапку.
– Давайте начинать. Слушайте сказку о Фильке. Ты, Ду-Дук, покрупнее ее выбей.
«Эх, – чуть не плакал за кустом Филька. – Мелко обо мне ее не устраивает, ей покрупнее надо».
И сразу темно у Фильки в глазах стало, и звучал в темноте голос черепахи:
«Вы, наверное, знаете, что у барсука Фильки никогда друзей не было. Говорил Филька:
– Друг – это одно беспокойство. То к тебе в гости пожалует, то тебя к себе в гости уведет.
И поэтому жил Филька без друзей, чтобы никакого беспокойства не было. И вот как-то поселился рядом о ним барсук из Осинников. Голодно ему там стало, он и перебрался к нам со своей семьей.
Вечером к Фильке пришел:
– У тебя там не найдется поесть чего-нибудь, сосед? Пока устраивался на новом месте, ничего достать не успел. Я бы сам и так переспал, да ребятишки пристали – сходи, попроси у соседа чего-нибудь.
У Фильки были припрятаны в кладовке три мыша да лягушка. Филька всегда с запасцем живет. Всего у него вдосталь. И есть он не хотел, поужинал уже. Можно было отдать соседу, но так рассудил Филька: бойкий какой сосед у него поселился. Не успел оглядеться и уже просить идет. Навадишь, так и будет ходить потом, дай да дай. И не отучишь.
Сказал Филька:
– Со всей душой угостил бы тебя, да нет ничего.
– Ну ладно, так переспим, – извинился сосед и закрыл за собой дверь.
Долго в ту ночь не мог уснуть Филька. Ворочался, ворчал:
– Нестоящий сосед угодил мне. Привык, наверное, у себя там в Осинниках шататься и у нас с того же начинает. И язык повернулся слово такое сказать – дай. Мне самому будто не надо. Лакомый на чужое.
Уснул уж под утро. Но спал недолго. Вышел ко двору, смотрит, а уж сосед с охоты возвращается, связку мышей несет. Отобрал парочку пожирнее, протянул Фильке.
– На, сосед, когда ты еще себе добудешь, а перехватишь малость, оно на душе-то спокойнее будет. Бери.
Отчего не взять, коли дают? Взял Филька, подумал: «Чудной какой-то сосед у меня. У самого детей куча, а он со мной делится».
В другой раз наловил сосед лягушек на озере и опять парочку Фильке занес. Фильки у двора не было, так он ему в окошко подал:
– Развлекись маленько.
И опять улыбнулся Филька: Ну и сосед. Глупый, видать, всем делится. И не просишь, сам дает. Нисколько экономить не умеет. Ну и пусть делится, разве Фильке от этого хуже.
Как-то увидел Филька – сосед суслика поймал. И захотелось ему суслятинки отведать. Пришел он к соседу, просит:
– Дай кусочек.
А сосед обрадовался, что Филька навестил его. Всегда мимо поскорее норовил пройти, а это зашел. Всего суслика отдает ему:
– Чего там кусочек, целого бери.
Опешил Филька, попятился даже.
– А ты как же? Ты еще, поди, не ужинал.
– Обойдусь.
– И дети вон у тебя.
– И они потерпят. Бери, бери, я себе завтра еще добуду. А мы сегодня можем и без ужина обойтись: мы в обед сытно поели.
Дома у Фильки хомяк припрятанный лежал. Было Фильке поесть что, а сосед последнее отдал, и себя и детей без ужина оставил. Нес Филька суслика к себе и тяжелым он казался ему. Стыдно было Фильке, первый раз в жизни стыдно было.
И не выдержал Филька, воротился с половины дороги и отдал соседу суслика.
– Понимаешь, – говорит, – пока шел от тебя, хомяка поймал. Идем ко мне. И ребят своих бери, заодно поужинаем.
– Да они уже спать легли.
– Ну возьми тогда суслика-то. Утром они встанут, ты и покормишь их, а сам идем ко мне. Знаешь, какой хомяк большой попался. Одному мне его ни за что не съесть».
У Фильки радостью зашлось сердце: какую черепаха сказку о нем хорошую рассказывает. И плыли глаза Фильки: «Значит, разглядела Кири-Бум рассвет в душе моей. И с маленькими глазками, а глубоко видит». А возле березы переговаривались:
– Вот это сказка.
– Да, до слез трогает.
– И без дополнительных точек в конце.
– А зачем они? И так все ясно – выправляется Филька, друзьями обзаводится.
– Жаль, нет его с нами. Болеет, говорят, а то бы и он порадовался.
– Да здесь я, здесь, – закричал растроганный Филька и высунулся из-за куста.
И повернулись все к нему. Медведь Сидор лапы расставил.
– Правда, он. Глядите – Филька наш. Иди сюда, я тебя обойму. Обо мне ведь тоже сказку Кири-Бум рассказывала. Я барана волку разделил, а она узнала об этом. Да иди же сюда, чего ты там стоишь.
«Ну вот, его зовут, а меня вроде и не замечает никто», – подумал Кабан и сказал:
– И правда, что ж ты стоишь, Филька, иди.
– Я пойду, пойду я, – тер обмякший Филька глаза кулаком. – И ты, Кабан, айда, что ты все тут за кустом хрюкаешь. Негоже от товарищей прятаться.
– Да, да, негоже, – сказал повеселевший Кабан: все-таки его позвали – и тоже вышел из-за куста.
Кто кого перехитрит

Не была в тот день Лиса на сказках у березы: проспала. Проснулась утром, слышит – гудит уже полянка, и не пошла. Дома весь день просидела. И как раз в этот день Кири-Бум рассказывала о ней сказку. Будь Лиса у березы, может, и удалось бы ей упросить не записывать ее, но Лисы не было, и никто за нее не заступился. И дятел выбил на белой коре черными буквами:
«Встретились молодая Лиса и старая. Молодая была из Гореловской рощи, старая – из Осинников. Подружились и пошли на охоту. Принесли яйцо и курицу. Как поделить?
Смотрит лиса из Гореловской рощи на лису из Осинников и думает: «Я моложе моей подружки, ум у меня резвее. Соображу сейчас, как мне ее хитрее провести, и курица будет моя».
И говорит:
– Одна курица – это, конечно, плохо. Но у нас есть еще яйцо, а яйцо – это ведь тоже курица. Правда, она еще не родилась, но готова родиться. Как ты думаешь, подружка?
– Так же, – сказала старая лиса и не проронила больше ни слова.
«Отлично, – обрадовалась молодая лиса, – отдам ей сейчас яйцо, а себе возьму курицу».
Взяла молодая лиса яйцо, поднесла к уху. Послушала. На свет поглядела. Похвалила:
– Большая курица в нем запрятана: и на слух слышно и на свет видно. Погляди ты еще, подружка.
Взяла яйцо старая лиса. На свет поглядела, к уху поднесла, послушала.
Не терпится молодой лисе. Спрашивает:
– Ну как ты думаешь?
– Так же, – сказала старая лиса. – Большая курица в яйце запрятана. Шейка белая, ножки желтенькие. И жирная. Куда жирнее той, что принесли мы.
– Вот-вот, – завела под лоб глазки, вздохнула. – Эх, жалко, конечно, ну да ладно: ты постарше меня, бери себе лучшую курицу. Ту, что в яйце. Она пожирнее. А я, так уж и быть, эту возьму, тощую. Я помоложе.
И протянула старой лисе яйцо. Но сказала старая лиса:
– Не жалей. Оставь эту жирную курицу себе. Тебе расти надо, она тебе нужнее. А я уж выросла, мне и тощую девать некуда. И придвинула к себе курицу.
И перестала лиса из Гореловской рощи дружить с лисой из Осинников: она не любит, когда обманывают ее».
Нет, если бы Лиса была в этот день у березы, она бы, конечно, постаралась доказать, что сказка плохая. Но Лисы не было. И вечером Енот побежал к Лисе, понес ей неприятное известие и свое сочувствие.
Они не были друзьями. Лиса не раз обжуливала Енота и, когда судили за плутовство Лису, Енот одним из первых заявил:
– Повесить ее, плутовку.
И даже когда советовались последний раз: разрешить вернуться Лисе в родную рощу или нет, Енот крепко стоял на своем:
– Ни в коем случае.
Но сумела найти Лиса тропку к сердцу Енота. То просила вместе с ним, чтобы о нем, о Еноте, сказку рассказала Кири-Бум, то потом сочувствовала ему:
– Ни за что обидела тебя Кири-Бум.
И это участие Лисы особенно тронуло Енота. Оттаяло у него сердце. Терпеливее стал он относиться к Лисе, обедом с ней делился своим. Все эти дни она ему сочувствовала, теперь Енот бежал ей посочувствовать.
В окошко увидела Лиса Енота. Встречать выбежала.
– Я так рада, так рада.
Поглядел на нее Енот и поморщился:
– Ты что непричесанная какая?
Опустила глаза Лиса:
– Это меня ветер растрепал. Я так спешила к тебе… Но что же мы на крыльце стоим, в сени идем.
Вошел Енот в сени к Лисе и опять поморщился:
– Что же у тебя намусорено как? Ступить некуда. За собой убрать не можешь.
– Это только в сенях так, – виляла Лиса хвостом. – В избу входи.
Вошел Енот. Смотрит, а у Лисы и в избе ступить некуда.
– Э, да у тебя, Лиса, и в избе не красно.
– Это ногами из сеней нанесли. Но куда же ты? Побудь у меня хоть часок.
Енот хотел было остаться, но поглядел, а на столе у Лисы посуда со вчерашнего дня немытая стоит. Хлопнул дверью и пошел прочь.
Бежала сбоку возле него Лиса, оправдывалась:
– Засиделась вчера допоздна за столом, убрать уж сил не хватило. Приходи в другой раз, я все везде вы скоблю, отмою. Тебе у меня понравится.
И тут же – раз, раз! – и пригладила коротенькие волосы на голове. Умылась из лужи и вроде ничего стала. Сказал Енот:
– Идем к березе. Там о тебе сказку дятел выбил, как тебя старая лиса из Осинников обманула. Сама курицу съела, а тебе яйцо дала. Все так смеялись.
– Надо мной?
– Над кем же еще? О тебе сказка.
Глазки у Лисы сузились. Губы поджались: Лисе не нравилось, когда над нею смеются. Спросила сухо и зло:
– А ты куда это идешь со мной?
– К березе.
– Я и без тебя дорогу знаю.
– Ну и пожалуйста, – обиделся Енот и свернул вправо.
Прибежала Лиса к березе, прочитала о себе сказку, скрипнула зубами:
– У, Кири-Бушка, чтоб тебе в собственной запруде водой захлебнуться. Эх, уж лучше бы меня повесили, чем в такой сказке навсегда жить оставили. И что за день выдался? Ни одной удачи. То проспала, то теперь сказка эта. И еще есть хочется.
Но тут же сказала сама себе Лиса:
– Из любой беды можно найти выход, главное – голову не терять.
И стала прикидывать: у кого бы ей поужинать. Можно было к Еноту пойти, если бы она не обидела его. Он же хотел ей сочувствие выразить, а значит, и накормил бы.
– Теперь не накормит. И думать нечего. Схожу-ка я лучше к медведю Спиридону. Сердце у него доброе. Да и улыбнулся он мне на прошлой неделе, авось и покормит.
Прибегает Лиса к медведю, а на двери у него – замок, а на замке – записка: «Меня дома нет. Ушел к Лаврентию. Привет!»
Лиса сорвала с двери записку, растерзала ее на клочки. Ну и денек! Хоть и большая Гореловская роща, а поесть пойти некуда.
Навестил медведь друга

Всего один раз побыл медведь Спиридон у березы на сказках черепахи Кири-Бум. Больше не ходил.
– Уйду я, – говорит, – а Лаврентий придет. Увидит – нет меня, уйдет. И мы не встретимся. Я лучше потом прочту, какие сказки будут записаны, зато встречу друга.
Но друг не шел. Напрасно просиживал медведь Спиридон на завалинке, поджидая его. Садился раненько поутру и сидел. Хрупнет сухая ветка в чаще, встрепенется медведь:
– Не Лаврентий ли это?
И уж готов подняться навстречу, да не идет никто. Свесит большую голову на грудь и сидит, угрюмый. И так до вечера. Поглядит иной раз на берлогу медведя Лаврентия и вздохнет тяжело:
– Как быстро дичает она. Травой уже заросла, будто и не жил в ней никто.
А вечером поднимется и скажет:
– Значит, и сегодня не будет.
И идет в берлогу. Но и в берлоге все о том же думает. Ляжет в постель, а покой не берет.
– Что же не идешь ты, Лаврентий? Или сообщил бы с кем, где живешь ты, я бы сам навестил тебя. Говорил когда-то: ото всего отрекусь, а с тобой не расстанусь тут… Эх, ты.
И вспоминал последнюю встречу с медведем Лаврентием. Минувшей осенью это было. Сидел Лаврентий возле медведя Спиридона и жаловался:
– Сова из Осинников прилетела, сказывала: опять со всеми соседями переругался Афоня мой. Хотят его из Осинников выселить. И что ему добром не живется. Решил я к нему пойти. Внуков нянчить буду да и Афоне мудрость свою житейскую передавать.
Простились они. Ушел Лаврентий, а медведь Спиридон всю зиму ворочался в берлоге да думал: «Ох, Лаврентий. Лаврентий, не насмешил бы ты Осинники мудростью своей житейской. Научишь чему-нибудь сынка, а он поймет это по-своему и оконфузит тебя, как с мостом оконфузил».
И с первых дней весны все ждал медведь Спиридон – навестит его Лаврентий или весточку пришлет. А Лаврентий ни сам не шел и не присылал никого.
«Может, болеет», – думал по ночам медведь Спиридон. И однажды решился:
– Пойду, Осинники не так уж велики. Кто-нибудь укажет, где живет Лаврентий.
Долго добирался медведь Спиридон, не те годы стали, чтобы в эдакую даль по гостям ходить, да и в Осинниках не вдруг отыскался Лаврентий. Не знали его еще в Осинниках, а про Афоню медведь Спиридон спросить не догадался. Но все-таки нашел. Подходил к берлоге, тревожился:
– Застать бы дома. Вдруг я к нему иду, а он ко мне отправился? Ждать придется.
Но зря тревожился медведь Спиридон.
Дома был Лаврентий. Сидел на лавке в берлоге, внука причесывал. Увидел медведя Спиридона, обрадовался:
– Спиридоша! Ты!
И медведь Спиридон ему обрадовался:
– Лаврентий, живой!
И прижал его к груди, по спине похлопал. Повторял, роняя на плечо слезы:
– Живой, гни тебя в дугу.
Растрогался и медведь Лаврентий, запершило и у него в горле:
– И живой, и здоров. Внуков вот нянчу. Спиридоша, как же ты отчаялся с твоим здоровьем идти ко мне в такую даль?
– Что ты, – сказал медведь Спиридон. – Разве дорога к другу может быть далекой?
И опустился на стул, с трудом перевел дыхание.
– Не ходок стал. Воздуху не хватает. Думал: и не дойду. Не те годы стали, чтобы по гостям ходить. Ты ведь моложе меня, вон в тебе еще сколько силы. Так меня сдавил, что даже кости хрустнули.
– Как же ты отчаялся, Спиридоша? Ведь и в самом деле путь-то не близкий.
– Что ты мне все о дороге твердишь? Проведать тебя хотел, вот и пришел. Думал, болеешь ты, а ты здоров, вон как сдавил меня.
И вспомнил тут Лаврентий, что как ушел он из Гореловской рощи, как закрутился с сыном да с внуками, так и не сумел ни разу выбраться к медведю Спиридону, а вот передать с кем-нибудь, где живет, не догадался. Вспомнил и глаза опустил:
– Я сам к тебе собирался, да времени все как-то не было. Ты не думай, Спиридон, меня ведь тоже не пугает дорога дальняя.
– А я и не думаю вовсе, – вздохнул медведь Спиридон, – я же тебя повидал теперь. Вижу, не болеешь ты, зачем мне думать… А я тебе вот ягод из нашей рощи принес.
Ивашка все помнит

Выбил дятел Ду-Дук на березе очередную сказку, сказал:
– Все. На одну только сказку место на березе осталось.
– Ну что ж, эту последнюю сказку мы запишем завтра, – сказала черепаха Кири-Бум. – Вы отдохнете за ночь, да и я подумаю, о ком рассказать.
И сдвинулась с пенечка. Тут к ней и подошел Ивашка:
– Сегодня годовщина со дня смерти моей мамы. Пойдем, Кири-Бум, побудь у меня до завтра. О маме моей поговорим.
Черепаха любила медведицу Авдотью, пошла с Ивашкой. Весь вечер говорили о ней.
– Помаялась она с тобой, – говорила черепаха и пила из блюдца чай с малиновым вареньем. – Озорник ты был, Ивашка. Забыл, наверное, как больным притворялся и ничего делать по дому не хотел?
– Как можно забыть это? – говорил Ивашка и подливал черепахе чай из чайничка.
Правду говорил. Этот случай он хорошо помнил. Попросила его как-то вечером мать:
– Сходи, сынок, налови в речке раков, поужинаем.
Поужинать Ивашка был не прочь, а вот в речку за раками лезть, мокнуть в студеной воде на ночь глядя не хотелось. Но ведь так прямо не скажешь матери – не пойду. Она ведь может и за вихры оттаскать. Да и поругивала уже не раз мать Ивашку:
– Пойду к ним, с ними жить буду, – сказал Сурок и, встряхнувшись, побежал к роще».
– И вот он перед нами, – закончила Кири-Бум свою сказку. – Я встретила его у Ванина колодца и привела сюда. Он просит разрешить ему поселиться у нас на Маньяшином кургане. Что ты скажешь на это, Потапыч?
Потапыч сдвинул брови. Сурок стоял перед ним навытяжку желтеньким пенечком. Вокруг шумели:
– Разреши ему, Потапыч. Он хороший. И Потапыч махнул лапой:
– Живи.
– Ну вот, одним жильцом у нас в роще стало больше, – сказала черепаха. – А теперь давайте решим, записывать о нем сказку или нет.
– Как же не записывать, – басил медведь Михайло. – Раз он теперь наш, то и на березе для него должно найтись место.
Не о Сурке заботился медведь Михайло. Знал он: чем больше на березе будет выбито сказок о других, тем меньше на ней останется места для сказки о нем, а может, и вовсе не останется. Потому и басил медведь:
– Обязательно записать надо.
Страшная весть

Весь день сидел барсук Филька у окошка своего домика и с тревогой прислушивался к доносящимся с поляны голосам. Обхватывал голову лапами: «Неужели сегодня обо мне говорит Кири-Бум?»
И ждал Сороку: появится она и все расскажет.
Перед вечером небо заволокли тучи, и пошел дождь. Филька заволновался: что если испугается Сорока дождя, не прилетит, и не узнает Филька, была о нем сегодня речь у березы или нет. Может, весь день только о нем и говорили.
Но зря тревожился Филька. Прилетела Сорока, не устрашилась дождя. Вынырнула из-за сосны, затараторила:
– Иди сюда, Филька, скорее иди. Радость скажу.
– У меня окошко открыто. Я и так слышу, говори.
– Ишь ты какой, – сказала Сорока, умащиваясь на суку. – Я мокнуть на сосне буду, а ты будешь из окошка глядеть на меня. Не пойдет. Если хочешь секрет узнать выходи на улицу.
Не падким был Филька на чужие секреты. И если бы Сорока прилетела к нему с обычной своей сплетней Филька прогнал бы ее. Но Сорока знала, опозорен Филька или еще нет. И Филька вышел наружу. Дождь стучал по его узенькой голове, тяжелыми каплями скатывался с бровей.
– Ну говори скорее, с чем прилетела-то.
Но говорить Сорока не спешила. Ей было приятно видеть, как стоит Филька под дождем, мокнет. И она все возилась на суку, все умащивалась. А Филька стоял и глядел на нее, и глаза его наливались слезами: Фильке было жаль самого себя:
«Вот оно как в лесу-то жить: один раз ошибся, и потом всю жизнь тебе этой ошибкой в глаза тычут».
Увидела Сорока печальные глаза Фильки, растрогалась: как он ее, Филька-то, любит. Каждый день слушает, не прогоняет, не то что другие. Вон даже дождик его мочит, а он стоит, ждет, что скажет она ему. И, благодарная Фильке за внимание, Сорока начала свой рассказ с главной новости:
– Радуйся, Филька: завтра о тебе черепаха сказку рассказывать будет.
Сорока думала обрадовать барсука, а он испугался. Щека у него задергалась, зубы застучали:
– Откуда ты знаешь?
– Я всегда все знаю, – приподнялась на цыпочки Сорока. – Кири-Бум сказала. Приходите, говорит, завтра о Фильке рассказывать буду. Так прямо и сказала – все приходите. Вот, Филька, как она тебя любит.
– Пусть бы она лучше тебя так любила, – зло сказал Филька и пошел в избу.
Сорока прыгала на суку, кричала:
– Куда же ты, Филя? Я еще сказки сегодняшние не рассказала тебе.
– Расскажи себе их, – буркнул Филька и хлопнул дверью.
Спать в эту ночь он не мог. Постель ему казалась жесткой. И воздуху не хватало Фильке, хоть и открыты были все окна. До полуночи проворочался Филька в постели, а потом поднялся и сказал, глядя в темный угол: «Нельзя спать в такую ночь. Решается судьба моя, а я под одеялом прячусь».
Филька решил идти к черепахе Кири-Бум. Пошел. По пути к березе свернул. Омытая дождем, она тускло белела среди дубов и кленов. Сказки шли сверху, каждая в своей рамочке, каждая со своим заголовком. Филька скользнул по ним взглядом. На одном задержался. Он был особенно крупным и страшным. «ПРОВОРОВАЛСЯ» – прочитал Филька и оглянулся вокруг.
Простонал, поскрипывая зубами:
– Нет, уж лучше быть повешенным на березе, чем в такой сказке на ней пропечатанным.
И затрусил по мокрой траве к Бобровой запруде. Долго топтался на берегу, звал:
– Выйди, Кири-Бум.
Из своей хатки высунулся бобер Яшка:
– Это ты, Филька? Ты чего поздно как?
– Когда случилась нужда, тогда и пришел, – оборвал его Филька. – Тебе-то что? Спи иди.
И топтался на берегу, звал:
– Выйди Кири-Бум.
Черепаха устала да к тому же с вечера дождик брызнул, спалось ей крепко, и Филька долго не мог докликаться ее. Наконец, всплыла она со дна запруды и протирая кулаком глаза, спросила:
– Кто здесь? Кто это зовет меня?
– Я, – сказал барсук.
И черепаха узнала его по голосу: ночью она видела плохо.
– Ты – Филька? Что не спишь?
– Не до сна мне сегодня. Сорока прилетала, говорила, что ты собираешься завтра обо мне сказку рассказывать.
– О других говорила, и о тебе говорить буду.
И встал Филька на колени перед черепахой, лапы над водой вытянул:
– Не срами меня, Кири-Бум. За мной давно уж дурных дел не водится. И это теперь навсегда. Я не медведь Тяжелая Лапа, умею себе укорот сделать. Зачем же старое ворошить?
– А я и не собираюсь говорить о твоей прошлой жизни, есть что рассказать и о сегодняшней.
– Это неправда! – воскликнул Филька. – Тебя, может, в заблуждение ввели. Наговорить невесть что могут. В моей сегодняшней жизни ничего плохого нет, – сказал это Филька и вдруг вспомнил недавний сон, как он был в гостях у давнего товарища барсука Федора, и как Федор выставил его из избы за жадность.
И еще отчаяннее стал просить Филька:
– Не рассказывай, Кири-Бум.
– Не могу, – сказала черепаха и опустилась на дно запруды.
К Потапычу побежал Филька. С постели его поднял:
– Только ты один можешь спасти меня, Потапыч. Ты у нас хозяин рощи. Выручи.
– Чего тебе? – сипел со сна медведь.
– Запрети, Потапыч, записывать обо мне сказку. Не переживу я этого.
Помялся Потапыч, сказал:
– И рад бы тебе помочь, Филька, да не могу. Не я решаю, какую сказку записывать на березе, а какую нет.
– А кто же решает?
– Все. Как решат все, так и будет.
Шел Филька домой и плакал. Катились по его худым щекам слезы и падали на мокрую после дождя траву, и когда утром шла к запруде за черепахой Машута, то думала о них: «Ишь, росинки светлые какие».
Есть друг и у Фильки
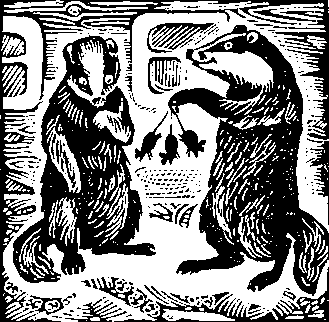
Всю ночь Филька не сомкнул глаз. То на завалинке сидел, то ходил перед окнами и все думал, думал. Жизнь к концу продвинулась, было о чем подумать. А звезды медленно, но упрямо поворачивали к рассвету. С рассветом пришла в рощу заря и алым пламенем подожгла небо.
Постаревший и осунувшийся за ночь Филька поднялся с завалинки.
– Пойду хоть послушаю, как будут убивать меня.
И пошел к березе. Он не был первым. За кустом малины стоял Кабан и похрюкивал. Погорячился Кабан, когда рассказывала черепаха сказку о Мышонке, и ушел от березы. Ждал: позовут его. Но позвать никто не догадался. Вот и прячется с той поры Кабан каждый день за кустом, но прячется так, что его наполовину видно.
Филька спрятался по-настоящему. Из-за куста видел он, как уверенно и солидно прошел к березе медведь Михайло и прочно опустился на поваленную липу. Липа охнула под ним и вдавилась в землю.
Прибежал Енот. Встал перед березой. Почмокал губами:
– И все-таки зря в конце сказки обо мне дятел поставил две точки. Ни к чему они.
И сел возле медведя Михайлы.
Пришел медведь Сидор. Постоял у березы, поглядел на сказку о себе, хмыкнул:
– Вот ведь как! Живешь ты и не знаешь, что из твоей жизни в сказку угодит.
И сел возле Енота. Потом взял его под мышки и поднял. Енот задергался, завизжал:
– Ой, щекотки боюсь.
Сидор пересадил его к себе с левой стороны, а сам к медведю Михайле подвинулся.
– Так будет правильней, а, Михайло? А скажи, приятно это, когда о тебе сказку на березе выбивают?
– Кому как, – буркнул медведь Михайло. Говорить с Сидором у него охоты не было. Михайло с опаской поглядывал на березу: как много на ней еще места. Вполне может хватить и на сказку о нем.
«Запишут в самом низу, и будет всякая лесная мелочь нос совать и зубы скалить», – думал медведь Михайло и горбил плечи: вот житье пришло невеселое.
Пришла Машута и принесла черепаху Кири-Бум. Она уселась поудобнее на своем пеньке и вздохнула:
– Вроде и не шла, а устала.
«Вот она, посрамительница моя», – глядя на черепаху из-за куста малины, думал Филька и даже не замечал, что царапает когтями землю.
Прилетел Ду-Дук. Окинул березу гордым взглядом.
– Исписал сколько! Сейчас вот еще Фильку впишу.
«Типун тебе на язык», – подумал Филька и вздохнул. Кабан тоже вздохнул и захрюкал: дескать, слышите – здесь я, зовите меня.
Подполз к кусту заяц с рыжими усами. Толкнул Кабана под бок.
– Обо мне еще не было речи?
– Ни о ком еще пока не было?
– А будут обо мне говорить, не знаешь?
– Откуда мне знать?
– А ты спроси, чего тебе стоит? Замолви за меня словечко.
– Обо мне самом кто бы замолвил. Ты разве не видишь, я под кустом прячусь? И вообще, шел бы ты, милый, домой, не до тебя тут.
– Нет, я домой не пойду. Я ждать буду, – сказал заяц и, подкрутив рыжие усы, вдвинулся в куст.
Черепаха Кири-Бум откашлялась и подняла лапку.
– Давайте начинать. Слушайте сказку о Фильке. Ты, Ду-Дук, покрупнее ее выбей.
«Эх, – чуть не плакал за кустом Филька. – Мелко обо мне ее не устраивает, ей покрупнее надо».
И сразу темно у Фильки в глазах стало, и звучал в темноте голос черепахи:
«Вы, наверное, знаете, что у барсука Фильки никогда друзей не было. Говорил Филька:
– Друг – это одно беспокойство. То к тебе в гости пожалует, то тебя к себе в гости уведет.
И поэтому жил Филька без друзей, чтобы никакого беспокойства не было. И вот как-то поселился рядом о ним барсук из Осинников. Голодно ему там стало, он и перебрался к нам со своей семьей.
Вечером к Фильке пришел:
– У тебя там не найдется поесть чего-нибудь, сосед? Пока устраивался на новом месте, ничего достать не успел. Я бы сам и так переспал, да ребятишки пристали – сходи, попроси у соседа чего-нибудь.
У Фильки были припрятаны в кладовке три мыша да лягушка. Филька всегда с запасцем живет. Всего у него вдосталь. И есть он не хотел, поужинал уже. Можно было отдать соседу, но так рассудил Филька: бойкий какой сосед у него поселился. Не успел оглядеться и уже просить идет. Навадишь, так и будет ходить потом, дай да дай. И не отучишь.
Сказал Филька:
– Со всей душой угостил бы тебя, да нет ничего.
– Ну ладно, так переспим, – извинился сосед и закрыл за собой дверь.
Долго в ту ночь не мог уснуть Филька. Ворочался, ворчал:
– Нестоящий сосед угодил мне. Привык, наверное, у себя там в Осинниках шататься и у нас с того же начинает. И язык повернулся слово такое сказать – дай. Мне самому будто не надо. Лакомый на чужое.
Уснул уж под утро. Но спал недолго. Вышел ко двору, смотрит, а уж сосед с охоты возвращается, связку мышей несет. Отобрал парочку пожирнее, протянул Фильке.
– На, сосед, когда ты еще себе добудешь, а перехватишь малость, оно на душе-то спокойнее будет. Бери.
Отчего не взять, коли дают? Взял Филька, подумал: «Чудной какой-то сосед у меня. У самого детей куча, а он со мной делится».
В другой раз наловил сосед лягушек на озере и опять парочку Фильке занес. Фильки у двора не было, так он ему в окошко подал:
– Развлекись маленько.
И опять улыбнулся Филька: Ну и сосед. Глупый, видать, всем делится. И не просишь, сам дает. Нисколько экономить не умеет. Ну и пусть делится, разве Фильке от этого хуже.
Как-то увидел Филька – сосед суслика поймал. И захотелось ему суслятинки отведать. Пришел он к соседу, просит:
– Дай кусочек.
А сосед обрадовался, что Филька навестил его. Всегда мимо поскорее норовил пройти, а это зашел. Всего суслика отдает ему:
– Чего там кусочек, целого бери.
Опешил Филька, попятился даже.
– А ты как же? Ты еще, поди, не ужинал.
– Обойдусь.
– И дети вон у тебя.
– И они потерпят. Бери, бери, я себе завтра еще добуду. А мы сегодня можем и без ужина обойтись: мы в обед сытно поели.
Дома у Фильки хомяк припрятанный лежал. Было Фильке поесть что, а сосед последнее отдал, и себя и детей без ужина оставил. Нес Филька суслика к себе и тяжелым он казался ему. Стыдно было Фильке, первый раз в жизни стыдно было.
И не выдержал Филька, воротился с половины дороги и отдал соседу суслика.
– Понимаешь, – говорит, – пока шел от тебя, хомяка поймал. Идем ко мне. И ребят своих бери, заодно поужинаем.
– Да они уже спать легли.
– Ну возьми тогда суслика-то. Утром они встанут, ты и покормишь их, а сам идем ко мне. Знаешь, какой хомяк большой попался. Одному мне его ни за что не съесть».
У Фильки радостью зашлось сердце: какую черепаха сказку о нем хорошую рассказывает. И плыли глаза Фильки: «Значит, разглядела Кири-Бум рассвет в душе моей. И с маленькими глазками, а глубоко видит». А возле березы переговаривались:
– Вот это сказка.
– Да, до слез трогает.
– И без дополнительных точек в конце.
– А зачем они? И так все ясно – выправляется Филька, друзьями обзаводится.
– Жаль, нет его с нами. Болеет, говорят, а то бы и он порадовался.
– Да здесь я, здесь, – закричал растроганный Филька и высунулся из-за куста.
И повернулись все к нему. Медведь Сидор лапы расставил.
– Правда, он. Глядите – Филька наш. Иди сюда, я тебя обойму. Обо мне ведь тоже сказку Кири-Бум рассказывала. Я барана волку разделил, а она узнала об этом. Да иди же сюда, чего ты там стоишь.
«Ну вот, его зовут, а меня вроде и не замечает никто», – подумал Кабан и сказал:
– И правда, что ж ты стоишь, Филька, иди.
– Я пойду, пойду я, – тер обмякший Филька глаза кулаком. – И ты, Кабан, айда, что ты все тут за кустом хрюкаешь. Негоже от товарищей прятаться.
– Да, да, негоже, – сказал повеселевший Кабан: все-таки его позвали – и тоже вышел из-за куста.
Кто кого перехитрит

Не была в тот день Лиса на сказках у березы: проспала. Проснулась утром, слышит – гудит уже полянка, и не пошла. Дома весь день просидела. И как раз в этот день Кири-Бум рассказывала о ней сказку. Будь Лиса у березы, может, и удалось бы ей упросить не записывать ее, но Лисы не было, и никто за нее не заступился. И дятел выбил на белой коре черными буквами:
«Встретились молодая Лиса и старая. Молодая была из Гореловской рощи, старая – из Осинников. Подружились и пошли на охоту. Принесли яйцо и курицу. Как поделить?
Смотрит лиса из Гореловской рощи на лису из Осинников и думает: «Я моложе моей подружки, ум у меня резвее. Соображу сейчас, как мне ее хитрее провести, и курица будет моя».
И говорит:
– Одна курица – это, конечно, плохо. Но у нас есть еще яйцо, а яйцо – это ведь тоже курица. Правда, она еще не родилась, но готова родиться. Как ты думаешь, подружка?
– Так же, – сказала старая лиса и не проронила больше ни слова.
«Отлично, – обрадовалась молодая лиса, – отдам ей сейчас яйцо, а себе возьму курицу».
Взяла молодая лиса яйцо, поднесла к уху. Послушала. На свет поглядела. Похвалила:
– Большая курица в нем запрятана: и на слух слышно и на свет видно. Погляди ты еще, подружка.
Взяла яйцо старая лиса. На свет поглядела, к уху поднесла, послушала.
Не терпится молодой лисе. Спрашивает:
– Ну как ты думаешь?
– Так же, – сказала старая лиса. – Большая курица в яйце запрятана. Шейка белая, ножки желтенькие. И жирная. Куда жирнее той, что принесли мы.
– Вот-вот, – завела под лоб глазки, вздохнула. – Эх, жалко, конечно, ну да ладно: ты постарше меня, бери себе лучшую курицу. Ту, что в яйце. Она пожирнее. А я, так уж и быть, эту возьму, тощую. Я помоложе.
И протянула старой лисе яйцо. Но сказала старая лиса:
– Не жалей. Оставь эту жирную курицу себе. Тебе расти надо, она тебе нужнее. А я уж выросла, мне и тощую девать некуда. И придвинула к себе курицу.
И перестала лиса из Гореловской рощи дружить с лисой из Осинников: она не любит, когда обманывают ее».
Нет, если бы Лиса была в этот день у березы, она бы, конечно, постаралась доказать, что сказка плохая. Но Лисы не было. И вечером Енот побежал к Лисе, понес ей неприятное известие и свое сочувствие.
Они не были друзьями. Лиса не раз обжуливала Енота и, когда судили за плутовство Лису, Енот одним из первых заявил:
– Повесить ее, плутовку.
И даже когда советовались последний раз: разрешить вернуться Лисе в родную рощу или нет, Енот крепко стоял на своем:
– Ни в коем случае.
Но сумела найти Лиса тропку к сердцу Енота. То просила вместе с ним, чтобы о нем, о Еноте, сказку рассказала Кири-Бум, то потом сочувствовала ему:
– Ни за что обидела тебя Кири-Бум.
И это участие Лисы особенно тронуло Енота. Оттаяло у него сердце. Терпеливее стал он относиться к Лисе, обедом с ней делился своим. Все эти дни она ему сочувствовала, теперь Енот бежал ей посочувствовать.
В окошко увидела Лиса Енота. Встречать выбежала.
– Я так рада, так рада.
Поглядел на нее Енот и поморщился:
– Ты что непричесанная какая?
Опустила глаза Лиса:
– Это меня ветер растрепал. Я так спешила к тебе… Но что же мы на крыльце стоим, в сени идем.
Вошел Енот в сени к Лисе и опять поморщился:
– Что же у тебя намусорено как? Ступить некуда. За собой убрать не можешь.
– Это только в сенях так, – виляла Лиса хвостом. – В избу входи.
Вошел Енот. Смотрит, а у Лисы и в избе ступить некуда.
– Э, да у тебя, Лиса, и в избе не красно.
– Это ногами из сеней нанесли. Но куда же ты? Побудь у меня хоть часок.
Енот хотел было остаться, но поглядел, а на столе у Лисы посуда со вчерашнего дня немытая стоит. Хлопнул дверью и пошел прочь.
Бежала сбоку возле него Лиса, оправдывалась:
– Засиделась вчера допоздна за столом, убрать уж сил не хватило. Приходи в другой раз, я все везде вы скоблю, отмою. Тебе у меня понравится.
И тут же – раз, раз! – и пригладила коротенькие волосы на голове. Умылась из лужи и вроде ничего стала. Сказал Енот:
– Идем к березе. Там о тебе сказку дятел выбил, как тебя старая лиса из Осинников обманула. Сама курицу съела, а тебе яйцо дала. Все так смеялись.
– Надо мной?
– Над кем же еще? О тебе сказка.
Глазки у Лисы сузились. Губы поджались: Лисе не нравилось, когда над нею смеются. Спросила сухо и зло:
– А ты куда это идешь со мной?
– К березе.
– Я и без тебя дорогу знаю.
– Ну и пожалуйста, – обиделся Енот и свернул вправо.
Прибежала Лиса к березе, прочитала о себе сказку, скрипнула зубами:
– У, Кири-Бушка, чтоб тебе в собственной запруде водой захлебнуться. Эх, уж лучше бы меня повесили, чем в такой сказке навсегда жить оставили. И что за день выдался? Ни одной удачи. То проспала, то теперь сказка эта. И еще есть хочется.
Но тут же сказала сама себе Лиса:
– Из любой беды можно найти выход, главное – голову не терять.
И стала прикидывать: у кого бы ей поужинать. Можно было к Еноту пойти, если бы она не обидела его. Он же хотел ей сочувствие выразить, а значит, и накормил бы.
– Теперь не накормит. И думать нечего. Схожу-ка я лучше к медведю Спиридону. Сердце у него доброе. Да и улыбнулся он мне на прошлой неделе, авось и покормит.
Прибегает Лиса к медведю, а на двери у него – замок, а на замке – записка: «Меня дома нет. Ушел к Лаврентию. Привет!»
Лиса сорвала с двери записку, растерзала ее на клочки. Ну и денек! Хоть и большая Гореловская роща, а поесть пойти некуда.
Навестил медведь друга

Всего один раз побыл медведь Спиридон у березы на сказках черепахи Кири-Бум. Больше не ходил.
– Уйду я, – говорит, – а Лаврентий придет. Увидит – нет меня, уйдет. И мы не встретимся. Я лучше потом прочту, какие сказки будут записаны, зато встречу друга.
Но друг не шел. Напрасно просиживал медведь Спиридон на завалинке, поджидая его. Садился раненько поутру и сидел. Хрупнет сухая ветка в чаще, встрепенется медведь:
– Не Лаврентий ли это?
И уж готов подняться навстречу, да не идет никто. Свесит большую голову на грудь и сидит, угрюмый. И так до вечера. Поглядит иной раз на берлогу медведя Лаврентия и вздохнет тяжело:
– Как быстро дичает она. Травой уже заросла, будто и не жил в ней никто.
А вечером поднимется и скажет:
– Значит, и сегодня не будет.
И идет в берлогу. Но и в берлоге все о том же думает. Ляжет в постель, а покой не берет.
– Что же не идешь ты, Лаврентий? Или сообщил бы с кем, где живешь ты, я бы сам навестил тебя. Говорил когда-то: ото всего отрекусь, а с тобой не расстанусь тут… Эх, ты.
И вспоминал последнюю встречу с медведем Лаврентием. Минувшей осенью это было. Сидел Лаврентий возле медведя Спиридона и жаловался:
– Сова из Осинников прилетела, сказывала: опять со всеми соседями переругался Афоня мой. Хотят его из Осинников выселить. И что ему добром не живется. Решил я к нему пойти. Внуков нянчить буду да и Афоне мудрость свою житейскую передавать.
Простились они. Ушел Лаврентий, а медведь Спиридон всю зиму ворочался в берлоге да думал: «Ох, Лаврентий. Лаврентий, не насмешил бы ты Осинники мудростью своей житейской. Научишь чему-нибудь сынка, а он поймет это по-своему и оконфузит тебя, как с мостом оконфузил».
И с первых дней весны все ждал медведь Спиридон – навестит его Лаврентий или весточку пришлет. А Лаврентий ни сам не шел и не присылал никого.
«Может, болеет», – думал по ночам медведь Спиридон. И однажды решился:
– Пойду, Осинники не так уж велики. Кто-нибудь укажет, где живет Лаврентий.
Долго добирался медведь Спиридон, не те годы стали, чтобы в эдакую даль по гостям ходить, да и в Осинниках не вдруг отыскался Лаврентий. Не знали его еще в Осинниках, а про Афоню медведь Спиридон спросить не догадался. Но все-таки нашел. Подходил к берлоге, тревожился:
– Застать бы дома. Вдруг я к нему иду, а он ко мне отправился? Ждать придется.
Но зря тревожился медведь Спиридон.
Дома был Лаврентий. Сидел на лавке в берлоге, внука причесывал. Увидел медведя Спиридона, обрадовался:
– Спиридоша! Ты!
И медведь Спиридон ему обрадовался:
– Лаврентий, живой!
И прижал его к груди, по спине похлопал. Повторял, роняя на плечо слезы:
– Живой, гни тебя в дугу.
Растрогался и медведь Лаврентий, запершило и у него в горле:
– И живой, и здоров. Внуков вот нянчу. Спиридоша, как же ты отчаялся с твоим здоровьем идти ко мне в такую даль?
– Что ты, – сказал медведь Спиридон. – Разве дорога к другу может быть далекой?
И опустился на стул, с трудом перевел дыхание.
– Не ходок стал. Воздуху не хватает. Думал: и не дойду. Не те годы стали, чтобы по гостям ходить. Ты ведь моложе меня, вон в тебе еще сколько силы. Так меня сдавил, что даже кости хрустнули.
– Как же ты отчаялся, Спиридоша? Ведь и в самом деле путь-то не близкий.
– Что ты мне все о дороге твердишь? Проведать тебя хотел, вот и пришел. Думал, болеешь ты, а ты здоров, вон как сдавил меня.
И вспомнил тут Лаврентий, что как ушел он из Гореловской рощи, как закрутился с сыном да с внуками, так и не сумел ни разу выбраться к медведю Спиридону, а вот передать с кем-нибудь, где живет, не догадался. Вспомнил и глаза опустил:
– Я сам к тебе собирался, да времени все как-то не было. Ты не думай, Спиридон, меня ведь тоже не пугает дорога дальняя.
– А я и не думаю вовсе, – вздохнул медведь Спиридон, – я же тебя повидал теперь. Вижу, не болеешь ты, зачем мне думать… А я тебе вот ягод из нашей рощи принес.
Ивашка все помнит

Выбил дятел Ду-Дук на березе очередную сказку, сказал:
– Все. На одну только сказку место на березе осталось.
– Ну что ж, эту последнюю сказку мы запишем завтра, – сказала черепаха Кири-Бум. – Вы отдохнете за ночь, да и я подумаю, о ком рассказать.
И сдвинулась с пенечка. Тут к ней и подошел Ивашка:
– Сегодня годовщина со дня смерти моей мамы. Пойдем, Кири-Бум, побудь у меня до завтра. О маме моей поговорим.
Черепаха любила медведицу Авдотью, пошла с Ивашкой. Весь вечер говорили о ней.
– Помаялась она с тобой, – говорила черепаха и пила из блюдца чай с малиновым вареньем. – Озорник ты был, Ивашка. Забыл, наверное, как больным притворялся и ничего делать по дому не хотел?
– Как можно забыть это? – говорил Ивашка и подливал черепахе чай из чайничка.
Правду говорил. Этот случай он хорошо помнил. Попросила его как-то вечером мать:
– Сходи, сынок, налови в речке раков, поужинаем.
Поужинать Ивашка был не прочь, а вот в речку за раками лезть, мокнуть в студеной воде на ночь глядя не хотелось. Но ведь так прямо не скажешь матери – не пойду. Она ведь может и за вихры оттаскать. Да и поругивала уже не раз мать Ивашку:
