Страница:
Огурчики получались превосходными по вкусу, необыкновенными по запаху, и Илларион Венедиктович, которому врачи давно запретили употреблять в пищу много соли, только тут иногда и отводил душу.
И в этот знаменательнейший в его жизни день, когда сама судьба просто заставила его сделать первый шаг к возвращению в детство, Илларион Венедиктович за обедом как-то уж очень особенно увлекся замечательными огурчиками, оправдывая себя тем, что засол получился на редкость удачным…. И ещё одна немаловажная деталь: врачи ограничили Иллариона Венедиктовича и в употреблении жидкости, то есть ему нельзя было много пить даже обыкновенного чая. Поэтому после обеда он и обошёлся одним стаканом, вымыл посуду, прибрал на кухне и отправился, как вчера договорился с друзьями, в лабораторию Ивана Варфоломеевича.
А тот, подведя с сотрудниками итоги работы над эликсиром грандиозус наоборотус и придя к единодушному мнению, что в принципе изобретение готово, в честь такого выдающегося события разрешил коллегам отправляться по домам и отдыхать кто как пожелает. Сам Иван Варфоломеевич остался в лаборатории, надеясь в спокойной обстановке посидеть с друзьями и о многом с ними посоветоваться.
Вот тут-то и случилась совершенно случайная случайность (не имеющая ПОКА никакого отношения к малосольным огурчикам Иллариона Венедиктовича). Первую порцию эликсира грандиозус наоборотус в количестве ста пятидесяти граммов Иван Варфоломеевич налил в мензурку, очень похожую на обыкновенный стакан. Содержимое мензурки следовало перелить в специальную колбу и поставить её в холодильник. А тут и ещё одна, правда, очень мелкая, случайность: мензурка стояла рядом с кувшином из прозрачного стекла, в котором была обычная питьевая вода.
Иван Варфоломеевич что-то замешкался, потом вдруг засуетился, разволновался, потому что всё его существо было переполнено радостью и каким-то неясным беспокойством, и, чтобы успокоиться к приходу друзей, занялся скучнейшей, но требующей сосредоточенности работой – проверкой расчетов.
В это время и пришёл изнывающий от жажды Илларион Венедиктович, и в это же время Ивана Варфоломеевича вызвал к себе директор института для небольшого, но важного и срочного разговора.
Увидев мензурку, похожую на обыкновенный стакан (наполненную эликсиром грандиозус наоборотус!), да ещё стоявшую рядом с прозрачным кувшином воды, Илларион Венедиктович совершенно машинально и залпом выпил его (вернее, ЕЁ, мензурку!), налил воды из кувшина, но пить не стал, вспомнив, что должен ограничивать себя в употреблении жидкости.
Вернулся чем-то явно недовольный или озабоченный Иван Варфоломеевич, следом за ним явился тоже чем-то явно недовольный или озабоченный Гордей Васильевич с огромным роскошным букетом цветов, и пока они с Илларионом Венедиктовичем ставили цветы в кувшин, хозяин лаборатории перелил эликсир грандиозус наоборотус (вернее, обыкновенную воду!) в специальную колбу и поставил её в холодильник.
– Так вот, друзья мои, – озабоченно проговорил он, – вам-то я могу сообщить по секрету: принято решение пока результаты моей работы не оглашать. А жаль. Завтра мы приступаем к решающим опытам.
– Разумное, справедливое решение, – с заметной радостью одобрил Гордей Васильевич. – Ты ведь и сам ещё не понимаешь всего значения своего открытия. Границы его применения…
– Нет, нет, я понимаю, Гордеюшка, – печально перебил Иван Варфоломеевич. – Конечно, мышами и морскими свинками мы не ограничимся. Мне просто не терпится подарить детям необыкновеннейшую радость!
– Есть предложение, – весело вступил в разговор Илларион Венедиктович. – Хотя мы и пришли, старина, поздравить тебя с успехом, но главное-то в чем? С возвращением сына тебя поздравляем! И расскажи нам об этом поподробнее.
– Пожалуйста, пожалуйста, друзья мои! – сразу оживился Иван Варфоломеевич. – Расскажу самым наиподробнейшим образом и с удовольствием! Вот только соображу, с чего начать.
– А я ведь его немножечко-то помню, правда, совсем-совсем немножечко, – задумчиво произнес Гордей Васильевич. – На коленях он у меня сиживал. В деревне, на даче, мы с ним купались и рыбачили… Но сколько лет прошло! Слушаем тебя, Иванушка, – он посерьёзнел, даже посуровел, – начинай.
Иван Варфоломеевич самым наиподробнейшим образом поведал обо всём том, о чём вы, уважаемые читатели, знаете. Рассказал он и о вчерашнем вечере, когда радость так рано свалила его в постель, о том, как он великолепно выспался, как замечательно они с Серёженькой сегодня позавтракали.
– Вот когда он в аэропорту медленно встал на колени, – заканчивал Иван Варфоломеевич, растроганный до умиления, скрыть которого и не пытался, – и долгим поцелуем приник к траве на родной земле, я, простите меня, старика, едва не расплакался.
В ответ ему было молчание, долгое, непонятное и достаточно неприятное.
– Вы что? – удивился и обиделся Иван Варфоломеевич. – Вы чего молчите? Конечно, история необычная, для равнодушного человека даже неправдоподобная, но вы-то, мои друзья… неужели сердца ваши не подсказывают вам…
– Сердце мое полно боли за тебя, – глухо отозвался Гордей Васильевич. – Радость твоя, милый ты мой Иванушка, святая. Обрел сына… – И он опять замолчал с низко опущенной головой.
– Но почему вы… – Видно было, что обескураженный Иван Варфоломеевич начинает сердиться, вернее, нервничать. – Почему сердце твоё болит за меня, а не радуется?! Говорите прямо! – прикрикнул он. – Что вы от меня таите? Оба! Будто вы что-то задумали! Неужели вы полагаете, что иностранному агенту разрешили вернуться только потому, что он мой сын? Что попросту пожалели меня? Да?
– Ты сначала успокойся, – ласково, но настойчиво попросил Илларион Венедиктович. – Мы собрались, чтобы побеседовать неторопливо, обстоятельно, откровенно, как и подобает старым друзьям, и всесторонне обсудить важные для всех нас вопросы. А ты, извини, сразу и распетушился. История с твоим сыном, конечно, и необычная, и удивительная, но мало ли чего в нашей жизни не бывает!
– Вот именно, вот именно… – пробурчал несколько успокоившийся Иван Варфоломеевич, но тут же вскочил. – Я верю, слышите вы, оба! Верю, что родина благотворно воздействует на Серёженьку! Не может быть, слышите вы, оба, не может быть, чтобы из его души вытравили всё русское, всё, всё, если хотите, советское! Пусть он попал туда несмышлёным мальчуганчиком, пусть из него пытались воспитать фашиста, но когда он поживёт у нас, поживёт со мной, наконец, с вами, старые ворчуны, пообщается… Ведь кровь-то у него моя и его матери. Ну, а как бы вы на моем месте поступили? Отказали бы ему, да? Дескать, хоть ты и мой сын, но…
– Такой, прости, маразматической глупости нам и в головы прийти не могло! – не перебил, а прямо-таки обрезал друга Гордей Васильевич. – Ты всё сделал абсолютно правильно. Но мы тебе, Иванушка, и слова толком сказать не успели, а ты нас уже вовсю обвиняешь, да ещё неизвестно, в чем!
– Так говорите! А не играйте в молчанку!
Гордей Васильевич, тяжко и громко вздохнув, переглянулся с насупившимся Илларионом Венедиктовичем и неторопливо, подчеркнуто неторопливо, сдерживая себя, и всё-таки с очень сильным волнением начал:
– Болеем мы за тебя, Иванушка, серьёзно, особенно я. Вопрос о твоем сыне, как о бывшем иностранном агенте, нас не касается. Для этого есть соответствующие организации. Им прошлое Сержа…
– Се-рё-жи!!!
– Прости, Серёжи. Так вот, его прошлое достаточно известно, а мы…
– Да он и сам ничего скрывать не собирается! Если бы вы, особенно ты, Гордей, видел, как он медленно опустился на колени… Впрочем, я не намерен вас уговаривать. В конце концов вы просто обязаны поддержать меня! Сегодня вы, слышите вы, оба у меня в гостях! У нас с Серёженькой в гостях! – совсем нервно крикнул Иван Варфоломеевич. – И только попробуйте отказаться!
– Благодарим за приглашение, обязательно будем, – негромко и мягко сказал Илларион Венедиктович. – Только никак не возьму в толк: чего ты действительно петушишься?
– Неужели вы не понимаете, что своим недоверием к моему сыну вы до глубины души оскорбляете не только его, но и меня?!
– Балда ты после этого, прости, – громко, но почти ласково проговорил Гордей Васильевич. – Честное слово, обыкновенная балда.
– А вы кто?
– А мы верные друзья балды, – весело ответил Илларион Венедиктович и сразу серьёзно продолжил: – Шутки шутками, но какие мы, извини, к черту, друзья, если не способны быть откровенными до конца и не обижаться, учти, на эту откровенность! Будь любезен беседовать с нами без петушения. Пойми, мы всей душой разделяем твои радости – и научную, и отцовскую тем более.
– Мы не видели тебя таким счастливым никогда, – поддержал Гордей Васильевич. – Но и таким петушиным мы вообще тебя не могли представить. Короче: радуйся, раскисай от счастья и отцовского, и научного. Однако не забывай, какое в твоих руках изобретение.
– Зверюшки-игрушки, – недоуменно и растерянно проговорил Иван Варфоломеевич. – Детская радость…
И в наступившей, теперь уже настороженной и даже тревожной, тишине голос Гордея Васильевича прозвучал грозным предупреждением:
– У тебя не возникало мысли, что твой эликсир может быть использован на человеке?
– Мелькала, мелькала такая мысль, – совсем растерянно признался Иван Варфоломеевич. – Но именно мелькала, так сказать, мгновенно промелькивала, не более. Но серьёзно развивать эту идею я не намерен. Слишком уж фантастично. Да и к чему? Какое практическое значение может иметь реализация этой идеи? И почему именно ты задумался о ней? Сделай одолжение, объясни!
– Во-первых, не мне одному такая идея пришла на ум. Во-вторых, если она пришла на ум хотя бы одному, то обязательно ещё кого-нибудь заинтересует. Вот Иллариоша уже собирается испробовать твоё изобретение на себе.
– Ерунда какая…
– Пусть. Пока это выглядит сказочно, но заманчиво. С помощью твоего эликсира Иллариоша вознамерился снова стать маленьким, вернуться то есть в детство, и перевоспитывать современных потомчиков. Вот тебе один из вариантов применения твоего эликсира.
Иван Варфоломеевич, сколько ни сдерживался, но как-то смешно прохихикал и спросил:
– Это правда, Иллариоша?
– Я не хотел бы говорить об этом с этаким, прости, хихиканьем, – рассердился Илларион Венедиктович. – И не уполномочивал уважаемого ученого выступать от моего имени, Я надеюсь, Иван, обсудить с тобой мое намерение совершенно серьёзно.
– Ну… обсудить, конечно, можно, но… – Иван Варфоломеевич улыбнулся невольно и с нотками явного удовлетворения в голосе продолжил: – Друзья мои, вы заблуждаетесь. Своих зверюшек-игрушек я противопоставляю зарубежным игрушкам-пушкам. Я верю, что помогу детям стать счастливее. Но… но… – он беспомощно развёл руками. – Но если найдутся злые умы, бесчеловечные и жестокие…
– Найдутся, найдутся! Если уже не нашлись! – резко перебил Гордей Васильевич. – Не изволь сомневаться!
И опять наступило молчание, на сей раз какое-то неопределённое, но с ощутимой напряженностью. Все трое старались придать своим лицам этакое невыразительное выражение, и каждый будто бы сосредоточенно чем-нибудь занимался. Иван Варфоломеевич поправлял цветы в кувшине. Илларион Венедиктович перешнуровывал ботинки. Гордей Васильевич безуспешно пытался вертикально установить карандаш на столе и первым нарушил сверхтягостное молчание, которое казалось уже длящимся бесконечно:
– Вот мы и высказались. Почти. Будем надеяться, что не поссорились.
– А я не намерен расставаться в таком вот настроении, – резко сказал Илларион Венедиктович. – Тем более, вечером мы встречаемся. Не будем же мы при Сергее Ивановиче сидеть этакими надутыми индюками. Итак, до вечера!
Он встал, а Гордей Васильевич сидел хмурый, суровый и бормотал:
– До вечера, до вечера… Это само собой… Но сейчас я всё-таки обязан… Иванушка, друг мой милый, дорогой мой друг… будь готов со всему. Чует мое сердце что-то недоброе, болит оно за тебя. И какой же я друг, если скрою от тебя свою тревогу! Будь начеку, Иванушка! Что-то грозит тебе!
– Чего ты от меня хочешь? – спросил Иван Варфоломеевич раздражённо, помолчал и ещё спросил, но уже устало: – Что ты всё вокруг да около?
– Этого словами не передать, – глухо ответил Гордей Васильевич. – Я только предчувствую. Ты стал какой-то беззаботный, что ли. Будто забыл, в какое время мы живем, что происходит в мире.
– А мне надоели твои общие фразы! Чего тебе от меня надо – конкретно?.. Серёжу, Серёжу моего ты хочешь опорочить! Не вина, а беда моего мальчика, что у него так сложилась судьба! – почти выкрикивал Иван Варфоломеевич. – А я выполню свой долг до конца! В этом ты позволил себе усомниться?
– Ус-по-кой-ся, – четко и раздельно произнес Илларион Венедиктович. – Тебе не сказали ровным счётом ничего обидного, а ты… Даже если недобрые предчувствия и обманывают Гордеюшку, он же в этом нисколечко не виноват.
И опять наступило молчание, теперь уже очень тягостное, даже мучительное. И никто не пытался делать никакого вида, сидели неподвижно, уставясь глазами в пол. Если попробовать определить, кому из троих было тягостнее, даже мучительнее, то вряд ли это получится. Народная мудрость гласит: у каждого своя печаль, то есть хорошему человеку нисколько не легче от того, что горе другого человека больше. Но если Иван Варфоломеевич, несмотря ни на что, всё-таки был в глубине души счастлив, а Илларион Венедиктович всё-таки собирался осуществить свою идею – вернуться в детство и тем самым нанести удар Смерти-фашистке, – то Гордей Васильевич жестоко страдал, видя, что друг его ослеп от радостей.
Гордей Васильевич именно сейчас, во время очень уж тягостного, даже мучительного молчания, решил: он перероет все свои огромные архивы и найдет фотографию маленького Серёженьки, где-то она должна быть!
– Вечером встречаемся, – спокойно, будто ничего и не случилось, сказал он вставая. – Не подведём тебя, Иван. А то Сергей Иванович решит, что у тебя нет настоящих друзей. Во сколько приходить?
– Часам к семи, – не поднимая головы, ответил Иван Варфоломеевич. – А меня простите. Я обещаю обо всём подумать.
– Проведем вечер как всегда! – весело воскликнул Илларион Венедиктович. – Гарантирую, что и ты, и Сергей Иванович останетесь довольны.
А на улице он укоризненно сказал:
– Зря ты, Гордеюшка… Бесполезный ты затеял разговор. Во всяком случае, абсолютно не вовремя. Ивана обидел. Не способен он подозревать своего сына.
– А я и не требую этого! – сразу рассердился Гордей Васильевич. – И разговор я затеял не зря, и абсолютно вовремя. А если Иван обиделся, то сие только на пользу ему. У меня нет ни грана сомнения, что грандиозус наоборотус просто обязаны засекретить. И нет у меня ни грана сомнения, что Иван по простоте душевной, доверчивости своей невероятной выболтает всё Сергею Ивановичу… И ты только представь себе, как Иван переживёт известие, что он привез шпиона с заданием выкрасть его собственное изобретение, даже если этот разведчик и не его сын? А Иван убежден, что если Сергея Ивановича пустили к нам, то он обязательно его родной сын!
– Тебя что больше беспокоит: то, что иностранная разведка выдаёт своего агента за сына Ивана, или только то, что он шпион?
– Как ты не можешь понять, что меня беспокоит только Иван?! Ты что, забыл, что я врач? Ему не пережить ни одного из вариантов. И я хочу добиться одного: кто бы тот – Серж или Серёженька – ни был, он не должен ничего знать о грандиозусе наоборотусе от самого Ивана… Но вечером мы с тобой должны быть ух какими весёлыми и беззаботными!
Расставшись с другом, Илларион Венедиктович сразу просто бросился к киоску с газированной водой, выпил четыре стакана, но почти не почувствовал облегчения от жажды. ЧТО-ТО ПРОИСХОДИЛО В ЕГО ОРГАНИЗМЕ. Он то испытывал желание идти быстрее-быстрее-быстрее, но через сотню метров останавливался, чтобы отдышаться, то, услышав где-то звуки ударов по мячу, еле сдерживался, чтобы не броситься туда и – го-о-о-ол!
«Как будто я возвращаюсь в детство, – радостно подумал он, не подозревая, конечно, что так оно и было на самом деле. – Жаль, что разговор об этом с Иваном придётся отложить на неопределённый срок».
Но удивительнее всего было то, что даже сейчас Илларион Венедиктович ни капельки не сомневался: мечта его всё равно осуществится. Откуда взялась эта непреходящая уверенность, даже ничем неоправданная самоуверенность, он не знал, да и не задумывался. Он просто был убежден в обязательном исполнении своего ставшего сокровенным желания.
Вспомнив, что жажду хорошо утоляет чай, – а жажда его всё возрастала и возрастала, – Илларион Венедиктович бегом (!!!) помчался домой и у подъезда был вынужден чуть ли не упасть на скамью, чтобы отдышаться.
И тут случилась вторая случайность, правда, не такая уж и значительная: оказалось, что он прибежал к дому, из которого недавно выехал на новую квартиру.
А перед ним – на другой скамье – сидел не кто-нибудь, а краснощёкий Вовик Краснощёков.
Вид у него был, как говорится, убитый.
И чтобы вы, уважаемые читатели, поняли, почему у него был именно такой вид, нам необходимо вернуться назад. Как вы, может быть, помните, Вовик должен был явиться на квартиру Григория Григорьевича к девяти часам, что он и сделал без опоздания.
На дверях квартиры была прикреплена бумага, а на ней написано: «Вовику».
Он отковырнул кнопку, развернул бумагу и прочел:
Если вы, уважаемые читатели, не испытывали этого высокого и прекрасного чувства, вам Вовика не понять. Но всё-таки попытайтесь.
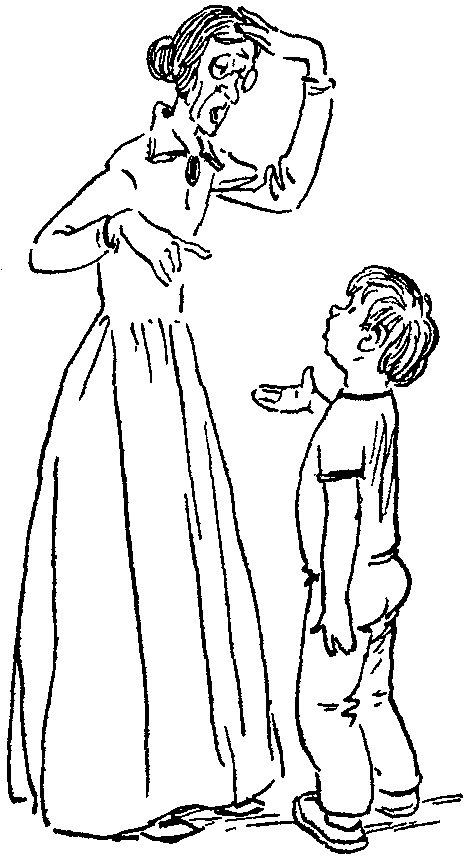 Дверь ему открыла очень высокая старушка, одетая в длинное, до полу, бордового цвета платье, в пенсне.
Дверь ему открыла очень высокая старушка, одетая в длинное, до полу, бордового цвета платье, в пенсне.
– Be… Be… Be… – еле-еле-еле выговорил Вовик. – Вероника дома?
– Я бы на вашем месте, молодой человек, сначала поздоровалась, – сказала старушка, – и представилась, ибо я, увы, не имею чести знать вас. Но ваше поведение, тоже увы, меня нисколько не удивляет. Современные молодые люди, двадцать раз увы, понятия не имеют не только о подлинном рыцарстве, но и о простой, обыкновенной вежливости.
– Подлинных рыцарей, – сказал Вовик, – в наше время днём с прожектором не найдешь.
– О! – восторженно воскликнула старушка. – Это моя мысль! Следовательно, я её разделяю. Ах, всё в наше время перепуталось, перемешалось, многое стало наоборот. Поэтому позвольте представиться: бабушка Ирэна.
– Вовик, – с неожиданной учтивостью сказал он и даже вроде бы сделал попытку поклониться. – Рад с вами познакомиться.
– Позвольте предложить вам чашечку кофе, уважаемый Вовик?
– Не-е-ет… Мне это… Be… Be… Be… – у него опять стал заплетаться язык, как часто бывает с людьми, которые впервые испытывают одно высокое и прекрасное чувство.
– Ве-ве-ве, как вы изволили выразиться, нет дома. Понимаете, у неё есть знакомый хулиган с иностранным именем.
– Робка-Пробка?! Робертина?!
– Примерно так. Вот у неё с ним что-то вроде хулиганского, а может, даже и бандитского свидания. Она обожает этого негодяя! – возмущенно рассказывала бабушка Ирэна, не подозревая, что каждым словом ранит бедного Вовика, у которого даже румянец на щеках совершенно исчез. – А вам, Вовик, нравится Ве-ве-ве, как вы её называете?
– Нра… – выдавилось у Вовика. и он чуть не задохнулся от стыда и снова мгновенно стал краснощёким и красноухим.
– О! – бабушка Ирэна закрыла глаза, пошатнулась и оперлась рукой о стену, видимо, для того, чтобы не упасть, открыла глаза: в них был ужас. – Несчастный! Вы, Вовик, несчастнейшая личность! Вырвите Ве-ве-ве не только из сердца, если она уже успела и сумела туда проникнуть, но и из памяти! Ве-ве-ве, да будет вам известно, коварна! Ре! – бабушка Ирэна подняла вверх длиннейший указательный палец правой руки. – Комендую вам не общаться с ней! Она принесет вам не просто горе, а бедствие! Она лгунья, каких свет не видывал и больше, надеюсь, не увидит! Ложь её безгранична! Например, родители дали мне обыкновенное, нормальное имя Ирина. Так Ве-ве-ве всех уверила, что я какая-то Ирэна! И самое ужасное заключается в том, что все, даже я сама, поверили в это!
– Я могу уйти? – еле слышно выговорил Вовик.
– Не смею вас задерживать, – с сожалением сказала бабушка Ирина-Ирэна, – но позвольте один вопрос? Что она вам насочиняла про свои, извините, дурацкие бантики?.. Так вот вам правда о них! Каждое утро она заставляет меня проводить это нелепое мероприятие! Чтобы потом врать, что мне это приятно!
Вовик начинал предчувствовать, что разговор вполне может оказаться бесконечным, но уйти не мог и пролепетал:
– Она же воспитанная…
– О-о-о! – простонала бабушка Ирина-Ирэна, хотела пошатнуться, но, видимо, раздумала. – Она, к вашему сведению, бедняга вы несчастная, прикидывается таковой.
– Но ведь Вероника…
– Какая Вероника?! Эта Ве-ве-ве? Да Верочка она обыкновенная!
– Хватит! – чуть ли не завопил Вовик и совсем еле слышно добавил: – Не надо…
– О, как я вас понимаю! – с громадным сожалением воскликнула бабушка Ирина-Ирэна. – Как я вас хочу пре-дос-те-речь! Прочь, прочь, прочь от неё!!! Берегитесь! Она залжёт вас! Бегите от псевдовоспитанной девочки Вероники! Спасайтесь от коварной девочки Верочки!
Конечно, Вовик и сам был горазд соврать при случае, и ловко, но он не подозревал, что вранье может быть таких размеров, как Вероникина-Верочкина ложь. Он и верил и не верил бабушке Ирине-Ирэне.
Вот так-то и бывает в жизни, уважаемые читатели: когда сам подвираешь, других обманываешь, и если это у тебя получается довольно неплохо, ты, конечно, доволен… А вот когда тебя самого оставят в дураках, тебе это не нравится!
И Вовик спускался по лестнице оглушенный, опустошенный, с больной головой. Он до того ничегошеньки не соображал, что опустился на ступеньку, не знал, куда идти, зачем, для чего, а перед глазами у него мелькали разноцветные бантики, насмешливо мелькали, издевательски… Он пришёл к ней, сопровождать её, а она ушла к Робке-Пробке, который хотел захватить ее…
Опять у Вовика разболелась голова, ноги ослабли, но он заставил себя встать, потому что уже замёрз, и усилием воли запретил себе снова опуститься на ступеньку. Ведь самое ужасное, просто сверх-сверх-сверх-ужасное, состояло в том, что ему хотелось увидеть эту лгунью Веронику-Верочку! [8] А она, вся голова в разноцветных бантиках, ушла к Робке-Пробке…
Вовик и не заметил, как спустился с лестницы, вышел из подъезда и сел на скамью, опять абсолютно ничего не соображая, даже не пытаясь осознать, где он находится, что с ним стряслось и что надо делать. Он понимал только одно: у него большое-большое-большое горе, какого он ещё ни разу не знал в жизни… И он уже не испытывал высокого и прекрасного чувства к той, которая его безжалостно обманула, а просто страдал…
И даже когда напротив опустился на скамью Илларион Венедиктович, Вовик не сразу сообразил, где он видел этого человека, а когда узнал генерал-лейтенанта в отставке, тоже не сразу понял, что ему от этого человека требуется.
А Илларион Венедиктович сидел, бессильно расставив колени, низко опустив голову, упершись руками в скамью, словно боясь упасть на землю. Ему не просто хотелось пить, его мучила страшнейшая жажда, такая страшнейшая, что, казалось, внутри у него всё пересохло и раскалилось.
– Пи-и-и-и-ить… – прохрипел он. – Пи-и-и-ить… быстро… прошу… пи-и-и-ить…
Вот тут у Вовика хватило соображения бегом взлететь по лестнице, сказать открывшей дверь Анастасии Георгиевне, что там, внизу, у подъезда, плохо одному человеку, что он быстро просит принести попить.
И в этот знаменательнейший в его жизни день, когда сама судьба просто заставила его сделать первый шаг к возвращению в детство, Илларион Венедиктович за обедом как-то уж очень особенно увлекся замечательными огурчиками, оправдывая себя тем, что засол получился на редкость удачным…. И ещё одна немаловажная деталь: врачи ограничили Иллариона Венедиктовича и в употреблении жидкости, то есть ему нельзя было много пить даже обыкновенного чая. Поэтому после обеда он и обошёлся одним стаканом, вымыл посуду, прибрал на кухне и отправился, как вчера договорился с друзьями, в лабораторию Ивана Варфоломеевича.
А тот, подведя с сотрудниками итоги работы над эликсиром грандиозус наоборотус и придя к единодушному мнению, что в принципе изобретение готово, в честь такого выдающегося события разрешил коллегам отправляться по домам и отдыхать кто как пожелает. Сам Иван Варфоломеевич остался в лаборатории, надеясь в спокойной обстановке посидеть с друзьями и о многом с ними посоветоваться.
Вот тут-то и случилась совершенно случайная случайность (не имеющая ПОКА никакого отношения к малосольным огурчикам Иллариона Венедиктовича). Первую порцию эликсира грандиозус наоборотус в количестве ста пятидесяти граммов Иван Варфоломеевич налил в мензурку, очень похожую на обыкновенный стакан. Содержимое мензурки следовало перелить в специальную колбу и поставить её в холодильник. А тут и ещё одна, правда, очень мелкая, случайность: мензурка стояла рядом с кувшином из прозрачного стекла, в котором была обычная питьевая вода.
Иван Варфоломеевич что-то замешкался, потом вдруг засуетился, разволновался, потому что всё его существо было переполнено радостью и каким-то неясным беспокойством, и, чтобы успокоиться к приходу друзей, занялся скучнейшей, но требующей сосредоточенности работой – проверкой расчетов.
В это время и пришёл изнывающий от жажды Илларион Венедиктович, и в это же время Ивана Варфоломеевича вызвал к себе директор института для небольшого, но важного и срочного разговора.
Увидев мензурку, похожую на обыкновенный стакан (наполненную эликсиром грандиозус наоборотус!), да ещё стоявшую рядом с прозрачным кувшином воды, Илларион Венедиктович совершенно машинально и залпом выпил его (вернее, ЕЁ, мензурку!), налил воды из кувшина, но пить не стал, вспомнив, что должен ограничивать себя в употреблении жидкости.
Вернулся чем-то явно недовольный или озабоченный Иван Варфоломеевич, следом за ним явился тоже чем-то явно недовольный или озабоченный Гордей Васильевич с огромным роскошным букетом цветов, и пока они с Илларионом Венедиктовичем ставили цветы в кувшин, хозяин лаборатории перелил эликсир грандиозус наоборотус (вернее, обыкновенную воду!) в специальную колбу и поставил её в холодильник.
Случилась в высшей степени случайная случайность: генерал-лейтенант в отставке Самойлов Илларион Венедиктович первым принял солидную дозу эликсира грандиозус наоборотус, ещё не проверенного даже на мышах и морских свинках!И внешне и по вкусу эликсир напоминал обыкновенную воду [7], воздействие его на живой организм, тем более, организм человека, было никому неизвестно, даже Ивану Варфоломеевичу.
– Так вот, друзья мои, – озабоченно проговорил он, – вам-то я могу сообщить по секрету: принято решение пока результаты моей работы не оглашать. А жаль. Завтра мы приступаем к решающим опытам.
– Разумное, справедливое решение, – с заметной радостью одобрил Гордей Васильевич. – Ты ведь и сам ещё не понимаешь всего значения своего открытия. Границы его применения…
– Нет, нет, я понимаю, Гордеюшка, – печально перебил Иван Варфоломеевич. – Конечно, мышами и морскими свинками мы не ограничимся. Мне просто не терпится подарить детям необыкновеннейшую радость!
– Есть предложение, – весело вступил в разговор Илларион Венедиктович. – Хотя мы и пришли, старина, поздравить тебя с успехом, но главное-то в чем? С возвращением сына тебя поздравляем! И расскажи нам об этом поподробнее.
– Пожалуйста, пожалуйста, друзья мои! – сразу оживился Иван Варфоломеевич. – Расскажу самым наиподробнейшим образом и с удовольствием! Вот только соображу, с чего начать.
– А я ведь его немножечко-то помню, правда, совсем-совсем немножечко, – задумчиво произнес Гордей Васильевич. – На коленях он у меня сиживал. В деревне, на даче, мы с ним купались и рыбачили… Но сколько лет прошло! Слушаем тебя, Иванушка, – он посерьёзнел, даже посуровел, – начинай.
Иван Варфоломеевич самым наиподробнейшим образом поведал обо всём том, о чём вы, уважаемые читатели, знаете. Рассказал он и о вчерашнем вечере, когда радость так рано свалила его в постель, о том, как он великолепно выспался, как замечательно они с Серёженькой сегодня позавтракали.
– Вот когда он в аэропорту медленно встал на колени, – заканчивал Иван Варфоломеевич, растроганный до умиления, скрыть которого и не пытался, – и долгим поцелуем приник к траве на родной земле, я, простите меня, старика, едва не расплакался.
В ответ ему было молчание, долгое, непонятное и достаточно неприятное.
– Вы что? – удивился и обиделся Иван Варфоломеевич. – Вы чего молчите? Конечно, история необычная, для равнодушного человека даже неправдоподобная, но вы-то, мои друзья… неужели сердца ваши не подсказывают вам…
– Сердце мое полно боли за тебя, – глухо отозвался Гордей Васильевич. – Радость твоя, милый ты мой Иванушка, святая. Обрел сына… – И он опять замолчал с низко опущенной головой.
– Но почему вы… – Видно было, что обескураженный Иван Варфоломеевич начинает сердиться, вернее, нервничать. – Почему сердце твоё болит за меня, а не радуется?! Говорите прямо! – прикрикнул он. – Что вы от меня таите? Оба! Будто вы что-то задумали! Неужели вы полагаете, что иностранному агенту разрешили вернуться только потому, что он мой сын? Что попросту пожалели меня? Да?
– Ты сначала успокойся, – ласково, но настойчиво попросил Илларион Венедиктович. – Мы собрались, чтобы побеседовать неторопливо, обстоятельно, откровенно, как и подобает старым друзьям, и всесторонне обсудить важные для всех нас вопросы. А ты, извини, сразу и распетушился. История с твоим сыном, конечно, и необычная, и удивительная, но мало ли чего в нашей жизни не бывает!
– Вот именно, вот именно… – пробурчал несколько успокоившийся Иван Варфоломеевич, но тут же вскочил. – Я верю, слышите вы, оба! Верю, что родина благотворно воздействует на Серёженьку! Не может быть, слышите вы, оба, не может быть, чтобы из его души вытравили всё русское, всё, всё, если хотите, советское! Пусть он попал туда несмышлёным мальчуганчиком, пусть из него пытались воспитать фашиста, но когда он поживёт у нас, поживёт со мной, наконец, с вами, старые ворчуны, пообщается… Ведь кровь-то у него моя и его матери. Ну, а как бы вы на моем месте поступили? Отказали бы ему, да? Дескать, хоть ты и мой сын, но…
– Такой, прости, маразматической глупости нам и в головы прийти не могло! – не перебил, а прямо-таки обрезал друга Гордей Васильевич. – Ты всё сделал абсолютно правильно. Но мы тебе, Иванушка, и слова толком сказать не успели, а ты нас уже вовсю обвиняешь, да ещё неизвестно, в чем!
– Так говорите! А не играйте в молчанку!
Гордей Васильевич, тяжко и громко вздохнув, переглянулся с насупившимся Илларионом Венедиктовичем и неторопливо, подчеркнуто неторопливо, сдерживая себя, и всё-таки с очень сильным волнением начал:
– Болеем мы за тебя, Иванушка, серьёзно, особенно я. Вопрос о твоем сыне, как о бывшем иностранном агенте, нас не касается. Для этого есть соответствующие организации. Им прошлое Сержа…
– Се-рё-жи!!!
– Прости, Серёжи. Так вот, его прошлое достаточно известно, а мы…
– Да он и сам ничего скрывать не собирается! Если бы вы, особенно ты, Гордей, видел, как он медленно опустился на колени… Впрочем, я не намерен вас уговаривать. В конце концов вы просто обязаны поддержать меня! Сегодня вы, слышите вы, оба у меня в гостях! У нас с Серёженькой в гостях! – совсем нервно крикнул Иван Варфоломеевич. – И только попробуйте отказаться!
– Благодарим за приглашение, обязательно будем, – негромко и мягко сказал Илларион Венедиктович. – Только никак не возьму в толк: чего ты действительно петушишься?
– Неужели вы не понимаете, что своим недоверием к моему сыну вы до глубины души оскорбляете не только его, но и меня?!
– Балда ты после этого, прости, – громко, но почти ласково проговорил Гордей Васильевич. – Честное слово, обыкновенная балда.
– А вы кто?
– А мы верные друзья балды, – весело ответил Илларион Венедиктович и сразу серьёзно продолжил: – Шутки шутками, но какие мы, извини, к черту, друзья, если не способны быть откровенными до конца и не обижаться, учти, на эту откровенность! Будь любезен беседовать с нами без петушения. Пойми, мы всей душой разделяем твои радости – и научную, и отцовскую тем более.
– Мы не видели тебя таким счастливым никогда, – поддержал Гордей Васильевич. – Но и таким петушиным мы вообще тебя не могли представить. Короче: радуйся, раскисай от счастья и отцовского, и научного. Однако не забывай, какое в твоих руках изобретение.
– Зверюшки-игрушки, – недоуменно и растерянно проговорил Иван Варфоломеевич. – Детская радость…
И в наступившей, теперь уже настороженной и даже тревожной, тишине голос Гордея Васильевича прозвучал грозным предупреждением:
– У тебя не возникало мысли, что твой эликсир может быть использован на человеке?
– Мелькала, мелькала такая мысль, – совсем растерянно признался Иван Варфоломеевич. – Но именно мелькала, так сказать, мгновенно промелькивала, не более. Но серьёзно развивать эту идею я не намерен. Слишком уж фантастично. Да и к чему? Какое практическое значение может иметь реализация этой идеи? И почему именно ты задумался о ней? Сделай одолжение, объясни!
– Во-первых, не мне одному такая идея пришла на ум. Во-вторых, если она пришла на ум хотя бы одному, то обязательно ещё кого-нибудь заинтересует. Вот Иллариоша уже собирается испробовать твоё изобретение на себе.
– Ерунда какая…
– Пусть. Пока это выглядит сказочно, но заманчиво. С помощью твоего эликсира Иллариоша вознамерился снова стать маленьким, вернуться то есть в детство, и перевоспитывать современных потомчиков. Вот тебе один из вариантов применения твоего эликсира.
Иван Варфоломеевич, сколько ни сдерживался, но как-то смешно прохихикал и спросил:
– Это правда, Иллариоша?
– Я не хотел бы говорить об этом с этаким, прости, хихиканьем, – рассердился Илларион Венедиктович. – И не уполномочивал уважаемого ученого выступать от моего имени, Я надеюсь, Иван, обсудить с тобой мое намерение совершенно серьёзно.
– Ну… обсудить, конечно, можно, но… – Иван Варфоломеевич улыбнулся невольно и с нотками явного удовлетворения в голосе продолжил: – Друзья мои, вы заблуждаетесь. Своих зверюшек-игрушек я противопоставляю зарубежным игрушкам-пушкам. Я верю, что помогу детям стать счастливее. Но… но… – он беспомощно развёл руками. – Но если найдутся злые умы, бесчеловечные и жестокие…
– Найдутся, найдутся! Если уже не нашлись! – резко перебил Гордей Васильевич. – Не изволь сомневаться!
И опять наступило молчание, на сей раз какое-то неопределённое, но с ощутимой напряженностью. Все трое старались придать своим лицам этакое невыразительное выражение, и каждый будто бы сосредоточенно чем-нибудь занимался. Иван Варфоломеевич поправлял цветы в кувшине. Илларион Венедиктович перешнуровывал ботинки. Гордей Васильевич безуспешно пытался вертикально установить карандаш на столе и первым нарушил сверхтягостное молчание, которое казалось уже длящимся бесконечно:
– Вот мы и высказались. Почти. Будем надеяться, что не поссорились.
– А я не намерен расставаться в таком вот настроении, – резко сказал Илларион Венедиктович. – Тем более, вечером мы встречаемся. Не будем же мы при Сергее Ивановиче сидеть этакими надутыми индюками. Итак, до вечера!
Он встал, а Гордей Васильевич сидел хмурый, суровый и бормотал:
– До вечера, до вечера… Это само собой… Но сейчас я всё-таки обязан… Иванушка, друг мой милый, дорогой мой друг… будь готов со всему. Чует мое сердце что-то недоброе, болит оно за тебя. И какой же я друг, если скрою от тебя свою тревогу! Будь начеку, Иванушка! Что-то грозит тебе!
– Чего ты от меня хочешь? – спросил Иван Варфоломеевич раздражённо, помолчал и ещё спросил, но уже устало: – Что ты всё вокруг да около?
– Этого словами не передать, – глухо ответил Гордей Васильевич. – Я только предчувствую. Ты стал какой-то беззаботный, что ли. Будто забыл, в какое время мы живем, что происходит в мире.
– А мне надоели твои общие фразы! Чего тебе от меня надо – конкретно?.. Серёжу, Серёжу моего ты хочешь опорочить! Не вина, а беда моего мальчика, что у него так сложилась судьба! – почти выкрикивал Иван Варфоломеевич. – А я выполню свой долг до конца! В этом ты позволил себе усомниться?
– Ус-по-кой-ся, – четко и раздельно произнес Илларион Венедиктович. – Тебе не сказали ровным счётом ничего обидного, а ты… Даже если недобрые предчувствия и обманывают Гордеюшку, он же в этом нисколечко не виноват.
И опять наступило молчание, теперь уже очень тягостное, даже мучительное. И никто не пытался делать никакого вида, сидели неподвижно, уставясь глазами в пол. Если попробовать определить, кому из троих было тягостнее, даже мучительнее, то вряд ли это получится. Народная мудрость гласит: у каждого своя печаль, то есть хорошему человеку нисколько не легче от того, что горе другого человека больше. Но если Иван Варфоломеевич, несмотря ни на что, всё-таки был в глубине души счастлив, а Илларион Венедиктович всё-таки собирался осуществить свою идею – вернуться в детство и тем самым нанести удар Смерти-фашистке, – то Гордей Васильевич жестоко страдал, видя, что друг его ослеп от радостей.
Гордей Васильевич именно сейчас, во время очень уж тягостного, даже мучительного молчания, решил: он перероет все свои огромные архивы и найдет фотографию маленького Серёженьки, где-то она должна быть!
– Вечером встречаемся, – спокойно, будто ничего и не случилось, сказал он вставая. – Не подведём тебя, Иван. А то Сергей Иванович решит, что у тебя нет настоящих друзей. Во сколько приходить?
– Часам к семи, – не поднимая головы, ответил Иван Варфоломеевич. – А меня простите. Я обещаю обо всём подумать.
– Проведем вечер как всегда! – весело воскликнул Илларион Венедиктович. – Гарантирую, что и ты, и Сергей Иванович останетесь довольны.
А на улице он укоризненно сказал:
– Зря ты, Гордеюшка… Бесполезный ты затеял разговор. Во всяком случае, абсолютно не вовремя. Ивана обидел. Не способен он подозревать своего сына.
– А я и не требую этого! – сразу рассердился Гордей Васильевич. – И разговор я затеял не зря, и абсолютно вовремя. А если Иван обиделся, то сие только на пользу ему. У меня нет ни грана сомнения, что грандиозус наоборотус просто обязаны засекретить. И нет у меня ни грана сомнения, что Иван по простоте душевной, доверчивости своей невероятной выболтает всё Сергею Ивановичу… И ты только представь себе, как Иван переживёт известие, что он привез шпиона с заданием выкрасть его собственное изобретение, даже если этот разведчик и не его сын? А Иван убежден, что если Сергея Ивановича пустили к нам, то он обязательно его родной сын!
– Тебя что больше беспокоит: то, что иностранная разведка выдаёт своего агента за сына Ивана, или только то, что он шпион?
– Как ты не можешь понять, что меня беспокоит только Иван?! Ты что, забыл, что я врач? Ему не пережить ни одного из вариантов. И я хочу добиться одного: кто бы тот – Серж или Серёженька – ни был, он не должен ничего знать о грандиозусе наоборотусе от самого Ивана… Но вечером мы с тобой должны быть ух какими весёлыми и беззаботными!
Расставшись с другом, Илларион Венедиктович сразу просто бросился к киоску с газированной водой, выпил четыре стакана, но почти не почувствовал облегчения от жажды. ЧТО-ТО ПРОИСХОДИЛО В ЕГО ОРГАНИЗМЕ. Он то испытывал желание идти быстрее-быстрее-быстрее, но через сотню метров останавливался, чтобы отдышаться, то, услышав где-то звуки ударов по мячу, еле сдерживался, чтобы не броситься туда и – го-о-о-ол!
«Как будто я возвращаюсь в детство, – радостно подумал он, не подозревая, конечно, что так оно и было на самом деле. – Жаль, что разговор об этом с Иваном придётся отложить на неопределённый срок».
Но удивительнее всего было то, что даже сейчас Илларион Венедиктович ни капельки не сомневался: мечта его всё равно осуществится. Откуда взялась эта непреходящая уверенность, даже ничем неоправданная самоуверенность, он не знал, да и не задумывался. Он просто был убежден в обязательном исполнении своего ставшего сокровенным желания.
Вспомнив, что жажду хорошо утоляет чай, – а жажда его всё возрастала и возрастала, – Илларион Венедиктович бегом (!!!) помчался домой и у подъезда был вынужден чуть ли не упасть на скамью, чтобы отдышаться.
И тут случилась вторая случайность, правда, не такая уж и значительная: оказалось, что он прибежал к дому, из которого недавно выехал на новую квартиру.
А перед ним – на другой скамье – сидел не кто-нибудь, а краснощёкий Вовик Краснощёков.
Вид у него был, как говорится, убитый.
И чтобы вы, уважаемые читатели, поняли, почему у него был именно такой вид, нам необходимо вернуться назад. Как вы, может быть, помните, Вовик должен был явиться на квартиру Григория Григорьевича к девяти часам, что он и сделал без опоздания.
На дверях квартиры была прикреплена бумага, а на ней написано: «Вовику».
Он отковырнул кнопку, развернул бумагу и прочел:
«Вовик! Душа моя не выдержала тревожных переживаний, и я не мог не поехать навестить мою Джульетточку, которой, по-моему, плохо. Можешь найти меня у Анастасии Георгиевны. Там обо всём и договоримся в смысле поисков известного тебе лица, но адрес которого не известен.«Началось!» – печально подумал Вовик, который, между нами говоря, принял наитвердейшее решение больше не встречаться с воспитанной девочкой Вероникой не столько потому, что опасался жестокой, неминуемой драки с бандитами, а потому, что… Ну, что, по-вашему, уважаемые читатели? А? По-моему, он почти испытывал к ней то чувство, которое она называла высоким и прекрасным. А так как он понятия не имел об этом чувстве, то испугался его и решил никогда ни за что не встречаться с той, у которой вся голова в разноцветных бантиках. Но, приняв наитвердейшее решение, он тут же на одном из видов городского транспорта (не заметив, на каком!) поехал к дому, где жила ОНА. И – позвонил в шестнадцатую квартиру…
Г. Г.»
Если вы, уважаемые читатели, не испытывали этого высокого и прекрасного чувства, вам Вовика не понять. Но всё-таки попытайтесь.
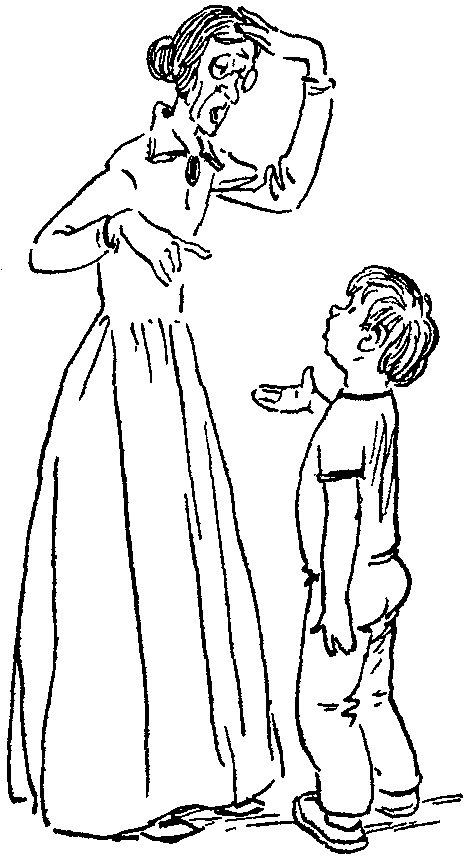
– Be… Be… Be… – еле-еле-еле выговорил Вовик. – Вероника дома?
– Я бы на вашем месте, молодой человек, сначала поздоровалась, – сказала старушка, – и представилась, ибо я, увы, не имею чести знать вас. Но ваше поведение, тоже увы, меня нисколько не удивляет. Современные молодые люди, двадцать раз увы, понятия не имеют не только о подлинном рыцарстве, но и о простой, обыкновенной вежливости.
– Подлинных рыцарей, – сказал Вовик, – в наше время днём с прожектором не найдешь.
– О! – восторженно воскликнула старушка. – Это моя мысль! Следовательно, я её разделяю. Ах, всё в наше время перепуталось, перемешалось, многое стало наоборот. Поэтому позвольте представиться: бабушка Ирэна.
– Вовик, – с неожиданной учтивостью сказал он и даже вроде бы сделал попытку поклониться. – Рад с вами познакомиться.
– Позвольте предложить вам чашечку кофе, уважаемый Вовик?
– Не-е-ет… Мне это… Be… Be… Be… – у него опять стал заплетаться язык, как часто бывает с людьми, которые впервые испытывают одно высокое и прекрасное чувство.
– Ве-ве-ве, как вы изволили выразиться, нет дома. Понимаете, у неё есть знакомый хулиган с иностранным именем.
– Робка-Пробка?! Робертина?!
– Примерно так. Вот у неё с ним что-то вроде хулиганского, а может, даже и бандитского свидания. Она обожает этого негодяя! – возмущенно рассказывала бабушка Ирэна, не подозревая, что каждым словом ранит бедного Вовика, у которого даже румянец на щеках совершенно исчез. – А вам, Вовик, нравится Ве-ве-ве, как вы её называете?
– Нра… – выдавилось у Вовика. и он чуть не задохнулся от стыда и снова мгновенно стал краснощёким и красноухим.
– О! – бабушка Ирэна закрыла глаза, пошатнулась и оперлась рукой о стену, видимо, для того, чтобы не упасть, открыла глаза: в них был ужас. – Несчастный! Вы, Вовик, несчастнейшая личность! Вырвите Ве-ве-ве не только из сердца, если она уже успела и сумела туда проникнуть, но и из памяти! Ве-ве-ве, да будет вам известно, коварна! Ре! – бабушка Ирэна подняла вверх длиннейший указательный палец правой руки. – Комендую вам не общаться с ней! Она принесет вам не просто горе, а бедствие! Она лгунья, каких свет не видывал и больше, надеюсь, не увидит! Ложь её безгранична! Например, родители дали мне обыкновенное, нормальное имя Ирина. Так Ве-ве-ве всех уверила, что я какая-то Ирэна! И самое ужасное заключается в том, что все, даже я сама, поверили в это!
– Я могу уйти? – еле слышно выговорил Вовик.
– Не смею вас задерживать, – с сожалением сказала бабушка Ирина-Ирэна, – но позвольте один вопрос? Что она вам насочиняла про свои, извините, дурацкие бантики?.. Так вот вам правда о них! Каждое утро она заставляет меня проводить это нелепое мероприятие! Чтобы потом врать, что мне это приятно!
Вовик начинал предчувствовать, что разговор вполне может оказаться бесконечным, но уйти не мог и пролепетал:
– Она же воспитанная…
– О-о-о! – простонала бабушка Ирина-Ирэна, хотела пошатнуться, но, видимо, раздумала. – Она, к вашему сведению, бедняга вы несчастная, прикидывается таковой.
– Но ведь Вероника…
– Какая Вероника?! Эта Ве-ве-ве? Да Верочка она обыкновенная!
– Хватит! – чуть ли не завопил Вовик и совсем еле слышно добавил: – Не надо…
– О, как я вас понимаю! – с громадным сожалением воскликнула бабушка Ирина-Ирэна. – Как я вас хочу пре-дос-те-речь! Прочь, прочь, прочь от неё!!! Берегитесь! Она залжёт вас! Бегите от псевдовоспитанной девочки Вероники! Спасайтесь от коварной девочки Верочки!
Конечно, Вовик и сам был горазд соврать при случае, и ловко, но он не подозревал, что вранье может быть таких размеров, как Вероникина-Верочкина ложь. Он и верил и не верил бабушке Ирине-Ирэне.
Вот так-то и бывает в жизни, уважаемые читатели: когда сам подвираешь, других обманываешь, и если это у тебя получается довольно неплохо, ты, конечно, доволен… А вот когда тебя самого оставят в дураках, тебе это не нравится!
И Вовик спускался по лестнице оглушенный, опустошенный, с больной головой. Он до того ничегошеньки не соображал, что опустился на ступеньку, не знал, куда идти, зачем, для чего, а перед глазами у него мелькали разноцветные бантики, насмешливо мелькали, издевательски… Он пришёл к ней, сопровождать её, а она ушла к Робке-Пробке, который хотел захватить ее…
Опять у Вовика разболелась голова, ноги ослабли, но он заставил себя встать, потому что уже замёрз, и усилием воли запретил себе снова опуститься на ступеньку. Ведь самое ужасное, просто сверх-сверх-сверх-ужасное, состояло в том, что ему хотелось увидеть эту лгунью Веронику-Верочку! [8] А она, вся голова в разноцветных бантиках, ушла к Робке-Пробке…
Вовик и не заметил, как спустился с лестницы, вышел из подъезда и сел на скамью, опять абсолютно ничего не соображая, даже не пытаясь осознать, где он находится, что с ним стряслось и что надо делать. Он понимал только одно: у него большое-большое-большое горе, какого он ещё ни разу не знал в жизни… И он уже не испытывал высокого и прекрасного чувства к той, которая его безжалостно обманула, а просто страдал…
И даже когда напротив опустился на скамью Илларион Венедиктович, Вовик не сразу сообразил, где он видел этого человека, а когда узнал генерал-лейтенанта в отставке, тоже не сразу понял, что ему от этого человека требуется.
А Илларион Венедиктович сидел, бессильно расставив колени, низко опустив голову, упершись руками в скамью, словно боясь упасть на землю. Ему не просто хотелось пить, его мучила страшнейшая жажда, такая страшнейшая, что, казалось, внутри у него всё пересохло и раскалилось.
– Пи-и-и-и-ить… – прохрипел он. – Пи-и-и-ить… быстро… прошу… пи-и-и-ить…
Вот тут у Вовика хватило соображения бегом взлететь по лестнице, сказать открывшей дверь Анастасии Георгиевне, что там, внизу, у подъезда, плохо одному человеку, что он быстро просит принести попить.
