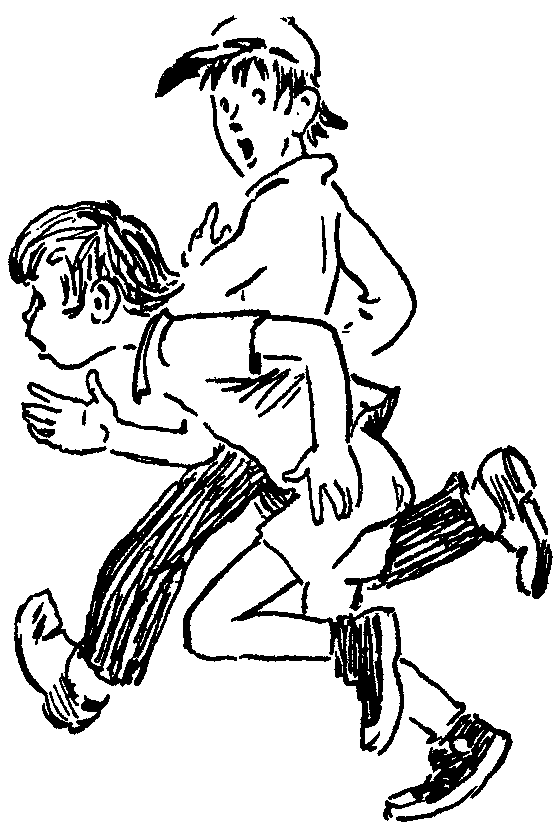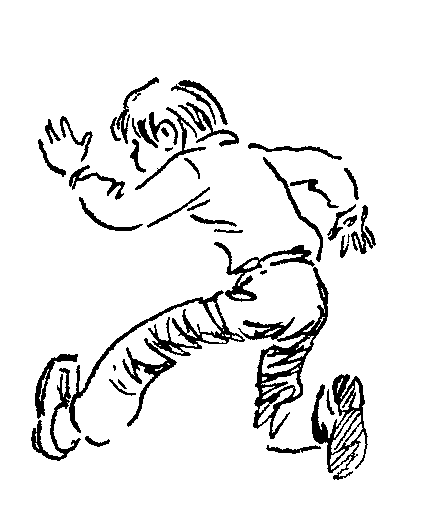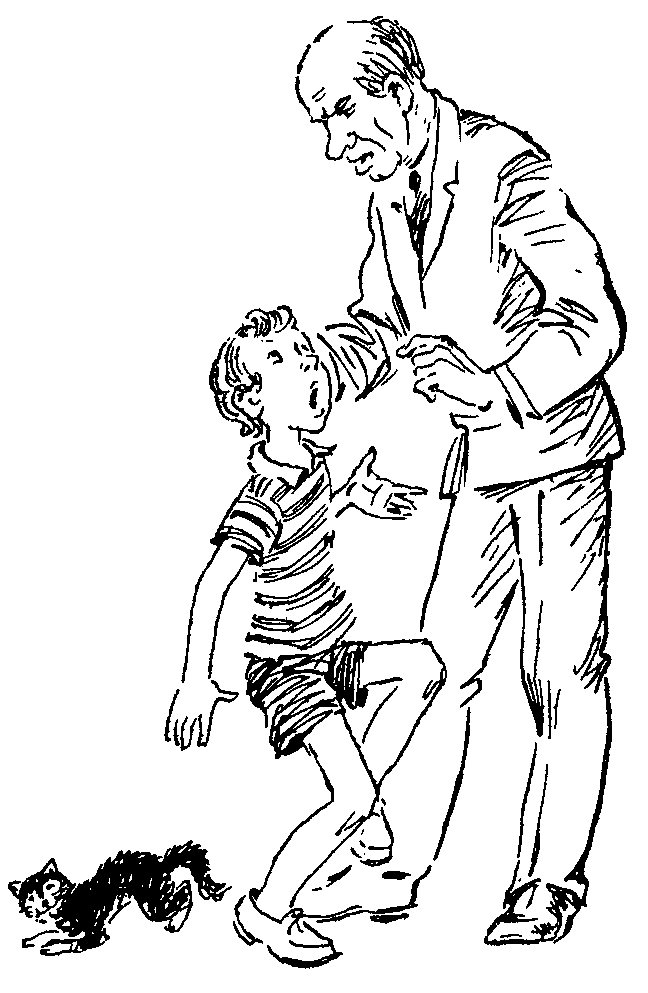Страница:
– Так ведь не я один! – обиженно воскликнул Вовик. – Дяденьки даже и тётеньки некоторые… тоже! Я видел, своими собственными глазами видел!
– Я не про некоторых дяденек и тетенек спрашиваю, а про тебя, Владимир. И учти: я разговариваю с тобой абсолютно серьёзно. От этого нашего разговора многое зависит в твоей жизни, многое, может быть, вся твоя жизнь да и моя тоже… Да не таращь ты глаза, а слушай внимательно. Итак, ты сознаешь или нет всю глубину своего морального падения?
Пожав плечами, Вовик довольно беззаботно признался:
– А я и не знаю, куда это я падал. Если вы о том, что я зайцем… сознаю, конечно. – И тут его беззаботность почти мигом испарилась под пронзительным, строгим, даже очень суровым взглядом Иллариона Венедиктовича. – Да я ведь и не знал, что это преступление, да ещё и государственное… Понятия не имел… Кататься я люблю! – в отчаянии воскликнул он. – И мороженое люблю!
– Не знал, понятия не имел… – почти передразнил Илларион Венедиктович. – А надо знать, что именно совершаешь. Надо понятие иметь, чем именно занимаешься. Жаль, оч-чень жаль, если ты окажешься, то есть уже являешься, плохим человеком.
– Нормальный я человек, – неуверенно выговорил Вовик, опять тщетно пытаясь догадаться, к чему весь этот разговор и надо ли его продолжать… Только вот зачем генерал-лейтенанту, хотя и в отставке, на какого-то школьника время тратить? И самое подозрительное: генерал, а мороженое любит, как мальчишка. – Человек я нормальный, – ещё неувереннее повторил Вовик. – Ладно, зайцем ездить не буду. А дальше что? Ничего я не понимаю! – вырвалось у него почти с болью. – Государственный преступник, моральное падение, позор!.. Мороженое вот… – обреченно закончил он.
И вместо того, чтобы ответить Вовику, Илларион Венедиктович долго молчал и, будто не слыша его вопросов, заговорил о другом:
– Понимаешь, Владимир, никак не могу привыкнуть к штатской жизни. Никак! Представляешь, всю жизнь отдать армии и – оказаться штатским… Места себе не находил! – Он до того разволновался, что сначала махнул правой рукой, затем левой, а потом ещё – обеими руками, снова накупил мороженого, быстро со своей долей разделался и продолжал чуть спокойнее: – Но жизнь привела меня к одному важному решению. Появилась у меня одна невероятнейшая идея… (Обращаю ваше внимание, уважаемые читатели, что Вовик пропустил эти слова мимо ушей! Во-первых, потому что увлекся мороженым, а во-вторых, снова убедился, что никогда ему своего странного собеседника не понять!) – Илларион Венедиктович продолжал: – Но идея идеей, а на душе-то скверно. До того скверно… – он горестно замолчал.
– Не понимаю я вас, – признался Вовик, – вам же есть чем гордиться.
– Есть! Чем! Гордиться! – насмешливо, почти с возмущением воскликнул Илларион Венедиктович. – Так вот сидеть дома и гордиться с утра до вечера? Затем телевизор посмотреть, поспать, позавтракать и снова гордиться? Ну, предположим, сижу я и горжусь своим боевым прошлым, а ты в это время совершаешь микроскопические государственные преступления, или бездельничаешь, или троечки получаешь… Чем же мне гордиться прикажешь?
– Да при чём здесь я-то?!?!?! – поразился Вовик, даже подпрыгнув на стулике. – Я-то здесь при чем?!?!?!
– А понятно ли тебе, за что я воевал? – грозно спросил генерал-лейтенант в отставке Самойлов. – За что я воевал, ты хоть имеешь представление?
Вовик перестал есть мороженое, подумал немного и ответил:
– За Родину вы воевали. За народ. Против фашизма. За нашу счастливую мирную жизнь. Вообще, за мир во всём мире.
– Совершенно справедливо, – одобрил Илларион Венедиктович, но было заметно, что ответ удовлетворил его далеко не полностью. – А что такое народ, по-твоему?
– Ну… – Вовик попыхтел немного от умственного напряжения, и красные щёки его стали ещё краснее. – Народ – это всё люди.
– В том числе и ты, Владимир.
– Я?!?!?! – Вовик опять подпрыгнул на стуле, только на этот раз гораздо выше, чем в первый. – Как это – и в том числе?
– А вот так. Ты, Владимир Краснощёков, частица народа, нашего великого советского народа. Маленькая, крошечная, но – запомни и прими к сведению! – частица народа. И теперь вникни в следующее, – не говорил, а словно диктовал Илларион Венедиктович, – если одна частица народа зайцем ездит, другая – бездельничает, третья – вообще дурака валяет… Что тогда получается? Получается, товарищ Краснощёков, каждая из этих частиц, в том числе и ты, не понимает, что мы за неё кровь проливали. Я и вся наша доблестная армия сражалась за то, чтобы ты вырос замечательным человеком. Ты и все мальчишки и девчонки, все, все, до единого и единой!
Смущенно и недоверчиво улыбнувшись, Вовик сказал:
– Но ведь не всё же могут быть замечательными. Скорбно покачав головой, Илларион Венедиктович с большим сожалением произнес:
– Многого, многого ты ещё, Владимир, не понимаешь. Потому что всё больше о пустяках думаешь. Вот ты правильно сказал, что мы воевали против фашизма. Но задумывался ли ты над тем, что фашисты не оставили стремления во что бы то ни стало покорить наш народ, в том числе и тебя, конечно?
– Но они же меня не знают! – Вовик в третий раз подпрыгнул на стулике, но ещё гораздо выше, чем в два предыдущих. – Фашисты ведь против всех, а я… Больно-то я им нужен! – Вовик попытался хмыкнуть, но хмык получился неуверенным. – Но в общем-то… – И он мог только пыхтеть от умственного напряжения.
– Итак, подведём итог нашего не оч-чень-то результативного разговора, – сумрачно проворчал Илларион Венедиктович. – Взгляды на жизнь у тебя, Владимир, и на международную обстановку достаточно расплывчатые. Вернее, никаких взглядов у тебя практически нет. Живешь как придётся. Делаешь всё что взбредет в голову. А я ведь намеревался заняться тобой, постараться объяснить тебе смысл жизни, хотя бы для начала смысл детства. Но поймешь ли ты?
Вовик, нахмурившись, призадумался. Честно говоря, уважаемые читатели, расспросы Иллариона Венедиктовича и его рассуждения были для мальчишки и тягостны, и непонятны, вернее, были просто непонятны, а оттого и тягостны. И, несмотря на самоуверенность, он с обидой ощущал себя если и не дураком, то и не особенно умным… Но зато ему было здорово приятно то, что генерал-лейтенант в отставке разговаривал с ним совершенно серьёзно, как никто ещё в жизни с ним не разговаривал. Да и мороженым так его тоже никто ещё в жизни ни разу не угощал.
Взвесив все эти соображения, Вовик вскочил – руки по швам, пятки вместе, носки врозь – и отчеканил:
– Рады стараться, товарищ гене…
– Садись! – коротко и сердито оборвал Илларион Венедиктович. – Третий раз напомнить о чем?
– Называть вас только по имени-отчеству, – уныло отозвался Вовик: он рассчитывал, что его бравый ответ как раз и приведет генерал-лейтенанта в отставке в восторг.
– Вольно, садись, – предложил Илларион Венедиктович. – Слушай меня как можно внимательнее. Условия нашей предполагаемой дружбы следующие. Первое: дал слово – выполни его во что бы то ни стало. Условие второе: ничего не скрывать друг от друга. Я, например, почти готов раскрыть тебе свою главную тайну.
– Тайну?!?!?! – Вовик с трудом удержался, чтобы не подпрыгнуть на стуле. – Какую тайну?!?!?!
– Со временем узнаешь. Когда мне станет ясно, что же ты за человек.
– Да нормальный я человек, Илларион Венедиктович! Скажите, пожалуйста, вашу главную тайну!
Генерал-лейтенант в отставке Самойлов посмотрел на него долгим, изучающим взглядом и четко проговорил:
– Завтра встречаемся здесь в семь ноль-ноль.
– Утра?!
– Так точно.
– Я… я постараюсь, – упавшим голосом прошептал Вовик. – Есть быть завтра здесь в семь ноль-ноль.
– О нашей встрече никому ни слова. Ясно?
– Нет, не ясно. Почему никто не должен знать, что я с вами познакомился?
– Так надо. И больше – никаких расспросов! – недовольно произнес Илларион Венедиктович. – Мне оч-чень необходимо проверить тебя. Я ведь ещё не знаю, что же ты за человек. Например, я не имею никаких данных о том, умеешь ли ты держать язык за зубами. Нет у меня и полной уверенности в том, что ты способен держать своё слово. – Он взглянул на часы и озабоченно проговорил: – Мне пора. Значит, завтра здесь в семь ноль-ноль. В случае опоздания больше ты меня никогда не увидишь. До завтра, Владимир.
…А назавтра Вовик проснулся в девять часов тридцать две минуты, бросился бежать, едва успев натянуть брюки, мчался по улицам босиком, но в условленном месте генерал-лейтенанта в отставке Самойлова Иллариона Венедиктовича не было.
Глава под номером ДВА и под названием
 Фамилия у мальчика была Мотылёчек. Когда он впервые в жизни понял, что фамилия у него, если уж и не очень, то довольно смешная, и когда над ней стали смеяться, а он стал из-за этого страдать, дедушка Арсентий сказал:
Фамилия у мальчика была Мотылёчек. Когда он впервые в жизни понял, что фамилия у него, если уж и не очень, то довольно смешная, и когда над ней стали смеяться, а он стал из-за этого страдать, дедушка Арсентий сказал:
– Как, внук, ты, к примеру, смотришь на фамилию Утринос? А? Друг у меня такой был. И вся его родня с древних времен жила и до сих пор живёт под фамилией Утринос. И никто, кроме дураков, над ними не смеялся и не смеется. А у нас-то фамилия-то какая звучная, нежная да красивая – Мотылёчки!
– Да смеются ведь! – захныкал внук. – Дразнятся!
– Кто смеется-то? – осердился дедушка Арсентий. – Дразнится кто? Те! – Он грозно вознёс указательный палец правой руки вверх. – У кого в голове дырок больше, чем природой положено! Вот у тебя сколько дырок в голове?
– Не знаю.
– Давай считать. Рот – раз, нос – два-три, глаза – четыре-пять, уши – ещё две дырки. Сколько всего получилось?
– Семь.
– Вот, вот, именно семь. И ни единой меньше, и ни единой больше, – важно, как будто научное открытие формулируя, заключил дедушка Арсентий. – А если в голове имеется лишняя дырка, – он понизил голос до таинственного шёпота, – через неё ум, вырабатываемый мозгом, улетучивается в атмосферу. Понятно это тебе или нет?
Ванечка осторожно, даже боязливо ощупал свою голову, испуганно спросил:
– Правда, что лишняя дырка может быть?
– Ещё какая правда! – весело заверил дедушка Арсентий. – Бывает, живёт человек дурак дураком, а ведь школу окончил, институт, курсы, но не подозревает, – он опять вознес вверх указательный палец правой руки, однако, на этот раз очень угрожающе, – понятия не имеет, почему живёт дурак дураком. А всё оттого, что когда-то у него в голове образовалась лишняя дырка, может быть, ещё в глубоком детстве.
Ванечка снова и уже в страхе, перемешанном с ужасом, или в ужасе, перемешанном со страхом, ощупал свою голову и представьте себе, уважаемые читатели, эта привычка осталась у него на всю жизнь! Да, да, да, только задумается профессор Иван Варфоломеевич Мотылёчек над чем-нибудь научным или просто важным, так руки его сами тянутся к голове!
Ну, а тогда, когда он ещё был Ванечкой, разговор его с дедушкой закончился неожиданным образом: внук до того громко разревелся, что ничего не слышал, а когда устал реветь и старательно пересчитал дырки в своей голове, успокоился, ибо их оказалось ровно семь, и лишь только тут услышал голос дедушки Арсентия:
– Ревел ты хорошо, но зря. Мужчинам реветь стыдно.
– А я мужчина, что ли? – удивился Ванечка.
– А кто же, суслик, что ли? Мужчина ты по имени Иван, понял? Самое знаменитое русское имя! А теперь ответь мне честно, точно и кратко: почему ревел?
– Из-за дырок. Восемь штук, насчитал.
– Э-э, если бы этот факт и подтвердился, тут слезами не поможешь. Голову, внук, надо неустанно развивать, тогда лишней дырки в ней никогда не образуется.
Ванечка, конечно, поинтересовался: а как это – развивать голову? Дедушка Арсентий обстоятельно и долго растолковывал, что настоящему мужчине для этого требуется: учиться, учиться и учиться, уважать старших, не обижать младших, сколько есть сил помогать тем и другим, заниматься физкультурой по принципу – в здоровом теле такой же здоровый дух и, главное, понятия не иметь, что такое лень, знать, что трудности существуют только для того, чтобы их побеждать, обязательно иметь весёлый характер и плюс ко всему быть добрым и честным.
– А фамилией своей гордись, – в заключение посоветовал дедушка Арсентий, – ни у кого во всём мире такой замечательной фамилии не имеется. И вообще, не фамилия человека украшает, а человек своей фамилии может славу принести.
И теперь уже невозможно представить, что кто-то когда-то посмеивался или даже смеялся над ныне знаменитой и уважаемой фамилией большого ученого.
Произошло это не сразу, но довольно быстро. Примерно классе в третьем у него уже было прозвище, и не обидное, а почетное: Ванька – Жюль Верн.
Мало того, что Ванечка прочел все сочинения замечательного писателя-фантаста, он и сам научился фантазировать, безудержно мечтать, бесконечно что-нибудь выдумывать, изобретать. Комнатка его напоминала одновременно слесарную и столярную мастерские, научную лабораторию, библиотеку и живой уголок. Да ещё по всей квартире висели клетки с птицами, стояли аквариумы, отовсюду смотрели неподвижными взглядами чучела зверюшек.
Родители, можно сказать, стойко терпели увлечения сына, бранились лишь тогда, когда в его комнатке раздавались взрывы или оттуда валил чёрный, синий, белый или разноцветный дым.
Зато уж дедушка Арсентий горой стоял за внука, тратил на его разнообразные эксперименты почти всю свою пенсию, восторженно всем объяснял:
– Ученый на ваших и наших глазах растёт! Никакой он вам не Жюль Верн, а Иван Варфоломеевич Мотылёчек! Знаменитой будет наша фамилия! Ванечка такое когда-нибудь открытие научное сделает или такое чего-нибудь изобретет, что весь мир ахнет и рты разинет! Дерзай, внук, стремись к вершинам знаний, постигай все науки!
Ванечка дерзал, стремился к вершинам знаний, постигал, конечно, не все науки, но многие, однако постепенно круг его увлечений сужался и сужался. Ванечка всё меньше занимался техникой, его всё больше и больше интересовало всё живое – от одуванчика, например, и воробья до кенгуру и дельфина… Какого только живья не было теперь в квартире! Верной помощницей брата стала сестренка. Она, деточка-семилеточка, как называл её дедушка Арсентий, ещё недавно боявшаяся обыкновенных дождевых червей, теперь спокойно играла с ужами, ежами, мышами. И лечила она не кукол и игрушечных зверюшек, а живых собак, кошек и подраненных птиц, которых к ней приносили со всего района.
– Дети, я не против ваших ветеринарных наклонностей, – жалобно говаривал папа, – но… – И он умоляюще смотрел на дедушку Арсентия.
А тот восторженно объяснял:
– Ванечка готовится к научному открытию! Ниночка ему прекрасно помогает!
– Да, да, всё это очень прекрасно, – уныло соглашалась мама, – но почему я боюсь ужей, ежей, мышей, а они меня нет? Весь дом называет нашу квартиру зверинцем.
– Зато со временем, – гордо вознеся указательный палец правой руки, отвечал дедушка Арсентий, – дом наш будет знаменит тем, что в нём жили и с детства занимались научной работой Иван Варфоломеевич Мотылёчек и его верная помощница и сестра Нина Варфоломеевна!
Но, как бы искренне и абсолютно глубоко ни верил дедушка Арсентий в научное будущее внука, он даже и приблизительно предполагать не мог, каким оно будет, вернее, какая сокровенная мечта овладеет Ванечкой ещё тогда, когда он и школу не окончит.
Началось всё с того, что однажды Ванечка разбудил ночью сестренку и спросил:
– Почему муха маленькая, а слон большой? Почему люди разного роста? Почему всё растёт?
– Мороженки не растут, – сквозь сон, не открывая глаз, ответила Ниночка, – конфеты не растут, у-у-у-уменьшаются… – она зевнула и продолжала крепко спать.
Дедушка Арсентий, тоже разбуженный внуком, на эти вопросы ответил так:
– Ночью спи, днём неустанно думай. Ты приближаешься к важной научной цели. Успехов тебе! – И он тихонечко, но с большим удовлетворением захрапел.
Мама приняла Ванечку за мышь и завизжала, и он еле-еле успокоил её, но расспрашивать не стал.
Папа выслушал его внимательно, даже присев на кровати, а отозвался следующим образом:
– Ищи ответы в выдающихся трудах замечательных деятелей науки. Продолжай образование. Прекращай возню с мышами и ужами, займись более сложными животными, а затем и человеком. Иди спать. – И сам заснул сидя, прислонившись к стене.
Утром обнаружилось, что никто не помнит о ночных разговорах с Ванечкой, но он-то всё запомнил: раздарил обитателей своего домашнего зверинца товарищам, школьным живым уголкам, записался в научную библиотеку и стал приносить оттуда книги стопку за стопкой. В квартире наступил покой, порядок и… стало скучновато. По настоянию родителей пришлось завести собаку, кошку и певчих птичек. Ими в основном занималась Ниночка, а Ванечка сидел над научными трудами, часто посещал лекции, регулярно занимался в кружках, где изучался растительный и животный мир.
И тут вдруг неожиданно и очень серьёзно заболела Ниночка, её сразу увезли в больницу. И хотя Ванечке не сказали, что болезнь сестренки смертельна, сердце его исстрадалось, он сам был словно больной – почти не спал, почти не ел, даже учиться стал неважно, всё время размышлял над тем, чем хотя бы отвлечь любимую сестренку от мук. Дважды в день он навещал её и всё спрашивал, чего бы она хотела.
Ниночка держалась мужественно, никто в больнице, даже ночные дежурные, не видел и не слышал, чтобы она плакала. И на вопросы брата она в ответ только слабо и виновато улыбалась и пожимала плечиками: дескать, чего мне ещё может быть надо, кроме здоровья. Но однажды она сказала, взяв брата за руку:
– Знаешь, Ванечка… Мне бы лошадку маленькую-маленькую.
– Так купим! – чуть ли не закричал Ванечка. – Я мигом!
– Нет, нет, не то, Ванечка… Мне бы маленькую, будто бы игрушечную, но живую, понимаешь, живую игрушку… чтобы я на ней детишечек катала… верхом… понимаешь, сколько радости-то было бы…
– Не бывает таких лошадок, Ниночка!
– Я знаю. А вот во сне часто вижу, что все игрушки живые. – В глазах Ниночки появился счастливый блеск. – Тигрёночек ростом с котёночка… Слоники хоботками помахивают… А в аквариуме китики плавают и фонтанчики пускают… Жирафик смотрит, как кенгурятки прыгают… Не заводные, Ванечка, а живые, настоящие, только очень маленькие… Ах, как интересно было бы детям играть… и болеть никто бы не вздумал, правда ведь?
Ниночка умерла, а Ивану долго ещё снились её сны о зверюшках-игрушках, а её мечта стала его мечтой, сокровенной и неотступной.
Когда он был студентом, товарищи и преподаватели относились к его сокровенной мечте с интересом, но как к заманчивой сказке, не имеющей ни практического, ни научного значения.
Когда же Иван Варфоломеевич рассказывал о Ниночкиной мечте уже коллегам-ученым, они при всем своем глубоком уважении к нему говорили почти одними и теми же словами:
– Конечно, конечно, детишкам… прелестно… фантастично… но… этакая мелкая фантастика.
Зато дети, заслышав о зверюшках-игрушках, не считали их мелкой фантастикой, а тут же превращались в зверюшек-игрушек и начинали, как это умеют делать только дети, самозабвеннейшую игру. И, глядя на них, Иван Варфоломеевич забывал, что в его сокровенную мечту, которую, подарила ему перед смертью Ниночка, никто не верил.
Нет, неправда! Один человек верил и безоговорочно! Может быть, вы сами догадались, уважаемые читатели, что этим человеком был, конечно же, дедушка Арсентий. Стал он уже очень стареньким, слабеньким, но как же они любили шутить с внуком, что дырок у него в голове не прибавилось! Дедушка Арсентий считал, что прожил свою жизнь достойно, и жалел лишь об одном: не увидит он результатов главного научного достижения внука – зверюшек-игрушек, выведенных при помощи эликсира грандиозус наоборотус (по-научному grandiozus naoborotus).
И даже когда дедушка Арсентий умер, вера его в успех сокровенной мечты внука всегда поддерживала Ивана Варфоломеевича, придавала немало новых сил. А воспоминания о сестренке заставляли его трудиться ещё напряженнее.
На письменном столе ученого стояло два портрета – дедушки Арсентия и Ниночки.
Началась война. Семья Ивана Варфоломеевича – родители, жена и маленький сын Серёжа – погибли под первой же бомбежкой, от дома остались одни развалины. Иван Варфоломеевич требовал, чтобы его отправили на фронт, но получил назначение в глубокий тыл – продолжать научную работу.
И хотя во время войны было, не до зверюшек-игрушек, Иван Варфоломеевич не забывал о своей сокровенной мечте и урывками, в память о сестренке Ниночке и сыне Серёженьке, что-то делал для создания эликсира грандиозус наоборотус.
К началу нашего повествования, уважаемые читатели, неустанный многолетний труд ученого близился к завершению.
Иван Варфоломеевич жил один, был для своих лет довольно бодр и относительно здоров. Но нельзя, к сожалению, утверждать, что на душе у него было покойно и всем он был удовлетворен. До сих пор он почему-то не мог поверить в гибель сына Серёженьки, не мог забыть его, изредка даже перебирал в уме всевозможнейшие варианты, один фантастичнее другого, суть которых сводилась к тому, что Серёженька остался в живых. Это была не уверенность, не вера, а наислабейшая, но непреходящая малюсенькая надежда. Откуда она взялась? Что поддерживало её в душе? Почему она не покидала его?.. Иван Варфоломеевич не мог сказать об этом ничего определённого, но она – малюсенькая надежда на немыслимое – потихоньку тлела в душе и помогала жить и работать.
А тут вдруг последовали событие за событием, которые так или иначе воздействовали на ускорение труда Ивана Варфоломеевича над созданием эликсира грандиозус наоборотус.
Однажды его навестил старый друг – генерал-лейтенант в отставке Илларион Венедиктович Самойлов – и начал возбуждённо рассказывать:
– Отправился я как-то погулять. Настроение у меня было замечательное. Я даже забыл – что со мной редко случается, – что нахожусь не на службе в армии, а в отставке. Тебе, Иванушка, этого не понять, ты человек сугубо штатский. Иду я по нашему двору и думаю, что ведь я воевал за то, чтобы жизнь была прекрасной. А прекрасной она может быть лишь только в том случае, когда все мальчишки и девчонки будут расти настоящими людьми – честными, добрыми, трудолюбивыми, умными, весёлыми, смелыми. За это я воевал, Иванушка! Ты согласен?
– Я согласен, Иллариоша, но ты сначала присядь за стол, – пригласил Иван Варфоломеевич, – вот тебе чаёк, печенье. И спокойно, понимаешь, спокойно рассказывай, что это тебя так растревожило?
– История довольно длинная, но тебе придётся её выслушать! Представляешь, иду я в тот оказавшийся впоследствии ужасным день, а на душе у меня, как говорится, птички поют, оч-чень радостно распевают. Я ведь переменил квартиру, никто меня в доме не знает. Для всех я – просто обыкновенный старичок-пенсионерик. Значит, надо мне для начала с кем-нибудь познакомиться. Оглядываюсь я по сторонам и вдруг вижу… Нет, ты даже вообразить не можешь, какую мерзость я увидел! Я…
– Приказываю тебе, старый вояка, успокоиться! – строго остановил его Иван Варфоломеевич. – В твоем возрасте…
– В моем возрасте некогда успокаиваться! – грозно перебил его Илларион Венедиктович. – И, пожалуйста, не прерывай меня!.. Представь себе такую отвратительную картину. Привезли во двор огромную кучу песка, чтобы было где играть малышам. Ведь их страсть к песку общеизвестна. И вот четверо оболтусов-лоботрясов, или, точнее, четверо малолетних негодяев младшего школьного возраста, вырыли в песке яму. И знаешь, чем они развлекались?
– Если ты не перестанешь трястись… – сердито произнес Иван Варфоломеевич, – я не стану тебя слушать!
– Если ты не прекратишь перебивание, я уйду и найду более внимательного друга!
– Попей хотя бы чаю, – попросил Иван Варфоломеевич, – и больше перебиваний не будет.
Илларион Венедиктович большими глотками выпил уже тёплый чай и продолжал чуть-чуть-чуть спокойнее:
– Негодяи младшего школьного возраста развлекались так. Берёт один из них чёрного котёночка, бросает его в яму, и все вчетвером закидывают этого хвостатого младенчика песком! Котёночек выкарабкивается из-под песка, пищит, а четверо истязателей начинают всё сначала и при этом вопиющем негодяйстве оч-чень громко хо-хо-чут! Ну, как прикажешь квалифицировать их действия?
– Дураки они, по-моему, и действительно несовершеннолетние негодяи.
– А что я должен был делать? Пристыдить? Подзатыльник дать? Толку-то от – этого всё равно никакого, раз их такими воспитали!.. А они вчетвером продолжают измываться над бедным котёночком.
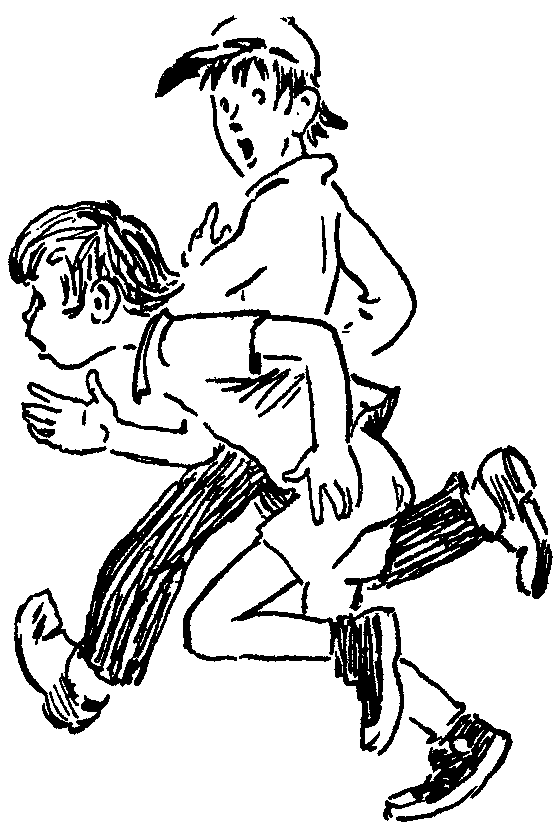
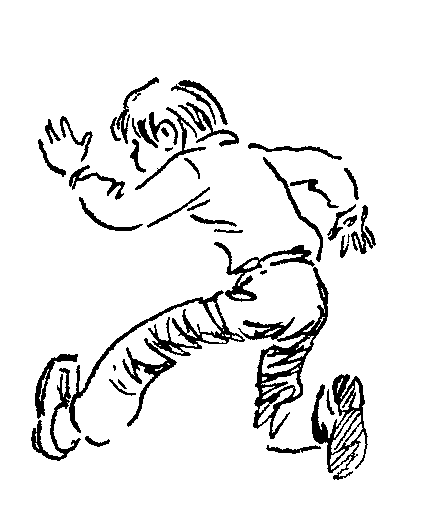
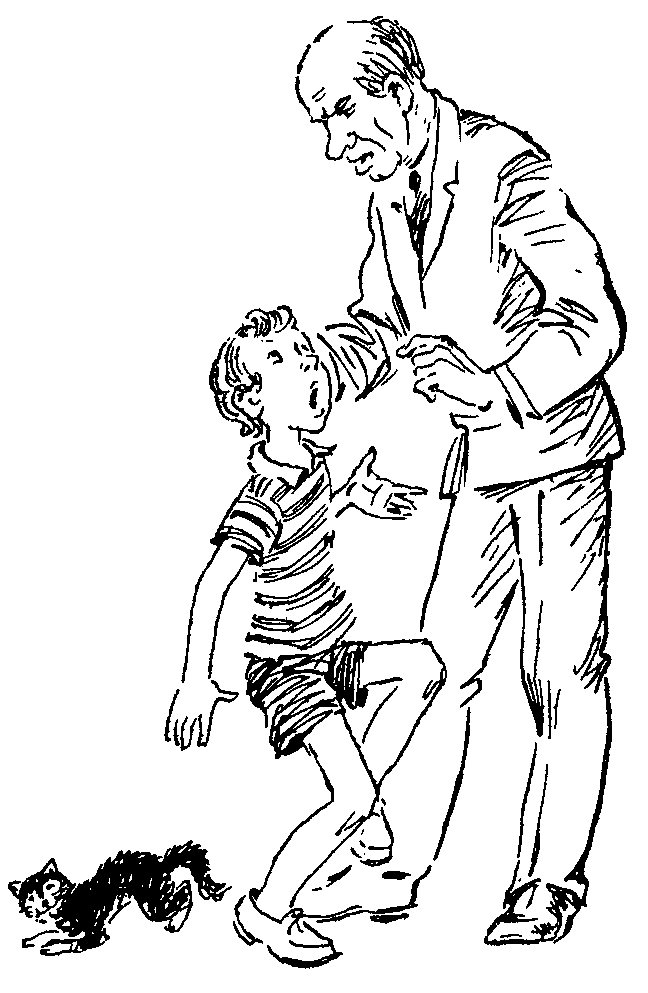 И я крикнул оболтусам-лоботрясам: «Прекратите издевательство!» А они на меня – ноль внимания, фунт презрения! И я потихоньку стал, подходить к ним всё ближе и ближе, прикидывая, у кого из четырех уши длиннее, чтобы удобнее ухватить было и надежнее! Но один из оболтусов-лоботрясов заметил меня и нагло, этак нахально-спокойненько объяснил: «Котёнок-то наш, дедушка, что хотим, то с ним и делаем». – «Мы его тренируем!» – с хахаканьем добавил второй. «Молчать! – приказал я, услышав такие потрясающие гадкие глупости или глупые гадости. – Смирно! – И схватил одного из негодяев за ухо, так крепко и умело схватил, что тот завизжал. – Не вздумай вырываться! – предупредил я. – Совсем ухо оторву, если хоть пошевелишься!» Приятели его, истязатели, конечно, врассыпную. «Ой, дедушка, отпустите! Ой, больно-то как!» – «А котёночку, по-твоему, как было? Оч-чень приятно, да?» – «Так ведь он – ой! – котёночек – ой! – а я – ой! – человек! Ой-ой-ой!!!» Пожалел я его, отпустил ухо, взял за резинку трусов: если и вырвется, то придётся ему в неприличном виде бежать. «Звать тебя, хулиган, как?» – «Федька». – «Что мне с тобой делать прикажешь?» – «Отпустить, конечно». – «Хитрый какой. А кто за ваши безобразные действия отвечать будет? Кому из вас в голову ударило бедное животное мучить?» – «Мы не мучили, мы играли». Короче говоря, Федька ничегошеньки не разумел в своем безобразнейшем поведении, оказался болван болваном. Ну, попытался я ему внушить, что он гражданин великой державы, будущий солдат нашей непобедимой армии. «Фёдор, – говорил я ему, – мы ведь не против, чтобы ты бегал, даже дрался, когда обстоятельства потребуют, до одури гонял мяч, глупости всякие вытворял по мере надобности… Но ведь с детства, Фёдор, надо хоть немножечко о будущем думать! Ведь страна надеется на вас! На каждого из вас! Родине одинаково дорог каждый мальчишка и каждая девчонка!». А Федька этак старательно в носу ковыряет всеми пальцами подряд, даже большими. «Чего ты там ищешь?» – возмутился я, почувствовав, что говорю с ним абсолютно напрасно. «Где чего ищу?» – «Да в носу!» – «Это у меня привычка такая, – с достоинством, понимаешь ли, объяснил Федька и прямо-таки с гордостью добавил: – Меня из-за этого даже из класса выгоняют с уроков». – «Неужели отвыкнуть не можешь?» – «А зачем? Интересно это, да и время быстрее проходит». – «Ну вот о чём ты сейчас думаешь? – в полнейшем бессилии и в такой же растерянности спросил я. – После того, что я тебе сказал?» – «О пирожках! – Федька неимоверно оживился. – Мамка пирожки стряпает. Вот я и жду. Только долго ещё. Папка мамку копухой зовет. Она медленно всё делает»… И знаешь, Иванушка, ушёл я от этого Федьки с таким ощущением, будто он меня побил, морально меня избил!
И я крикнул оболтусам-лоботрясам: «Прекратите издевательство!» А они на меня – ноль внимания, фунт презрения! И я потихоньку стал, подходить к ним всё ближе и ближе, прикидывая, у кого из четырех уши длиннее, чтобы удобнее ухватить было и надежнее! Но один из оболтусов-лоботрясов заметил меня и нагло, этак нахально-спокойненько объяснил: «Котёнок-то наш, дедушка, что хотим, то с ним и делаем». – «Мы его тренируем!» – с хахаканьем добавил второй. «Молчать! – приказал я, услышав такие потрясающие гадкие глупости или глупые гадости. – Смирно! – И схватил одного из негодяев за ухо, так крепко и умело схватил, что тот завизжал. – Не вздумай вырываться! – предупредил я. – Совсем ухо оторву, если хоть пошевелишься!» Приятели его, истязатели, конечно, врассыпную. «Ой, дедушка, отпустите! Ой, больно-то как!» – «А котёночку, по-твоему, как было? Оч-чень приятно, да?» – «Так ведь он – ой! – котёночек – ой! – а я – ой! – человек! Ой-ой-ой!!!» Пожалел я его, отпустил ухо, взял за резинку трусов: если и вырвется, то придётся ему в неприличном виде бежать. «Звать тебя, хулиган, как?» – «Федька». – «Что мне с тобой делать прикажешь?» – «Отпустить, конечно». – «Хитрый какой. А кто за ваши безобразные действия отвечать будет? Кому из вас в голову ударило бедное животное мучить?» – «Мы не мучили, мы играли». Короче говоря, Федька ничегошеньки не разумел в своем безобразнейшем поведении, оказался болван болваном. Ну, попытался я ему внушить, что он гражданин великой державы, будущий солдат нашей непобедимой армии. «Фёдор, – говорил я ему, – мы ведь не против, чтобы ты бегал, даже дрался, когда обстоятельства потребуют, до одури гонял мяч, глупости всякие вытворял по мере надобности… Но ведь с детства, Фёдор, надо хоть немножечко о будущем думать! Ведь страна надеется на вас! На каждого из вас! Родине одинаково дорог каждый мальчишка и каждая девчонка!». А Федька этак старательно в носу ковыряет всеми пальцами подряд, даже большими. «Чего ты там ищешь?» – возмутился я, почувствовав, что говорю с ним абсолютно напрасно. «Где чего ищу?» – «Да в носу!» – «Это у меня привычка такая, – с достоинством, понимаешь ли, объяснил Федька и прямо-таки с гордостью добавил: – Меня из-за этого даже из класса выгоняют с уроков». – «Неужели отвыкнуть не можешь?» – «А зачем? Интересно это, да и время быстрее проходит». – «Ну вот о чём ты сейчас думаешь? – в полнейшем бессилии и в такой же растерянности спросил я. – После того, что я тебе сказал?» – «О пирожках! – Федька неимоверно оживился. – Мамка пирожки стряпает. Вот я и жду. Только долго ещё. Папка мамку копухой зовет. Она медленно всё делает»… И знаешь, Иванушка, ушёл я от этого Федьки с таким ощущением, будто он меня побил, морально меня избил!
– Я не про некоторых дяденек и тетенек спрашиваю, а про тебя, Владимир. И учти: я разговариваю с тобой абсолютно серьёзно. От этого нашего разговора многое зависит в твоей жизни, многое, может быть, вся твоя жизнь да и моя тоже… Да не таращь ты глаза, а слушай внимательно. Итак, ты сознаешь или нет всю глубину своего морального падения?
Пожав плечами, Вовик довольно беззаботно признался:
– А я и не знаю, куда это я падал. Если вы о том, что я зайцем… сознаю, конечно. – И тут его беззаботность почти мигом испарилась под пронзительным, строгим, даже очень суровым взглядом Иллариона Венедиктовича. – Да я ведь и не знал, что это преступление, да ещё и государственное… Понятия не имел… Кататься я люблю! – в отчаянии воскликнул он. – И мороженое люблю!
– Не знал, понятия не имел… – почти передразнил Илларион Венедиктович. – А надо знать, что именно совершаешь. Надо понятие иметь, чем именно занимаешься. Жаль, оч-чень жаль, если ты окажешься, то есть уже являешься, плохим человеком.
– Нормальный я человек, – неуверенно выговорил Вовик, опять тщетно пытаясь догадаться, к чему весь этот разговор и надо ли его продолжать… Только вот зачем генерал-лейтенанту, хотя и в отставке, на какого-то школьника время тратить? И самое подозрительное: генерал, а мороженое любит, как мальчишка. – Человек я нормальный, – ещё неувереннее повторил Вовик. – Ладно, зайцем ездить не буду. А дальше что? Ничего я не понимаю! – вырвалось у него почти с болью. – Государственный преступник, моральное падение, позор!.. Мороженое вот… – обреченно закончил он.
И вместо того, чтобы ответить Вовику, Илларион Венедиктович долго молчал и, будто не слыша его вопросов, заговорил о другом:
– Понимаешь, Владимир, никак не могу привыкнуть к штатской жизни. Никак! Представляешь, всю жизнь отдать армии и – оказаться штатским… Места себе не находил! – Он до того разволновался, что сначала махнул правой рукой, затем левой, а потом ещё – обеими руками, снова накупил мороженого, быстро со своей долей разделался и продолжал чуть спокойнее: – Но жизнь привела меня к одному важному решению. Появилась у меня одна невероятнейшая идея… (Обращаю ваше внимание, уважаемые читатели, что Вовик пропустил эти слова мимо ушей! Во-первых, потому что увлекся мороженым, а во-вторых, снова убедился, что никогда ему своего странного собеседника не понять!) – Илларион Венедиктович продолжал: – Но идея идеей, а на душе-то скверно. До того скверно… – он горестно замолчал.
– Не понимаю я вас, – признался Вовик, – вам же есть чем гордиться.
– Есть! Чем! Гордиться! – насмешливо, почти с возмущением воскликнул Илларион Венедиктович. – Так вот сидеть дома и гордиться с утра до вечера? Затем телевизор посмотреть, поспать, позавтракать и снова гордиться? Ну, предположим, сижу я и горжусь своим боевым прошлым, а ты в это время совершаешь микроскопические государственные преступления, или бездельничаешь, или троечки получаешь… Чем же мне гордиться прикажешь?
– Да при чём здесь я-то?!?!?! – поразился Вовик, даже подпрыгнув на стулике. – Я-то здесь при чем?!?!?!
– А понятно ли тебе, за что я воевал? – грозно спросил генерал-лейтенант в отставке Самойлов. – За что я воевал, ты хоть имеешь представление?
Вовик перестал есть мороженое, подумал немного и ответил:
– За Родину вы воевали. За народ. Против фашизма. За нашу счастливую мирную жизнь. Вообще, за мир во всём мире.
– Совершенно справедливо, – одобрил Илларион Венедиктович, но было заметно, что ответ удовлетворил его далеко не полностью. – А что такое народ, по-твоему?
– Ну… – Вовик попыхтел немного от умственного напряжения, и красные щёки его стали ещё краснее. – Народ – это всё люди.
– В том числе и ты, Владимир.
– Я?!?!?! – Вовик опять подпрыгнул на стуле, только на этот раз гораздо выше, чем в первый. – Как это – и в том числе?
– А вот так. Ты, Владимир Краснощёков, частица народа, нашего великого советского народа. Маленькая, крошечная, но – запомни и прими к сведению! – частица народа. И теперь вникни в следующее, – не говорил, а словно диктовал Илларион Венедиктович, – если одна частица народа зайцем ездит, другая – бездельничает, третья – вообще дурака валяет… Что тогда получается? Получается, товарищ Краснощёков, каждая из этих частиц, в том числе и ты, не понимает, что мы за неё кровь проливали. Я и вся наша доблестная армия сражалась за то, чтобы ты вырос замечательным человеком. Ты и все мальчишки и девчонки, все, все, до единого и единой!
Смущенно и недоверчиво улыбнувшись, Вовик сказал:
– Но ведь не всё же могут быть замечательными. Скорбно покачав головой, Илларион Венедиктович с большим сожалением произнес:
– Многого, многого ты ещё, Владимир, не понимаешь. Потому что всё больше о пустяках думаешь. Вот ты правильно сказал, что мы воевали против фашизма. Но задумывался ли ты над тем, что фашисты не оставили стремления во что бы то ни стало покорить наш народ, в том числе и тебя, конечно?
– Но они же меня не знают! – Вовик в третий раз подпрыгнул на стулике, но ещё гораздо выше, чем в два предыдущих. – Фашисты ведь против всех, а я… Больно-то я им нужен! – Вовик попытался хмыкнуть, но хмык получился неуверенным. – Но в общем-то… – И он мог только пыхтеть от умственного напряжения.
– Итак, подведём итог нашего не оч-чень-то результативного разговора, – сумрачно проворчал Илларион Венедиктович. – Взгляды на жизнь у тебя, Владимир, и на международную обстановку достаточно расплывчатые. Вернее, никаких взглядов у тебя практически нет. Живешь как придётся. Делаешь всё что взбредет в голову. А я ведь намеревался заняться тобой, постараться объяснить тебе смысл жизни, хотя бы для начала смысл детства. Но поймешь ли ты?
Вовик, нахмурившись, призадумался. Честно говоря, уважаемые читатели, расспросы Иллариона Венедиктовича и его рассуждения были для мальчишки и тягостны, и непонятны, вернее, были просто непонятны, а оттого и тягостны. И, несмотря на самоуверенность, он с обидой ощущал себя если и не дураком, то и не особенно умным… Но зато ему было здорово приятно то, что генерал-лейтенант в отставке разговаривал с ним совершенно серьёзно, как никто ещё в жизни с ним не разговаривал. Да и мороженым так его тоже никто ещё в жизни ни разу не угощал.
Взвесив все эти соображения, Вовик вскочил – руки по швам, пятки вместе, носки врозь – и отчеканил:
– Рады стараться, товарищ гене…
– Садись! – коротко и сердито оборвал Илларион Венедиктович. – Третий раз напомнить о чем?
– Называть вас только по имени-отчеству, – уныло отозвался Вовик: он рассчитывал, что его бравый ответ как раз и приведет генерал-лейтенанта в отставке в восторг.
– Вольно, садись, – предложил Илларион Венедиктович. – Слушай меня как можно внимательнее. Условия нашей предполагаемой дружбы следующие. Первое: дал слово – выполни его во что бы то ни стало. Условие второе: ничего не скрывать друг от друга. Я, например, почти готов раскрыть тебе свою главную тайну.
– Тайну?!?!?! – Вовик с трудом удержался, чтобы не подпрыгнуть на стуле. – Какую тайну?!?!?!
– Со временем узнаешь. Когда мне станет ясно, что же ты за человек.
– Да нормальный я человек, Илларион Венедиктович! Скажите, пожалуйста, вашу главную тайну!
Генерал-лейтенант в отставке Самойлов посмотрел на него долгим, изучающим взглядом и четко проговорил:
– Завтра встречаемся здесь в семь ноль-ноль.
– Утра?!
– Так точно.
– Я… я постараюсь, – упавшим голосом прошептал Вовик. – Есть быть завтра здесь в семь ноль-ноль.
– О нашей встрече никому ни слова. Ясно?
– Нет, не ясно. Почему никто не должен знать, что я с вами познакомился?
– Так надо. И больше – никаких расспросов! – недовольно произнес Илларион Венедиктович. – Мне оч-чень необходимо проверить тебя. Я ведь ещё не знаю, что же ты за человек. Например, я не имею никаких данных о том, умеешь ли ты держать язык за зубами. Нет у меня и полной уверенности в том, что ты способен держать своё слово. – Он взглянул на часы и озабоченно проговорил: – Мне пора. Значит, завтра здесь в семь ноль-ноль. В случае опоздания больше ты меня никогда не увидишь. До завтра, Владимир.
…А назавтра Вовик проснулся в девять часов тридцать две минуты, бросился бежать, едва успев натянуть брюки, мчался по улицам босиком, но в условленном месте генерал-лейтенанта в отставке Самойлова Иллариона Венедиктовича не было.
Глава под номером ДВА и под названием
«Сокровенная мечта профессора Ивана Варфоломеевича Мотылёчка,
или
Пути шпионские неисповедимы»

– Как, внук, ты, к примеру, смотришь на фамилию Утринос? А? Друг у меня такой был. И вся его родня с древних времен жила и до сих пор живёт под фамилией Утринос. И никто, кроме дураков, над ними не смеялся и не смеется. А у нас-то фамилия-то какая звучная, нежная да красивая – Мотылёчки!
– Да смеются ведь! – захныкал внук. – Дразнятся!
– Кто смеется-то? – осердился дедушка Арсентий. – Дразнится кто? Те! – Он грозно вознёс указательный палец правой руки вверх. – У кого в голове дырок больше, чем природой положено! Вот у тебя сколько дырок в голове?
– Не знаю.
– Давай считать. Рот – раз, нос – два-три, глаза – четыре-пять, уши – ещё две дырки. Сколько всего получилось?
– Семь.
– Вот, вот, именно семь. И ни единой меньше, и ни единой больше, – важно, как будто научное открытие формулируя, заключил дедушка Арсентий. – А если в голове имеется лишняя дырка, – он понизил голос до таинственного шёпота, – через неё ум, вырабатываемый мозгом, улетучивается в атмосферу. Понятно это тебе или нет?
Ванечка осторожно, даже боязливо ощупал свою голову, испуганно спросил:
– Правда, что лишняя дырка может быть?
– Ещё какая правда! – весело заверил дедушка Арсентий. – Бывает, живёт человек дурак дураком, а ведь школу окончил, институт, курсы, но не подозревает, – он опять вознес вверх указательный палец правой руки, однако, на этот раз очень угрожающе, – понятия не имеет, почему живёт дурак дураком. А всё оттого, что когда-то у него в голове образовалась лишняя дырка, может быть, ещё в глубоком детстве.
Ванечка снова и уже в страхе, перемешанном с ужасом, или в ужасе, перемешанном со страхом, ощупал свою голову и представьте себе, уважаемые читатели, эта привычка осталась у него на всю жизнь! Да, да, да, только задумается профессор Иван Варфоломеевич Мотылёчек над чем-нибудь научным или просто важным, так руки его сами тянутся к голове!
Ну, а тогда, когда он ещё был Ванечкой, разговор его с дедушкой закончился неожиданным образом: внук до того громко разревелся, что ничего не слышал, а когда устал реветь и старательно пересчитал дырки в своей голове, успокоился, ибо их оказалось ровно семь, и лишь только тут услышал голос дедушки Арсентия:
– Ревел ты хорошо, но зря. Мужчинам реветь стыдно.
– А я мужчина, что ли? – удивился Ванечка.
– А кто же, суслик, что ли? Мужчина ты по имени Иван, понял? Самое знаменитое русское имя! А теперь ответь мне честно, точно и кратко: почему ревел?
– Из-за дырок. Восемь штук, насчитал.
– Э-э, если бы этот факт и подтвердился, тут слезами не поможешь. Голову, внук, надо неустанно развивать, тогда лишней дырки в ней никогда не образуется.
Ванечка, конечно, поинтересовался: а как это – развивать голову? Дедушка Арсентий обстоятельно и долго растолковывал, что настоящему мужчине для этого требуется: учиться, учиться и учиться, уважать старших, не обижать младших, сколько есть сил помогать тем и другим, заниматься физкультурой по принципу – в здоровом теле такой же здоровый дух и, главное, понятия не иметь, что такое лень, знать, что трудности существуют только для того, чтобы их побеждать, обязательно иметь весёлый характер и плюс ко всему быть добрым и честным.
– А фамилией своей гордись, – в заключение посоветовал дедушка Арсентий, – ни у кого во всём мире такой замечательной фамилии не имеется. И вообще, не фамилия человека украшает, а человек своей фамилии может славу принести.
И теперь уже невозможно представить, что кто-то когда-то посмеивался или даже смеялся над ныне знаменитой и уважаемой фамилией большого ученого.
Произошло это не сразу, но довольно быстро. Примерно классе в третьем у него уже было прозвище, и не обидное, а почетное: Ванька – Жюль Верн.
Мало того, что Ванечка прочел все сочинения замечательного писателя-фантаста, он и сам научился фантазировать, безудержно мечтать, бесконечно что-нибудь выдумывать, изобретать. Комнатка его напоминала одновременно слесарную и столярную мастерские, научную лабораторию, библиотеку и живой уголок. Да ещё по всей квартире висели клетки с птицами, стояли аквариумы, отовсюду смотрели неподвижными взглядами чучела зверюшек.
Родители, можно сказать, стойко терпели увлечения сына, бранились лишь тогда, когда в его комнатке раздавались взрывы или оттуда валил чёрный, синий, белый или разноцветный дым.
Зато уж дедушка Арсентий горой стоял за внука, тратил на его разнообразные эксперименты почти всю свою пенсию, восторженно всем объяснял:
– Ученый на ваших и наших глазах растёт! Никакой он вам не Жюль Верн, а Иван Варфоломеевич Мотылёчек! Знаменитой будет наша фамилия! Ванечка такое когда-нибудь открытие научное сделает или такое чего-нибудь изобретет, что весь мир ахнет и рты разинет! Дерзай, внук, стремись к вершинам знаний, постигай все науки!
Ванечка дерзал, стремился к вершинам знаний, постигал, конечно, не все науки, но многие, однако постепенно круг его увлечений сужался и сужался. Ванечка всё меньше занимался техникой, его всё больше и больше интересовало всё живое – от одуванчика, например, и воробья до кенгуру и дельфина… Какого только живья не было теперь в квартире! Верной помощницей брата стала сестренка. Она, деточка-семилеточка, как называл её дедушка Арсентий, ещё недавно боявшаяся обыкновенных дождевых червей, теперь спокойно играла с ужами, ежами, мышами. И лечила она не кукол и игрушечных зверюшек, а живых собак, кошек и подраненных птиц, которых к ней приносили со всего района.
– Дети, я не против ваших ветеринарных наклонностей, – жалобно говаривал папа, – но… – И он умоляюще смотрел на дедушку Арсентия.
А тот восторженно объяснял:
– Ванечка готовится к научному открытию! Ниночка ему прекрасно помогает!
– Да, да, всё это очень прекрасно, – уныло соглашалась мама, – но почему я боюсь ужей, ежей, мышей, а они меня нет? Весь дом называет нашу квартиру зверинцем.
– Зато со временем, – гордо вознеся указательный палец правой руки, отвечал дедушка Арсентий, – дом наш будет знаменит тем, что в нём жили и с детства занимались научной работой Иван Варфоломеевич Мотылёчек и его верная помощница и сестра Нина Варфоломеевна!
Но, как бы искренне и абсолютно глубоко ни верил дедушка Арсентий в научное будущее внука, он даже и приблизительно предполагать не мог, каким оно будет, вернее, какая сокровенная мечта овладеет Ванечкой ещё тогда, когда он и школу не окончит.
Началось всё с того, что однажды Ванечка разбудил ночью сестренку и спросил:
– Почему муха маленькая, а слон большой? Почему люди разного роста? Почему всё растёт?
– Мороженки не растут, – сквозь сон, не открывая глаз, ответила Ниночка, – конфеты не растут, у-у-у-уменьшаются… – она зевнула и продолжала крепко спать.
Дедушка Арсентий, тоже разбуженный внуком, на эти вопросы ответил так:
– Ночью спи, днём неустанно думай. Ты приближаешься к важной научной цели. Успехов тебе! – И он тихонечко, но с большим удовлетворением захрапел.
Мама приняла Ванечку за мышь и завизжала, и он еле-еле успокоил её, но расспрашивать не стал.
Папа выслушал его внимательно, даже присев на кровати, а отозвался следующим образом:
– Ищи ответы в выдающихся трудах замечательных деятелей науки. Продолжай образование. Прекращай возню с мышами и ужами, займись более сложными животными, а затем и человеком. Иди спать. – И сам заснул сидя, прислонившись к стене.
Утром обнаружилось, что никто не помнит о ночных разговорах с Ванечкой, но он-то всё запомнил: раздарил обитателей своего домашнего зверинца товарищам, школьным живым уголкам, записался в научную библиотеку и стал приносить оттуда книги стопку за стопкой. В квартире наступил покой, порядок и… стало скучновато. По настоянию родителей пришлось завести собаку, кошку и певчих птичек. Ими в основном занималась Ниночка, а Ванечка сидел над научными трудами, часто посещал лекции, регулярно занимался в кружках, где изучался растительный и животный мир.
И тут вдруг неожиданно и очень серьёзно заболела Ниночка, её сразу увезли в больницу. И хотя Ванечке не сказали, что болезнь сестренки смертельна, сердце его исстрадалось, он сам был словно больной – почти не спал, почти не ел, даже учиться стал неважно, всё время размышлял над тем, чем хотя бы отвлечь любимую сестренку от мук. Дважды в день он навещал её и всё спрашивал, чего бы она хотела.
Ниночка держалась мужественно, никто в больнице, даже ночные дежурные, не видел и не слышал, чтобы она плакала. И на вопросы брата она в ответ только слабо и виновато улыбалась и пожимала плечиками: дескать, чего мне ещё может быть надо, кроме здоровья. Но однажды она сказала, взяв брата за руку:
– Знаешь, Ванечка… Мне бы лошадку маленькую-маленькую.
– Так купим! – чуть ли не закричал Ванечка. – Я мигом!
– Нет, нет, не то, Ванечка… Мне бы маленькую, будто бы игрушечную, но живую, понимаешь, живую игрушку… чтобы я на ней детишечек катала… верхом… понимаешь, сколько радости-то было бы…
– Не бывает таких лошадок, Ниночка!
– Я знаю. А вот во сне часто вижу, что все игрушки живые. – В глазах Ниночки появился счастливый блеск. – Тигрёночек ростом с котёночка… Слоники хоботками помахивают… А в аквариуме китики плавают и фонтанчики пускают… Жирафик смотрит, как кенгурятки прыгают… Не заводные, Ванечка, а живые, настоящие, только очень маленькие… Ах, как интересно было бы детям играть… и болеть никто бы не вздумал, правда ведь?
Ниночка умерла, а Ивану долго ещё снились её сны о зверюшках-игрушках, а её мечта стала его мечтой, сокровенной и неотступной.
Когда он был студентом, товарищи и преподаватели относились к его сокровенной мечте с интересом, но как к заманчивой сказке, не имеющей ни практического, ни научного значения.
Когда же Иван Варфоломеевич рассказывал о Ниночкиной мечте уже коллегам-ученым, они при всем своем глубоком уважении к нему говорили почти одними и теми же словами:
– Конечно, конечно, детишкам… прелестно… фантастично… но… этакая мелкая фантастика.
Зато дети, заслышав о зверюшках-игрушках, не считали их мелкой фантастикой, а тут же превращались в зверюшек-игрушек и начинали, как это умеют делать только дети, самозабвеннейшую игру. И, глядя на них, Иван Варфоломеевич забывал, что в его сокровенную мечту, которую, подарила ему перед смертью Ниночка, никто не верил.
Нет, неправда! Один человек верил и безоговорочно! Может быть, вы сами догадались, уважаемые читатели, что этим человеком был, конечно же, дедушка Арсентий. Стал он уже очень стареньким, слабеньким, но как же они любили шутить с внуком, что дырок у него в голове не прибавилось! Дедушка Арсентий считал, что прожил свою жизнь достойно, и жалел лишь об одном: не увидит он результатов главного научного достижения внука – зверюшек-игрушек, выведенных при помощи эликсира грандиозус наоборотус (по-научному grandiozus naoborotus).
И даже когда дедушка Арсентий умер, вера его в успех сокровенной мечты внука всегда поддерживала Ивана Варфоломеевича, придавала немало новых сил. А воспоминания о сестренке заставляли его трудиться ещё напряженнее.
На письменном столе ученого стояло два портрета – дедушки Арсентия и Ниночки.
Началась война. Семья Ивана Варфоломеевича – родители, жена и маленький сын Серёжа – погибли под первой же бомбежкой, от дома остались одни развалины. Иван Варфоломеевич требовал, чтобы его отправили на фронт, но получил назначение в глубокий тыл – продолжать научную работу.
И хотя во время войны было, не до зверюшек-игрушек, Иван Варфоломеевич не забывал о своей сокровенной мечте и урывками, в память о сестренке Ниночке и сыне Серёженьке, что-то делал для создания эликсира грандиозус наоборотус.
К началу нашего повествования, уважаемые читатели, неустанный многолетний труд ученого близился к завершению.
Иван Варфоломеевич жил один, был для своих лет довольно бодр и относительно здоров. Но нельзя, к сожалению, утверждать, что на душе у него было покойно и всем он был удовлетворен. До сих пор он почему-то не мог поверить в гибель сына Серёженьки, не мог забыть его, изредка даже перебирал в уме всевозможнейшие варианты, один фантастичнее другого, суть которых сводилась к тому, что Серёженька остался в живых. Это была не уверенность, не вера, а наислабейшая, но непреходящая малюсенькая надежда. Откуда она взялась? Что поддерживало её в душе? Почему она не покидала его?.. Иван Варфоломеевич не мог сказать об этом ничего определённого, но она – малюсенькая надежда на немыслимое – потихоньку тлела в душе и помогала жить и работать.
А тут вдруг последовали событие за событием, которые так или иначе воздействовали на ускорение труда Ивана Варфоломеевича над созданием эликсира грандиозус наоборотус.
Однажды его навестил старый друг – генерал-лейтенант в отставке Илларион Венедиктович Самойлов – и начал возбуждённо рассказывать:
– Отправился я как-то погулять. Настроение у меня было замечательное. Я даже забыл – что со мной редко случается, – что нахожусь не на службе в армии, а в отставке. Тебе, Иванушка, этого не понять, ты человек сугубо штатский. Иду я по нашему двору и думаю, что ведь я воевал за то, чтобы жизнь была прекрасной. А прекрасной она может быть лишь только в том случае, когда все мальчишки и девчонки будут расти настоящими людьми – честными, добрыми, трудолюбивыми, умными, весёлыми, смелыми. За это я воевал, Иванушка! Ты согласен?
– Я согласен, Иллариоша, но ты сначала присядь за стол, – пригласил Иван Варфоломеевич, – вот тебе чаёк, печенье. И спокойно, понимаешь, спокойно рассказывай, что это тебя так растревожило?
– История довольно длинная, но тебе придётся её выслушать! Представляешь, иду я в тот оказавшийся впоследствии ужасным день, а на душе у меня, как говорится, птички поют, оч-чень радостно распевают. Я ведь переменил квартиру, никто меня в доме не знает. Для всех я – просто обыкновенный старичок-пенсионерик. Значит, надо мне для начала с кем-нибудь познакомиться. Оглядываюсь я по сторонам и вдруг вижу… Нет, ты даже вообразить не можешь, какую мерзость я увидел! Я…
– Приказываю тебе, старый вояка, успокоиться! – строго остановил его Иван Варфоломеевич. – В твоем возрасте…
– В моем возрасте некогда успокаиваться! – грозно перебил его Илларион Венедиктович. – И, пожалуйста, не прерывай меня!.. Представь себе такую отвратительную картину. Привезли во двор огромную кучу песка, чтобы было где играть малышам. Ведь их страсть к песку общеизвестна. И вот четверо оболтусов-лоботрясов, или, точнее, четверо малолетних негодяев младшего школьного возраста, вырыли в песке яму. И знаешь, чем они развлекались?
– Если ты не перестанешь трястись… – сердито произнес Иван Варфоломеевич, – я не стану тебя слушать!
– Если ты не прекратишь перебивание, я уйду и найду более внимательного друга!
– Попей хотя бы чаю, – попросил Иван Варфоломеевич, – и больше перебиваний не будет.
Илларион Венедиктович большими глотками выпил уже тёплый чай и продолжал чуть-чуть-чуть спокойнее:
– Негодяи младшего школьного возраста развлекались так. Берёт один из них чёрного котёночка, бросает его в яму, и все вчетвером закидывают этого хвостатого младенчика песком! Котёночек выкарабкивается из-под песка, пищит, а четверо истязателей начинают всё сначала и при этом вопиющем негодяйстве оч-чень громко хо-хо-чут! Ну, как прикажешь квалифицировать их действия?
– Дураки они, по-моему, и действительно несовершеннолетние негодяи.
– А что я должен был делать? Пристыдить? Подзатыльник дать? Толку-то от – этого всё равно никакого, раз их такими воспитали!.. А они вчетвером продолжают измываться над бедным котёночком.