Страница:
Прошло два месяца, и я хорошо понял удивление Карела. Даже гуляша я не хотел! Могли ли быть для него еще более убедительные признаки моей близкой смерти?
Той же ночью, в два часа, Карела разбудили. За пять минут ему было велено приготовиться к отправке с транспортом, словно предстояло отлучиться куда-то рядом, словно перед ним не лежал путь чуть ли не на край света – в другую тюрьму, в концлагерь, к месту казни… кто знает куда!
Карел еще успел опуститься около меня на колени, обнять и поцеловать в голову.
Из коридора раздался резкий окрик погонщика в мундире, – в тюрьме нет места чувствам.
Карел исчез за дверью, щелкнул замок…
Мы остались вдвоем.
Увидимся ли мы когда-нибудь, друг? И когда разлучимся мы, оставшиеся? Кто из нас двоих покинет эту камеру первым? Куда он пойдет? Кто позовет его? Надзиратель в эсэсовском мундире? Или сама смерть, которая не носит мундира?…
Сейчас, когда я пишу, во мне остались лишь отголоски чувств, волновавших нас при этом первом расставании. С тех пор прошел уже год, и мысли, с которыми мы провожали товарища, возвращались не раз, порою очень навязчиво. Двойка на дверях камеры заменялась тройкой, тройка снова уступала место двойке, потом опять появлялось «3», «2», «3», «2», приводили новых узников и вновь уводили, и только те двое, что впервые остались вдвоем в камере № 267, все еще не расстаются друг с другом: «папаша» и я.
«Папаша» – это шестидесятилетний учитель Иозеф Пешек. Глава школьного учительского совета. Его арестовали на восемьдесят пять дней раньше меня за «заговор против Германской империи», – он разрабатывал проект свободной чешской школы.
«Папаша» – это…
Но как написать о нем? Трудное это дело! Два человека, одна камера и год жизни. За этот год отпали кавычки у слова «папаша», за этот год два арестанта разного возраста стали действительно отцом и сыном, за этот год мы усвоили привычки друг друга, излюбленные словечки и даже интонации. Различи-ка сейчас, что мое и что его, «папашино», с чем он пришел в камеру и с чем я.
Ночами он бодрствовал надо мной и белыми холодными компрессами отгонял приближавшуюся смерть. Он самоотверженно удалял гной из моих ран и ни разу не подал виду, что слышит гнилостный запах, исходивший от тюфяка. Он стирал и чинил жалкие лохмотья, оставшиеся от моей рубашки, которая стала жертвой первого допроса, а когда она окончательно развалилась, натянул на меня свою. Рискуя получить взыскание, он принес мне маргаритку и стебелек травы, сорвав их на тюремном дворе во время получасовой утренней прогулки. Когда меня уводили на новые допросы, он провожал меня ласковым взглядом, а когда я возвращался, прикладывал новые компрессы к моим новым ранам.
Он ждал моего возвращения с ночных допросов и не ложился спать, пока не укладывал меня, заботливо укрыв одеялом.
С этого началась наша дружба. Она не изменилась и потом, когда я смог держаться на ногах и платить сыновний долг.
Но так, единым духом, всего не опишешь. В камере № 267 в том году было оживленно, и все, что случалось, по-своему переживал и папаша.
Обо всем этом надо рассказать, и повествование мое еще не окончено (что даже звучит некоторой надеждой).
В камере № 267 было оживленно.
Чуть ли не каждый час отворялась дверь и приходили надзиратели. Это был полагающийся по правилам усиленный надзор за крупным «коммунистическим преступником», но, кроме того, я просто возбуждал любопытство. В тюрьме часто умирали люди, которые не должны были умереть. Но редко случалось, чтобы не умер тот, в чьей неизбежной смерти были уверены все…
В нашу камеру приходили даже надзиратели с других этажей и заводили разговор или молча приподнимали одеяло и с видом знатоков осматривали мои раны, а потом, в зависимости от характера, либо отпускали циничные шутки, либо принимали почти дружеский тон.
Один из них – мы прозвали его Мельником – приходит чаще других и, широко улыбаясь, осведомляется, не нужно ли чего-нибудь «красному дьяволу». Нет, спасибо, мне ничего не нужно. Через несколько дней Мельник решает, что все-таки «красному дьяволу» кое-что нужно, а именно – побриться. И он приводит парикмахера. Это первый заключенный не из нашей камеры, с которым я здесь знакомлюсь: товарищ Бочек. Но добросердечный Мельник оказал мне медвежью услугу; папаша поддерживает мне голову, а товарищ Бочек, стоя на коленях около моего тюфяка, пытается тупой безопасной бритвой прорубить просеку в моих мощных зарослях. Руки у него дрожат и на глазах выступают слезы: он уверен, что бреет умирающего. Я стараюсь успокоить его:
– Не робей, приятель! Уж коли я выдержал допрос во дворце Печека, авось выдержу и твое бритье.
Но сил у меня все-таки мало, и нам обоим часто приходится делать передышку.
Через три дня я знакомлюсь еще с двумя заключенными. Гестаповскому начальству дворца Печека не терпится; они посылают за мной, а так как фельдшер всякий раз пишет на вызове «Transportunfahig» (не способен к передвижению), они распоряжаются доставить меня любым способом. И вот два арестанта в одежде коридорных (или «хаусарбайтеров») ставят носилки у нашей двери. Папаша с трудом одевает меня, они кладут меня на носилки и несут. Один из них – это товарищ Скоржепа, будущий заботливый «хаусарбайтер» (служитель из числа заключенных), другой…[6] Когда мы спускаемся по лестнице и я сползаю на накренившихся носилках, один из несущих наклоняется ко мне и многозначительно говорит:
– Держись крепче!
Потом добавляет совсем тихо:
– Держись и не сдавайся!
На этот раз мы не задерживаемся в канцелярии. По длинному коридору меня несут дальше к выходу. В коридоре полно людей – сегодня четверг, день, когда родным разрешается приходить за бельем арестованных. Все оборачиваются на безрадостное шествие с носилками, во всех взглядах жалость и сострадание. Это мне не нравится. Я кладу руку над головой и сжимаю ее в кулак. Может быть, люди в коридоре увидят и поймут, что я их приветствую. Это, разумеется, наивная попытка. Но на большее я еще не способен, не хватает сил.
На тюремном дворе носилки поставили на грузовик, двое эсэсовцев сели с шофером, двое других, держа руку на расстегнутой кобуре, стали у моего изголовья, и мы поехали.
Дорога далеко не образцовая: одна выбоина, другая… Не проехали мы и двухсот метров, как я потерял сознание.
Забавная это была поездка по пражским улицам: пятитонка, предназначенная для тридцати арестованных, расходует бензин на единственного узника, и двое эсэсовцев впереди, двое сзади, с револьверами в руках, хищно поглядывая на полумертвое тело, стерегут его, чтобы оно не сбежало.
На другой день комедия повторилась. На этот раз я выдержал до самого дворца Печека. Допрос был недолгим. Комиссар Фридрих несколько неосторожно прикоснулся ко мне, и меня опять увозят в беспамятстве.
Настали дни, когда уже не было сомнения в том, что я жив: боль – родная сестра жизни – весьма ощутительно напоминала мне об этом.
Панкрац уже знал, что по какому-то недосмотру я остался жив, и посылал мне привет. Он приходил перестукиванием через толстые стены, я видел его в глазах коридорных, разносивших еду.
Только моя жена не знала обо мне ничего. В одиночке, всего одним этажом ниже и на три-четыре камеры дальше, она жила в тревоге и надежде до того дня, когда соседка шепнула ей на утренней прогулке, что, избитый на допросе, я умер в камере. Густа шла по двору, все кружилось у нее перед глазами, она не чувствовала, как «утешала» ее надзирательница, тыча кулаком в лицо и загоняя в шеренгу, чтобы поддержать тюремную дисциплину. Что видела она, глядя без слез на белые стены камеры своими большими добрыми глазами?
А на другой день новая весть – я не забит до смерти, но не вынес пыток и повесился в камере.
В это время я валялся на тощем тюфяке и каждый вечер и каждое утро упорно поворачивался на бок, чтобы пропеть Густе песни, которые она так любила. Как она могла их не слышать, ведь я вкладывал в них столько чувства!
Теперь она уже знает обо мне, теперь она уже слышит мои песни, хотя мы сейчас дальше друг от друга, чем тогда. Теперь уже и тюремные надзиратели знают и свыклись с тем, что в камере № 267 поют.
Надзиратели уже не стучат в дверь, требуя тишины.
Камера № 267 поет. Всю свою жизнь я пел песни и не знаю, с какой стати расставаться мне с песней сейчас, перед самым концом, когда жизнь ощущается особенно остро.
А папаша Пешек? Ну, это особый случай: он тоже очень любит петь. У него ни слуха, ни голоса, никакой музыкальной памяти, но он любит песню такой хорошей и верной любовью и находит в ней столько радости, что я даже не замечаю, как он перескакивает с одной тональности на другую и упорно берет «соль» там, где прямо просится «ля».
И мы поем. Поем, когда нам взгрустнется, поем, когда выдается веселый день, песней провожаем товарища, с которым, наверное, никогда не увидимся, песней приветствуем добрые вести о боях на востоке, поем для утешения и поем от радости, как люди поют испокон веков и будут петь, пока останутся людьми.
Без песни нет жизни, как нет ее без солнца. А нам песня нужна вдвойне, ибо солнце к нам не показывается – камера № 267 выходит на север. Только летом на восточную стену камеры ненадолго ложится солнечный луч вместе с тенью решетки.
Папаша стоит, опершись на койку, и смотрит на мимолетные солнечные блики… и это самый грустный взгляд, какой здесь только можно увидеть.
Солнце! Так щедро светит этот круглый волшебник, столько чудес творит на глазах у людей! Но так мало людей живет в солнечном свете…
Солнце будет, да, будет светить, и люди будут жить в его лучах.
Как чудесно сознавать это! И все же хочется знать еще кое-что, неизмеримо менее важное: будет ли оно светить и для нас?
Наша камера выходит на север. Лишь изредка, летом, в ясный день, видим мы заходящее солнце. Эх, папаша, хотелось бы все-таки когда-нибудь увидеть восход солнца!
Той же ночью, в два часа, Карела разбудили. За пять минут ему было велено приготовиться к отправке с транспортом, словно предстояло отлучиться куда-то рядом, словно перед ним не лежал путь чуть ли не на край света – в другую тюрьму, в концлагерь, к месту казни… кто знает куда!
Карел еще успел опуститься около меня на колени, обнять и поцеловать в голову.
Из коридора раздался резкий окрик погонщика в мундире, – в тюрьме нет места чувствам.
Карел исчез за дверью, щелкнул замок…
Мы остались вдвоем.
Увидимся ли мы когда-нибудь, друг? И когда разлучимся мы, оставшиеся? Кто из нас двоих покинет эту камеру первым? Куда он пойдет? Кто позовет его? Надзиратель в эсэсовском мундире? Или сама смерть, которая не носит мундира?…
Сейчас, когда я пишу, во мне остались лишь отголоски чувств, волновавших нас при этом первом расставании. С тех пор прошел уже год, и мысли, с которыми мы провожали товарища, возвращались не раз, порою очень навязчиво. Двойка на дверях камеры заменялась тройкой, тройка снова уступала место двойке, потом опять появлялось «3», «2», «3», «2», приводили новых узников и вновь уводили, и только те двое, что впервые остались вдвоем в камере № 267, все еще не расстаются друг с другом: «папаша» и я.
«Папаша» – это шестидесятилетний учитель Иозеф Пешек. Глава школьного учительского совета. Его арестовали на восемьдесят пять дней раньше меня за «заговор против Германской империи», – он разрабатывал проект свободной чешской школы.
«Папаша» – это…
Но как написать о нем? Трудное это дело! Два человека, одна камера и год жизни. За этот год отпали кавычки у слова «папаша», за этот год два арестанта разного возраста стали действительно отцом и сыном, за этот год мы усвоили привычки друг друга, излюбленные словечки и даже интонации. Различи-ка сейчас, что мое и что его, «папашино», с чем он пришел в камеру и с чем я.
Ночами он бодрствовал надо мной и белыми холодными компрессами отгонял приближавшуюся смерть. Он самоотверженно удалял гной из моих ран и ни разу не подал виду, что слышит гнилостный запах, исходивший от тюфяка. Он стирал и чинил жалкие лохмотья, оставшиеся от моей рубашки, которая стала жертвой первого допроса, а когда она окончательно развалилась, натянул на меня свою. Рискуя получить взыскание, он принес мне маргаритку и стебелек травы, сорвав их на тюремном дворе во время получасовой утренней прогулки. Когда меня уводили на новые допросы, он провожал меня ласковым взглядом, а когда я возвращался, прикладывал новые компрессы к моим новым ранам.
Он ждал моего возвращения с ночных допросов и не ложился спать, пока не укладывал меня, заботливо укрыв одеялом.
С этого началась наша дружба. Она не изменилась и потом, когда я смог держаться на ногах и платить сыновний долг.
Но так, единым духом, всего не опишешь. В камере № 267 в том году было оживленно, и все, что случалось, по-своему переживал и папаша.
Обо всем этом надо рассказать, и повествование мое еще не окончено (что даже звучит некоторой надеждой).
В камере № 267 было оживленно.
Чуть ли не каждый час отворялась дверь и приходили надзиратели. Это был полагающийся по правилам усиленный надзор за крупным «коммунистическим преступником», но, кроме того, я просто возбуждал любопытство. В тюрьме часто умирали люди, которые не должны были умереть. Но редко случалось, чтобы не умер тот, в чьей неизбежной смерти были уверены все…
В нашу камеру приходили даже надзиратели с других этажей и заводили разговор или молча приподнимали одеяло и с видом знатоков осматривали мои раны, а потом, в зависимости от характера, либо отпускали циничные шутки, либо принимали почти дружеский тон.
Один из них – мы прозвали его Мельником – приходит чаще других и, широко улыбаясь, осведомляется, не нужно ли чего-нибудь «красному дьяволу». Нет, спасибо, мне ничего не нужно. Через несколько дней Мельник решает, что все-таки «красному дьяволу» кое-что нужно, а именно – побриться. И он приводит парикмахера. Это первый заключенный не из нашей камеры, с которым я здесь знакомлюсь: товарищ Бочек. Но добросердечный Мельник оказал мне медвежью услугу; папаша поддерживает мне голову, а товарищ Бочек, стоя на коленях около моего тюфяка, пытается тупой безопасной бритвой прорубить просеку в моих мощных зарослях. Руки у него дрожат и на глазах выступают слезы: он уверен, что бреет умирающего. Я стараюсь успокоить его:
– Не робей, приятель! Уж коли я выдержал допрос во дворце Печека, авось выдержу и твое бритье.
Но сил у меня все-таки мало, и нам обоим часто приходится делать передышку.
Через три дня я знакомлюсь еще с двумя заключенными. Гестаповскому начальству дворца Печека не терпится; они посылают за мной, а так как фельдшер всякий раз пишет на вызове «Transportunfahig» (не способен к передвижению), они распоряжаются доставить меня любым способом. И вот два арестанта в одежде коридорных (или «хаусарбайтеров») ставят носилки у нашей двери. Папаша с трудом одевает меня, они кладут меня на носилки и несут. Один из них – это товарищ Скоржепа, будущий заботливый «хаусарбайтер» (служитель из числа заключенных), другой…[6] Когда мы спускаемся по лестнице и я сползаю на накренившихся носилках, один из несущих наклоняется ко мне и многозначительно говорит:
– Держись крепче!
Потом добавляет совсем тихо:
– Держись и не сдавайся!
На этот раз мы не задерживаемся в канцелярии. По длинному коридору меня несут дальше к выходу. В коридоре полно людей – сегодня четверг, день, когда родным разрешается приходить за бельем арестованных. Все оборачиваются на безрадостное шествие с носилками, во всех взглядах жалость и сострадание. Это мне не нравится. Я кладу руку над головой и сжимаю ее в кулак. Может быть, люди в коридоре увидят и поймут, что я их приветствую. Это, разумеется, наивная попытка. Но на большее я еще не способен, не хватает сил.
На тюремном дворе носилки поставили на грузовик, двое эсэсовцев сели с шофером, двое других, держа руку на расстегнутой кобуре, стали у моего изголовья, и мы поехали.
Дорога далеко не образцовая: одна выбоина, другая… Не проехали мы и двухсот метров, как я потерял сознание.
Забавная это была поездка по пражским улицам: пятитонка, предназначенная для тридцати арестованных, расходует бензин на единственного узника, и двое эсэсовцев впереди, двое сзади, с револьверами в руках, хищно поглядывая на полумертвое тело, стерегут его, чтобы оно не сбежало.
На другой день комедия повторилась. На этот раз я выдержал до самого дворца Печека. Допрос был недолгим. Комиссар Фридрих несколько неосторожно прикоснулся ко мне, и меня опять увозят в беспамятстве.
Настали дни, когда уже не было сомнения в том, что я жив: боль – родная сестра жизни – весьма ощутительно напоминала мне об этом.
Панкрац уже знал, что по какому-то недосмотру я остался жив, и посылал мне привет. Он приходил перестукиванием через толстые стены, я видел его в глазах коридорных, разносивших еду.
Только моя жена не знала обо мне ничего. В одиночке, всего одним этажом ниже и на три-четыре камеры дальше, она жила в тревоге и надежде до того дня, когда соседка шепнула ей на утренней прогулке, что, избитый на допросе, я умер в камере. Густа шла по двору, все кружилось у нее перед глазами, она не чувствовала, как «утешала» ее надзирательница, тыча кулаком в лицо и загоняя в шеренгу, чтобы поддержать тюремную дисциплину. Что видела она, глядя без слез на белые стены камеры своими большими добрыми глазами?
А на другой день новая весть – я не забит до смерти, но не вынес пыток и повесился в камере.
В это время я валялся на тощем тюфяке и каждый вечер и каждое утро упорно поворачивался на бок, чтобы пропеть Густе песни, которые она так любила. Как она могла их не слышать, ведь я вкладывал в них столько чувства!
Теперь она уже знает обо мне, теперь она уже слышит мои песни, хотя мы сейчас дальше друг от друга, чем тогда. Теперь уже и тюремные надзиратели знают и свыклись с тем, что в камере № 267 поют.
Надзиратели уже не стучат в дверь, требуя тишины.
Камера № 267 поет. Всю свою жизнь я пел песни и не знаю, с какой стати расставаться мне с песней сейчас, перед самым концом, когда жизнь ощущается особенно остро.
А папаша Пешек? Ну, это особый случай: он тоже очень любит петь. У него ни слуха, ни голоса, никакой музыкальной памяти, но он любит песню такой хорошей и верной любовью и находит в ней столько радости, что я даже не замечаю, как он перескакивает с одной тональности на другую и упорно берет «соль» там, где прямо просится «ля».
И мы поем. Поем, когда нам взгрустнется, поем, когда выдается веселый день, песней провожаем товарища, с которым, наверное, никогда не увидимся, песней приветствуем добрые вести о боях на востоке, поем для утешения и поем от радости, как люди поют испокон веков и будут петь, пока останутся людьми.
Без песни нет жизни, как нет ее без солнца. А нам песня нужна вдвойне, ибо солнце к нам не показывается – камера № 267 выходит на север. Только летом на восточную стену камеры ненадолго ложится солнечный луч вместе с тенью решетки.
Папаша стоит, опершись на койку, и смотрит на мимолетные солнечные блики… и это самый грустный взгляд, какой здесь только можно увидеть.
Солнце! Так щедро светит этот круглый волшебник, столько чудес творит на глазах у людей! Но так мало людей живет в солнечном свете…
Солнце будет, да, будет светить, и люди будут жить в его лучах.
Как чудесно сознавать это! И все же хочется знать еще кое-что, неизмеримо менее важное: будет ли оно светить и для нас?
Наша камера выходит на север. Лишь изредка, летом, в ясный день, видим мы заходящее солнце. Эх, папаша, хотелось бы все-таки когда-нибудь увидеть восход солнца!
Глава IV. «ЧЕТЫРЕХСОТКА»
Воскресение из мертвых – явление довольно своеобразное. Настолько своеобразное, что и объяснить трудно. Мир привлекателен, когда в погожий день ты только что встал после доброго сна. Но, если ты встал со смертного одра, день кажется прекрасным как никогда, и ты чувствуешь, что выспался лучше, чем когда бы то ни было. Ты думаешь, что хорошо знаешь сцену жизни. Но после воскресения из мертвых тебе кажется, что осветитель включил все юпитеры и внезапно перед тобой появилась сцена, вся залитая светом. Ты думал, что у тебя хорошее зрение. Но сейчас ты видишь мир так, словно тебе приставили к глазу телескоп, а к нему еще и микроскоп. Воскресение из мертвых подобно весне: оно открывает нежданные прелести и в самом обыденном.
Так бывает, даже когда ты знаешь, что все это ненадолго. Даже когда открывающийся тебе мир так «привлекателен» и «богат», как камера в Панкраце.
Настает день, когда тебя выводят из камеры. Настает день, когда на допрос ты отправляешься не на носилках, а, хотя тебе это кажется невозможным, идешь сам. Держась за стены коридора, за перила лестницы, ты почти ползешь на четвереньках. Внизу товарищи по заключению усаживают тебя в закрытый арестантский автомобиль. Ты оказался в темной передвижной камере, рядом новые лица, десять, двенадцать человек. Они улыбаются тебе, ты им, кто-то что-то шепчет тебе, ты жмешь кому-то руку, не зная кому…
Машина с грохотом въезжает в ворота дворца Печека, товарищи выносят тебя, мы входим в просторное помещение с голыми стенами: шесть рядов скамеек. На скамейках, сложив руки на коленях, недвижно сидят люди и глядят на пустую стену перед собой. Вот, Юлиус, частица твоего нового мира, которая прозвана «кинотеатром».
Так бывает, даже когда ты знаешь, что все это ненадолго. Даже когда открывающийся тебе мир так «привлекателен» и «богат», как камера в Панкраце.
Настает день, когда тебя выводят из камеры. Настает день, когда на допрос ты отправляешься не на носилках, а, хотя тебе это кажется невозможным, идешь сам. Держась за стены коридора, за перила лестницы, ты почти ползешь на четвереньках. Внизу товарищи по заключению усаживают тебя в закрытый арестантский автомобиль. Ты оказался в темной передвижной камере, рядом новые лица, десять, двенадцать человек. Они улыбаются тебе, ты им, кто-то что-то шепчет тебе, ты жмешь кому-то руку, не зная кому…
Машина с грохотом въезжает в ворота дворца Печека, товарищи выносят тебя, мы входим в просторное помещение с голыми стенами: шесть рядов скамеек. На скамейках, сложив руки на коленях, недвижно сидят люди и глядят на пустую стену перед собой. Вот, Юлиус, частица твоего нового мира, которая прозвана «кинотеатром».
МАЙСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО 1943 ГОДА
Сегодня Первое мая 1943 года. И дежурит тот, при ком можно писать. Счастье! Какое счастье быть в этот день снова хотя бы на минуту коммунистическим журналистом и писать о майском смотре боевых сил нового мира!
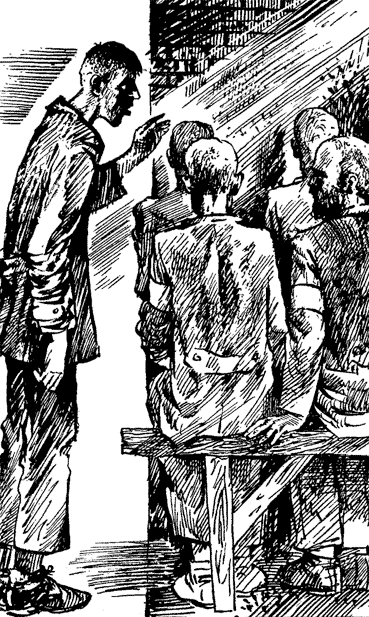
Не жди рассказа о развевающихся знаменах. Ничего подобного не было. Не могу рассказать и о захватывающих событиях, о которых ты бы с удовольствием послушал. Сегодня все было много проще. Не было шумного многотысячного потока людей, который в прежние годы бурлил на улицах Праги, не было того, что я видел в Москве, – необозримого моря голов на Красной площади. Здесь нет ни миллионов, ни сотен. Здесь всего лишь несколько коммунистов – мужчин и женщин. Но значение нашего смотра от этого не меньше. Да, не меньше, ибо это смотр сил, которые сейчас проходят под ураганным огнем и превращаются не в пепел, а в сталь. Это смотр в окопах во время битвы. А в окопах нет парадности, там носят полевую форму.
Все это ты чувствуешь по таким мелочам… Не знаю, поймешь ли ты меня, товарищ, когда прочтешь мои слова, если ты не пережил всего сам. Постарайся понять. Поверь, в этом была сила.
Утренний привет соседней камеры: сегодня оттуда выстукивают два такта из Бетховена торжественнее, настойчивее, чем обычно, и стена передает их тоже в ином, необычном тоне.
Мы стараемся одеться получше. И так во всех камерах.
К завтраку мы уже в полном параде. Перед открытой дверью камеры дефилируют коридорные с хлебом, черным кофе и водой. Товарищ Скоржепа подает три хлебца вместо двух. Это его поздравление с Первым мая, конкретное поздравление заботливого человека. Передавая хлеб, он незаметно жмет мне руку. Разговаривать нельзя, следят даже за выражением твоих глаз, но разве нам не понятен немой разговор наших пальцев?
Во двор, под окна нашей камеры, выбегают на утреннюю получасовую прогулку женщины. Я влезаю на стол и через решетку смотрю вниз. Может быть, они заметят меня. Да, заметили! Поднимают сжатые в кулак руки и приветствуют меня. Я отвечаю тем же. Во дворе сегодня радостно и оживленно, совсем иначе, чем в другие дни. Надзирательница ничего не замечает или, может быть, старается не замечать. Это тоже имеет отношение к майскому смотру.
Сейчас наша очередь гулять. Я показываю упражнение: сегодня Первое мая, ребята, сегодня мы начнем по-другому, пусть дивятся конвойные. Первое движение: раз-два, раз-два – удары молотом. Второе: косьба. Молот и коса. Чуточку воображения – и товарищи поймут: серп и молот. Я поглядываю кругом. На лицах улыбки, все с энтузиазмом следуют моему примеру. Поняли! Правильно, ребята, это наша маевка, а пантомима – наша первомайская клятва: пойдем на смерть, но не изменим.
Мы снова в камере. Девять часов. Сейчас часы на кремлевской башне бьют десять и на Красной площади начинается парад. Папаша, мы идем вместе с ними. Там сейчас поют «Интернационал», он раздается во всем мире, пусть зазвучит он и в нашей камере. Мы поем. Одна революционная песня следует за другой, мы не хотим быть одинокими, да мы и не одиноки, мы вместе с теми, кто сейчас свободно поет на воле, с теми, кто ведет бой, как и мы…
Так мы, в камере № 267, решили завершить песнями наш первомайский смотр 1943 года. Но это еще не конец!
Посмотри, вон коридорная из женского корпуса расхаживает по двору и насвистывает марш Красной Армии, «Партизанскую» и другие советские песни, чтобы подбодрить товарищей в камерах. А мужчина в форме чешского полицейского, который принес мне бумагу и карандаш и сейчас сторожит в коридоре, чтобы меня не захватил врасплох незваный гость? А тот, другой, инициатор этих записок, который уносит и заботливо прячет эти листки, чтобы когда-нибудь, когда придет время, они снова появились на свет? За один такой клочок бумаги оба могут заплатить головой. И они идут на этот риск, чтобы перекинуть мост между скованным сегодня и свободным завтра. Они сражаются. Смело и твердо они стоят на своих постах и, применяясь к обстановке, сражаются тем оружием, какое у них есть в руках. Это совсем простые и незаметные люди, без всякого пафоса, так что ты и не замечаешь, что они вступили в бой не на жизнь, а на смерть, в котором они, сражаясь на нашей стороне, могут победить или пасть.
Десять, двадцать раз ты видел, товарищ, как войска революции маршируют на первомайских парадах, и это было великолепно. Но только в бою можно оценить подлинную силу этой армии, ее непобедимость. Смерть проще, чем ты думал, и у героев нет лучезарного ореола. А бой еще более жесток, чем ты предполагал, и, чтобы выстоять и добиться победы, нужны безмерные силы. Эти силы ты ежедневно видишь в действии, однако не всегда полностью осознаешь их. Ведь все кажется таким естественным.
Сегодня ты снова их осознал. На первомайском параде 1943 года.
День Первого мая 1943 года нарушил последовательность моего рассказа. И это хорошо. В торжественные дни воспоминания бывают немного иными, и радость, которая сегодня преобладает надо всем, могла бы приукрасить эти воспоминания.
А в «кинотеатре» дворца Печека совсем нет ничего радостного. Это преддверие застенка, откуда слышатся стоны и крики узников, и ты не знаешь, что ждет тебя там. Ты видишь, как туда уходят здоровые, сильные, бодрые люди и после двух-трехчасового допроса возвращаются искалеченными, подавленными. Ты слышишь, как твердый голос откликается на вызов, а через некоторое время голос, надломленный страданием и болью, рапортует о возвращении. Но бывает еще хуже: ты видишь и таких, которые уходят с прямым и ясным взглядом, а вернувшись, избегают смотреть тебе в глаза. Где-то там, наверху, в кабинете следователя, была, быть может, одна-единственная минута слабости, один момент колебания, вспышка страха или стремление сохранить свое «я» – и в результате сегодня или завтра сюда приведут новых людей, которые должны будут с начала до конца пройти через все ужасы, новых людей, которых боевой товарищ выдал врагу.
Смотреть на людей со сломленной совестью еще страшнее, чем на избитых. А когда твои чувства обострила смерть, прошедшая мимо тебя, когда ты глядишь глазами воскресшего из мертвых; тогда тебе и без слов ясно, кто заколебался, кто, может быть, и предал, У кого где-то в глубине души на миг зародилась мысль, что было бы не так уж страшно немного облегчить свою участь, выдав кого-нибудь из самых незаметных соратников.
Слабые души! Какая же это жизнь, если она оплачена жизнью товарищей!
Обо всем этом я, вероятно, не думал в первый раз, когда очутился в «кино». Но потом эти мысли часто приходили мне в голову. И наверняка они появились еще в то утро, в обстановке несколько иной, там, где люди познавались больше всего: в «Четырехсотке».
В «кино» я сидел недолго – час, полтора. Потом за моей спиной произнесли мое имя, и два человека в штатском, говорившие по-чешски, подняли меня в лифте на четвертый этаж и ввели в просторную комнату, на дверях которой была цифра «400».
… Некоторое время в этой комнате не было никого, кроме меня и двух моих провожатых. Сидя под их надзором на стуле в глубине комнаты, я осматривался со странным чувством: «Кажется, знакомое место. Был я, что ли, здесь когда-нибудь? Нет, не был. И все же я знаю эту комнату, я ее видел во сне, в каком-то страшном, горячечном сне. Тогда она выглядела иначе, вызывала отвращение, но это та самая комната. Сейчас она приветлива, полна солнца и светлых красок. Через широкие окна с тонкой решеткой видны Тынский храм, зеленая Летна и Градчаны.
Во сне эта комната была мрачной, без окон, ее освещал грязновато-желтый свет, в котором люди двигались, как тени… Да, тогда здесь были люди. Сейчас комната пуста, и шесть тесно составленных скамеек чем-то напоминают веселую лужайку с одуванчиками и лютиками. А во сне на всех скамейках сидели люди с бледными и окровавленными лицами. Вон там, у двери, стоял человек в синей поношенной спецовке, в глазах его была боль. Его мучила жажда, он попросил пить и медленно, как падающий занавес, опустился на пол.
Да, все это было, теперь я знаю, что это не сон. Жестокой, кошмарной была сама действительность.
Это было в ночь моего ареста и первого допроса. Меня приводили сюда раза три, а может быть, десять и уводили, когда мои мучители хотели отдохнуть или брали в работу другого. Я помню, что прохладный кафельный пол приятно освежал мои израненные босые ноги.
На скамейках тогда сидели рабочие завода Юнкерса – вечерний улов гестапо. Человек в синей разодранной спецовке, стоявший у дверей, был товарищ Бартонь, из заводской ячейки, косвенный виновник моего ареста. Я говорю это с той целью, чтобы в моем провале не винили никого. Причиной его не была чья-либо трусость или предательство одного из товарищей, а только неосторожность и неудача. Товарищ Бартонь искал для своей ячейки связи с руководством. Его друг, товарищ Елинек, отнесся несколько легкомысленно к правилам конспирации, пообещав связать его с кем надо, хотя должен был раньше поговорить со мной, что дало бы возможность обойтись без его посредничества. Это была ошибка. Другая, более тяжелая ошибка заключалась в том, что в доверие к Бартоню вкрался провокатор по фамилии Дворжак. От Бартоня он услышал о Елинеках. И семейством Елинеков заинтересовалось гестапо. Не из-за их основной подпольной работы, которую они успешно выполняли в течение двух лет, а из-за пустяковой услуги товарищу, услуги, которая была ничтожным отступлением от правил конспирации. А то, что во дворце Печека решили арестовать супругов Елинеков именно в тот вечер, когда у них был я, и что к ним явился большой отряд гестаповцев, – это была уже чистая случайность. По плану предполагалось арестовать Елинеков только на следующий день. В тот вечер за ними поехали, так сказать, заодно, «на ура», после успешного ареста ячейки на заводе Юнкерса. Мое присутствие у Елинеков было для гестаповцев не меньшей неожиданностью, чем для нас их налет. Они даже не знали, кто попался им в руки, и вряд ли узнали бы, если бы вместе со мной не…
Но все это я сообразил не сразу, а гораздо позже, при следующих посещениях «Четырехсотки». Тогда я уже был не один. Люди сидели на скамейках и стояли у стен. И часы бежали, принося всякие неожиданности.
Неожиданности были странные, которых я не понимал, и дурные, которые я понимал слишком хорошо.
Впрочем, первая неожиданность не относилась ни к той, ни к другой категории. Это был приятный пустяк, о котором не стоит говорить.
Вторая неожиданность: в комнату входят гуськом четыре человека, по-чешски здороваются с гестаповцами в штатском… и со мной, садятся за столы, раскладывают бумаги, закуривают, держат себя свободно, совершенно свободно, словно они здесь на службе. Но ведь я знаю из них по крайней мере трех… Не может быть, чтобы они служили в гестапо… Или все-таки? И они? Ведь это же Р., столько лет он был секретарем партийной и профсоюзной организаций, немножко бирюк, но верный человек. Нет, это невозможно! А это Анна Викова, все еще стройная и красивая, хотя совсем седая, – твердая и непоколебимая подпольщица… Нет, невозможно! А вон тот – это же Вашек, каменщик с шахты в Северной Чехии, а потом секретарь тамошнего обкома! Мне ли его не знать! Какие бои мы вместе с ним пережили на севере! И этому человеку сломили хребет? Нет, невозможно! Но что им тут нужно? Что они здесь делают? Я еще не успел найти ответ на этот вопрос, как возникли новые. Вводят Мирека, супругов Елинеков и супругов Фрид. Этих я знаю, их арестовали вместе со мной. Но почему здесь также искусствовед Павел Кропачек, который помогал Миреку в работе среди интеллигенции? Кто знал о нем, кроме меня и Мирека? И почему тот высокий парень со следами побоев на лице дает мне понять, что мы незнакомы? Ведь я его действительно не знаю. Кто бы это мог быть? Доктор Штых? Зденек? Боже, значит, провалилась и группа врачей! Кто знал о ней, кроме меня и Мирека? И почему меня на допросах в камере спрашивали о чешской интеллигенции? Почему им вообще вздумалось связывать мое имя с работой среди интеллигенции? Кто знал об этом, кроме меня и Мирека?
Найти ответ нетрудно, но он жесток: Мирек предал, Мирек заговорил. Еще минуту я надеялся, что он, может быть, сказал не все, но потом привели наверх еще одну группу, и я увидел Владислава Ванчуру[7], профессора Фельбера с сыном, почти неузнаваемого Ведржиха Вацлавека[8], Божену Пульпанову, Индржиха Элба, скульптора Дворжака, всех, кто входил или должен был войти в Национально-революционный комитет чешской интеллигенции, – все оказались здесь. О работе среди интеллигенции Мирек сказал все.
Нелегки были мои первые дни во дворце Печека, но это был самый тяжелый удар. Я ждал смерти, но не предательства. И, как бы снисходительно я ни судил Мирека, какие бы ни подбирал смягчающие обстоятельства, как ни старался вспомнить все то, чего он еще не выдал, я не мог найти иного слова, кроме «предательство». Ни шаткость убеждений, ни слабость, ни бессилие смертельно замученного человека, лихорадочно ищущего избавления, – ничто не могло служить ему оправданием. Теперь я понял, откуда гестаповцы в первую же ночь узнали мою фамилию. Теперь я понял, как сюда попала Аничка Ираскова, – у нее мы несколько раз встречались с Миреком. Теперь было ясно, почему здесь Кропачек и доктор Штых.
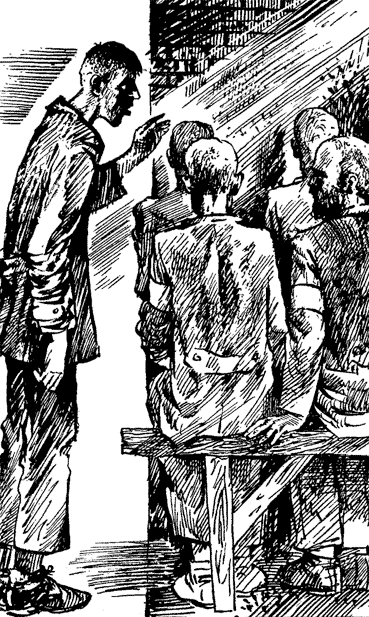
Не жди рассказа о развевающихся знаменах. Ничего подобного не было. Не могу рассказать и о захватывающих событиях, о которых ты бы с удовольствием послушал. Сегодня все было много проще. Не было шумного многотысячного потока людей, который в прежние годы бурлил на улицах Праги, не было того, что я видел в Москве, – необозримого моря голов на Красной площади. Здесь нет ни миллионов, ни сотен. Здесь всего лишь несколько коммунистов – мужчин и женщин. Но значение нашего смотра от этого не меньше. Да, не меньше, ибо это смотр сил, которые сейчас проходят под ураганным огнем и превращаются не в пепел, а в сталь. Это смотр в окопах во время битвы. А в окопах нет парадности, там носят полевую форму.
Все это ты чувствуешь по таким мелочам… Не знаю, поймешь ли ты меня, товарищ, когда прочтешь мои слова, если ты не пережил всего сам. Постарайся понять. Поверь, в этом была сила.
Утренний привет соседней камеры: сегодня оттуда выстукивают два такта из Бетховена торжественнее, настойчивее, чем обычно, и стена передает их тоже в ином, необычном тоне.
Мы стараемся одеться получше. И так во всех камерах.
К завтраку мы уже в полном параде. Перед открытой дверью камеры дефилируют коридорные с хлебом, черным кофе и водой. Товарищ Скоржепа подает три хлебца вместо двух. Это его поздравление с Первым мая, конкретное поздравление заботливого человека. Передавая хлеб, он незаметно жмет мне руку. Разговаривать нельзя, следят даже за выражением твоих глаз, но разве нам не понятен немой разговор наших пальцев?
Во двор, под окна нашей камеры, выбегают на утреннюю получасовую прогулку женщины. Я влезаю на стол и через решетку смотрю вниз. Может быть, они заметят меня. Да, заметили! Поднимают сжатые в кулак руки и приветствуют меня. Я отвечаю тем же. Во дворе сегодня радостно и оживленно, совсем иначе, чем в другие дни. Надзирательница ничего не замечает или, может быть, старается не замечать. Это тоже имеет отношение к майскому смотру.
Сейчас наша очередь гулять. Я показываю упражнение: сегодня Первое мая, ребята, сегодня мы начнем по-другому, пусть дивятся конвойные. Первое движение: раз-два, раз-два – удары молотом. Второе: косьба. Молот и коса. Чуточку воображения – и товарищи поймут: серп и молот. Я поглядываю кругом. На лицах улыбки, все с энтузиазмом следуют моему примеру. Поняли! Правильно, ребята, это наша маевка, а пантомима – наша первомайская клятва: пойдем на смерть, но не изменим.
Мы снова в камере. Девять часов. Сейчас часы на кремлевской башне бьют десять и на Красной площади начинается парад. Папаша, мы идем вместе с ними. Там сейчас поют «Интернационал», он раздается во всем мире, пусть зазвучит он и в нашей камере. Мы поем. Одна революционная песня следует за другой, мы не хотим быть одинокими, да мы и не одиноки, мы вместе с теми, кто сейчас свободно поет на воле, с теми, кто ведет бой, как и мы…
Да, мы с вами.
Товарищи в тюрьмах,
В застенках холодных,
Вы с нами, вы с нами,
Хоть нет вас в колоннах…
Так мы, в камере № 267, решили завершить песнями наш первомайский смотр 1943 года. Но это еще не конец!
Посмотри, вон коридорная из женского корпуса расхаживает по двору и насвистывает марш Красной Армии, «Партизанскую» и другие советские песни, чтобы подбодрить товарищей в камерах. А мужчина в форме чешского полицейского, который принес мне бумагу и карандаш и сейчас сторожит в коридоре, чтобы меня не захватил врасплох незваный гость? А тот, другой, инициатор этих записок, который уносит и заботливо прячет эти листки, чтобы когда-нибудь, когда придет время, они снова появились на свет? За один такой клочок бумаги оба могут заплатить головой. И они идут на этот риск, чтобы перекинуть мост между скованным сегодня и свободным завтра. Они сражаются. Смело и твердо они стоят на своих постах и, применяясь к обстановке, сражаются тем оружием, какое у них есть в руках. Это совсем простые и незаметные люди, без всякого пафоса, так что ты и не замечаешь, что они вступили в бой не на жизнь, а на смерть, в котором они, сражаясь на нашей стороне, могут победить или пасть.
Десять, двадцать раз ты видел, товарищ, как войска революции маршируют на первомайских парадах, и это было великолепно. Но только в бою можно оценить подлинную силу этой армии, ее непобедимость. Смерть проще, чем ты думал, и у героев нет лучезарного ореола. А бой еще более жесток, чем ты предполагал, и, чтобы выстоять и добиться победы, нужны безмерные силы. Эти силы ты ежедневно видишь в действии, однако не всегда полностью осознаешь их. Ведь все кажется таким естественным.
Сегодня ты снова их осознал. На первомайском параде 1943 года.
День Первого мая 1943 года нарушил последовательность моего рассказа. И это хорошо. В торжественные дни воспоминания бывают немного иными, и радость, которая сегодня преобладает надо всем, могла бы приукрасить эти воспоминания.
А в «кинотеатре» дворца Печека совсем нет ничего радостного. Это преддверие застенка, откуда слышатся стоны и крики узников, и ты не знаешь, что ждет тебя там. Ты видишь, как туда уходят здоровые, сильные, бодрые люди и после двух-трехчасового допроса возвращаются искалеченными, подавленными. Ты слышишь, как твердый голос откликается на вызов, а через некоторое время голос, надломленный страданием и болью, рапортует о возвращении. Но бывает еще хуже: ты видишь и таких, которые уходят с прямым и ясным взглядом, а вернувшись, избегают смотреть тебе в глаза. Где-то там, наверху, в кабинете следователя, была, быть может, одна-единственная минута слабости, один момент колебания, вспышка страха или стремление сохранить свое «я» – и в результате сегодня или завтра сюда приведут новых людей, которые должны будут с начала до конца пройти через все ужасы, новых людей, которых боевой товарищ выдал врагу.
Смотреть на людей со сломленной совестью еще страшнее, чем на избитых. А когда твои чувства обострила смерть, прошедшая мимо тебя, когда ты глядишь глазами воскресшего из мертвых; тогда тебе и без слов ясно, кто заколебался, кто, может быть, и предал, У кого где-то в глубине души на миг зародилась мысль, что было бы не так уж страшно немного облегчить свою участь, выдав кого-нибудь из самых незаметных соратников.
Слабые души! Какая же это жизнь, если она оплачена жизнью товарищей!
Обо всем этом я, вероятно, не думал в первый раз, когда очутился в «кино». Но потом эти мысли часто приходили мне в голову. И наверняка они появились еще в то утро, в обстановке несколько иной, там, где люди познавались больше всего: в «Четырехсотке».
В «кино» я сидел недолго – час, полтора. Потом за моей спиной произнесли мое имя, и два человека в штатском, говорившие по-чешски, подняли меня в лифте на четвертый этаж и ввели в просторную комнату, на дверях которой была цифра «400».
… Некоторое время в этой комнате не было никого, кроме меня и двух моих провожатых. Сидя под их надзором на стуле в глубине комнаты, я осматривался со странным чувством: «Кажется, знакомое место. Был я, что ли, здесь когда-нибудь? Нет, не был. И все же я знаю эту комнату, я ее видел во сне, в каком-то страшном, горячечном сне. Тогда она выглядела иначе, вызывала отвращение, но это та самая комната. Сейчас она приветлива, полна солнца и светлых красок. Через широкие окна с тонкой решеткой видны Тынский храм, зеленая Летна и Градчаны.
Во сне эта комната была мрачной, без окон, ее освещал грязновато-желтый свет, в котором люди двигались, как тени… Да, тогда здесь были люди. Сейчас комната пуста, и шесть тесно составленных скамеек чем-то напоминают веселую лужайку с одуванчиками и лютиками. А во сне на всех скамейках сидели люди с бледными и окровавленными лицами. Вон там, у двери, стоял человек в синей поношенной спецовке, в глазах его была боль. Его мучила жажда, он попросил пить и медленно, как падающий занавес, опустился на пол.
Да, все это было, теперь я знаю, что это не сон. Жестокой, кошмарной была сама действительность.
Это было в ночь моего ареста и первого допроса. Меня приводили сюда раза три, а может быть, десять и уводили, когда мои мучители хотели отдохнуть или брали в работу другого. Я помню, что прохладный кафельный пол приятно освежал мои израненные босые ноги.
На скамейках тогда сидели рабочие завода Юнкерса – вечерний улов гестапо. Человек в синей разодранной спецовке, стоявший у дверей, был товарищ Бартонь, из заводской ячейки, косвенный виновник моего ареста. Я говорю это с той целью, чтобы в моем провале не винили никого. Причиной его не была чья-либо трусость или предательство одного из товарищей, а только неосторожность и неудача. Товарищ Бартонь искал для своей ячейки связи с руководством. Его друг, товарищ Елинек, отнесся несколько легкомысленно к правилам конспирации, пообещав связать его с кем надо, хотя должен был раньше поговорить со мной, что дало бы возможность обойтись без его посредничества. Это была ошибка. Другая, более тяжелая ошибка заключалась в том, что в доверие к Бартоню вкрался провокатор по фамилии Дворжак. От Бартоня он услышал о Елинеках. И семейством Елинеков заинтересовалось гестапо. Не из-за их основной подпольной работы, которую они успешно выполняли в течение двух лет, а из-за пустяковой услуги товарищу, услуги, которая была ничтожным отступлением от правил конспирации. А то, что во дворце Печека решили арестовать супругов Елинеков именно в тот вечер, когда у них был я, и что к ним явился большой отряд гестаповцев, – это была уже чистая случайность. По плану предполагалось арестовать Елинеков только на следующий день. В тот вечер за ними поехали, так сказать, заодно, «на ура», после успешного ареста ячейки на заводе Юнкерса. Мое присутствие у Елинеков было для гестаповцев не меньшей неожиданностью, чем для нас их налет. Они даже не знали, кто попался им в руки, и вряд ли узнали бы, если бы вместе со мной не…
Но все это я сообразил не сразу, а гораздо позже, при следующих посещениях «Четырехсотки». Тогда я уже был не один. Люди сидели на скамейках и стояли у стен. И часы бежали, принося всякие неожиданности.
Неожиданности были странные, которых я не понимал, и дурные, которые я понимал слишком хорошо.
Впрочем, первая неожиданность не относилась ни к той, ни к другой категории. Это был приятный пустяк, о котором не стоит говорить.
Вторая неожиданность: в комнату входят гуськом четыре человека, по-чешски здороваются с гестаповцами в штатском… и со мной, садятся за столы, раскладывают бумаги, закуривают, держат себя свободно, совершенно свободно, словно они здесь на службе. Но ведь я знаю из них по крайней мере трех… Не может быть, чтобы они служили в гестапо… Или все-таки? И они? Ведь это же Р., столько лет он был секретарем партийной и профсоюзной организаций, немножко бирюк, но верный человек. Нет, это невозможно! А это Анна Викова, все еще стройная и красивая, хотя совсем седая, – твердая и непоколебимая подпольщица… Нет, невозможно! А вон тот – это же Вашек, каменщик с шахты в Северной Чехии, а потом секретарь тамошнего обкома! Мне ли его не знать! Какие бои мы вместе с ним пережили на севере! И этому человеку сломили хребет? Нет, невозможно! Но что им тут нужно? Что они здесь делают? Я еще не успел найти ответ на этот вопрос, как возникли новые. Вводят Мирека, супругов Елинеков и супругов Фрид. Этих я знаю, их арестовали вместе со мной. Но почему здесь также искусствовед Павел Кропачек, который помогал Миреку в работе среди интеллигенции? Кто знал о нем, кроме меня и Мирека? И почему тот высокий парень со следами побоев на лице дает мне понять, что мы незнакомы? Ведь я его действительно не знаю. Кто бы это мог быть? Доктор Штых? Зденек? Боже, значит, провалилась и группа врачей! Кто знал о ней, кроме меня и Мирека? И почему меня на допросах в камере спрашивали о чешской интеллигенции? Почему им вообще вздумалось связывать мое имя с работой среди интеллигенции? Кто знал об этом, кроме меня и Мирека?
Найти ответ нетрудно, но он жесток: Мирек предал, Мирек заговорил. Еще минуту я надеялся, что он, может быть, сказал не все, но потом привели наверх еще одну группу, и я увидел Владислава Ванчуру[7], профессора Фельбера с сыном, почти неузнаваемого Ведржиха Вацлавека[8], Божену Пульпанову, Индржиха Элба, скульптора Дворжака, всех, кто входил или должен был войти в Национально-революционный комитет чешской интеллигенции, – все оказались здесь. О работе среди интеллигенции Мирек сказал все.
Нелегки были мои первые дни во дворце Печека, но это был самый тяжелый удар. Я ждал смерти, но не предательства. И, как бы снисходительно я ни судил Мирека, какие бы ни подбирал смягчающие обстоятельства, как ни старался вспомнить все то, чего он еще не выдал, я не мог найти иного слова, кроме «предательство». Ни шаткость убеждений, ни слабость, ни бессилие смертельно замученного человека, лихорадочно ищущего избавления, – ничто не могло служить ему оправданием. Теперь я понял, откуда гестаповцы в первую же ночь узнали мою фамилию. Теперь я понял, как сюда попала Аничка Ираскова, – у нее мы несколько раз встречались с Миреком. Теперь было ясно, почему здесь Кропачек и доктор Штых.
