Страница:
Священник уже отошел на несколько шагов, и тут К. крикнул ему очень громко:
– Подожди, прошу тебя!
– Я жду! – сказал священник.
– Тебе больше ничего от меня не нужно? – спросил К.
– Нет, – сказал священник.
– Но ты был так добр ко мне сначала, – сказал К., – все объяснил мне, а теперь отпускаешь меня, будто тебе до меня дела нет.
– Но ведь тебе нужно уйти? – сказал священник.
– Да, конечно, – сказал К. – Ты должен понять меня.
– Сначала ты должен понять, кто я такой, – сказал священник.
– Ты тюремный капеллан, – сказал К. и снова подошел к священнику; ему вовсе не надо было так срочно возвращаться в банк, как он это изобразил, он вполне мог еще побыть тут.
– Значит, я тоже служу суду, – сказал священник. – Почему же мне должно быть что-то нужно от тебя? Суду ничего от тебя не нужно. Суд принимает тебя, когда ты приходишь, и отпускает, когда ты уходишь.
– Подожди, прошу тебя!
– Я жду! – сказал священник.
– Тебе больше ничего от меня не нужно? – спросил К.
– Нет, – сказал священник.
– Но ты был так добр ко мне сначала, – сказал К., – все объяснил мне, а теперь отпускаешь меня, будто тебе до меня дела нет.
– Но ведь тебе нужно уйти? – сказал священник.
– Да, конечно, – сказал К. – Ты должен понять меня.
– Сначала ты должен понять, кто я такой, – сказал священник.
– Ты тюремный капеллан, – сказал К. и снова подошел к священнику; ему вовсе не надо было так срочно возвращаться в банк, как он это изобразил, он вполне мог еще побыть тут.
– Значит, я тоже служу суду, – сказал священник. – Почему же мне должно быть что-то нужно от тебя? Суду ничего от тебя не нужно. Суд принимает тебя, когда ты приходишь, и отпускает, когда ты уходишь.
Поездка к матери
(Внезапно, за обедом, он подумал, что надо бы навестить мать. Ведь весна на исходе, а значит, почти три года прошло с тех пор, как он виделся с матерью. В тот раз она попросила приезжать на каждый его день рождения, и он, несмотря на разные помехи, пошел навстречу этой просьбе и даже дал матери обещание, что будет проводить с нею каждый свой день рождения, обещание, которое вот уже дважды не выполнил. Зато теперь он решил не дожидаться дня рождения, хотя до него оставалось всего две недели, и поехать немедля. Правда, возразил он сам себе, ехать сейчас нет никакой особой причины, как раз наоборот – известия, регулярно, раз в два месяца, поступавшие от родственника, владевшего в том городке торговым предприятием и распоряжавшегося деньгами, которые К. посылал матери, внушали беспокойства меньше, чем когда-либо. Да, матери грозила полная слепота, но, зная заключения докторов, К. вот уже несколько лет был готов к этому; зато в остальном ее здоровье стало куда лучше, разные старческие хвори не усугубились, а, напротив, отступили, во всяком случае, жаловалась мать реже. По мнению родственника, это было связано, возможно, с тем, что в последнее время она стала не в меру набожной – легкие признаки этого К. чуть ли не с неприязнью отметил, когда был у матери. В своем письме родственник очень наглядно представил, как эта старая женщина, прежде еле ходившая, теперь вполне успешно передвигается, опираясь на его руку, когда по воскресеньям он водит ее в церковь. Родственнику можно было доверять, потому что в целом он был человек мнительный и в своих письмах преувеличивал скорей плохое, а не хорошее.
Но, как бы то ни было, К. решился ехать; недавно он среди прочих неприятных черт заметил у себя некоторую слабость, почти неудержимое стремление потакать любым своим желаниям, – что ж, на сей раз этот изъян по крайней мере послужит доброй цели.
Чтобы немного собраться с мыслями, он подошел к окну. Потом велел убрать со стола, послал курьера к фрау Грубах, сообщить, что он уезжает, и забрать саквояж, в который фрау Грубах пускай уложит вещи, какие сочтет нужными, потом он дал Кюне, служащему банка, несколько заданий на время своей отлучки и в этот раз почти не разозлился, когда Кюне, по своей привычке, неучтиво выслушал распоряжения, причем стоял вполоборота с таким видом, будто и сам прекрасно знает, что ему делать, а указания выслушивает, лишь подчиняясь принятому порядку. Наконец К. отправился к директору. Когда он попросил дать ему двухдневный отпуск и объяснил причину, директор, разумеется, спросил, не больна ли мать К. «Нет», – сказал К. и ничего больше объяснять не стал. Он стоял в центре кабинета, заложив руки за спину. И в раздумье морщил лоб. Может, он поторопился с приготовлениями к отъезду? Не лучше ли остаться? Зачем ему ехать? Уж не сентиментальность ли – причина его желания поехать? И, пожалуй, из-за своей сентиментальности он упустил что-то важное здесь, какой-то случай для вмешательства, который ведь мог теперь выдаться в любой день и любой час, с тех пор как, вот уже несколько месяцев, процесс, похоже, замер и никаких определенных известий о нем нет. А кроме того, не напугает ли он старушку, чего он, конечно, не хотел бы, но это легко может случиться против его воли, поскольку многое происходит теперь против его воли. Да и мать вовсе не скучает без него. Раньше в письмах родственника постоянно упоминались просьбы матери, звавшей К. к себе, но теперь ничего подобного уже давно не было. Итак, он едет не ради матери, это ясно. Если же он едет ради какой-то своей надежды, он самый настоящий глупец и, когда приедет, за глупость будет вознагражден тем, что окончательно падет духом. Но, словно все эти сомнения не были его собственными, словно их пытались внушить ему другие люди, К. вдруг, точно очнувшись, твердо решил ехать. Между тем директор, то ли отвлекшись, то ли, что. более вероятно, из особой предупредительности в отношении К., склонился над газетой, теперь же он поднял голову, встал, протянул К. руку и пожелал доброго пути, ни о чем больше не спросив.
Потом К. расхаживал по своему кабинету туда и сюда, дожидался посыльного, почти без слов отделался от заместителя директора, который несколько раз заходил, чтобы узнать о причине отъезда К., и наконец, забрав у посыльного саквояж, поспешил вниз, к выходу, где ждал заранее вызванный извозчик. К. был уже на лестнице, как вдруг в последнюю минуту наверху показался Куллих, в руках он держал листок с наброском делового письма и, видно, хотел попросить у К. каких-то указаний. К. махнул рукой, чтобы, отделаться, но этот бестолковый парень, белобрысый, большеголовый, неправильно понял его жест и, размахивая листком, бросился, рискуя сломать себе шею, вниз по лестнице догонять К. Тот настолько разозлился, что, едва Куллих настиг его, уже за дверью, выхватил бумагу и порвал в клочья. Сев наконец в карету, К. обернулся и увидел, что Куллих, похоже так и не понявший, в чем его ошибка, все стоит у дверей и смотрит вслед отъехавшему экипажу, а рядом с ним швейцар поглубже надвигает фуражку. Стало быть, К. все-таки один из высших служащих банка; пожелай он это отрицать, швейцар послужил бы явным опровержением. И мать тоже, несмотря на все возражения, была уверена, что он директор банка, причем уже много лет. В ее мнении он никогда не упадет, как бы ни пострадала его репутация вообще. Наверное, это добрый знак, если именно сейчас, перед отъездом, он убедился, что все еще может выхватить у служащего, да еще связанного с судом, письмо и порвать без всяких объяснений, ничуть себе не навредив.
Однако как раз того, что больше всего хотелось, нельзя было сделать – дать Куллиху пару звонких оплеух по бледным пухлым щекам. В то же время это конечно, очень хорошо, ибо К. ненавидит Куллиха, и не только Куллиха, но и Рабинштайнера и Каминера. И кажется, он ненавидел их всегда, а появление их в комнате фройляйн Бюрстнер только заставило его впервые обратить на них внимание, ненависть же эта родилась раньше. И в последнее время К., почти страдал от этой ненависти, оттого, что не может ее удовлетворить; так трудно подобраться к ним, это ведь мелкие служащие, а они все до одного ни на что не годятся, они не выдвинутая, разве что по выслуге лет, но и в этом случае депо пойдет медленнее, чем у кого-то другого, и, следовательно, нет почти никакой возможности помешать им, ни одно поставленное перед ними препятствие не окажется большим, чем глупость Куллиха, нерадивость Рабенштайнера и отвратительная подхалимская скромность Каминера. Единственное, что можно против них предпринять, – найти предлог для их увольнения, и сделать это было бы очень даже просто, всего-то сказать пару слов директору, но подобных вещей К. избегает. Может быть, он поступил бы так, если бы этих троих поддержал заместитель директора, который явно или тайно отдает предпочтение всему, что ненавистно К., но странное дело, как раз тут заместитель директора делает исключение и желает того же, чего и К.)
Но, как бы то ни было, К. решился ехать; недавно он среди прочих неприятных черт заметил у себя некоторую слабость, почти неудержимое стремление потакать любым своим желаниям, – что ж, на сей раз этот изъян по крайней мере послужит доброй цели.
Чтобы немного собраться с мыслями, он подошел к окну. Потом велел убрать со стола, послал курьера к фрау Грубах, сообщить, что он уезжает, и забрать саквояж, в который фрау Грубах пускай уложит вещи, какие сочтет нужными, потом он дал Кюне, служащему банка, несколько заданий на время своей отлучки и в этот раз почти не разозлился, когда Кюне, по своей привычке, неучтиво выслушал распоряжения, причем стоял вполоборота с таким видом, будто и сам прекрасно знает, что ему делать, а указания выслушивает, лишь подчиняясь принятому порядку. Наконец К. отправился к директору. Когда он попросил дать ему двухдневный отпуск и объяснил причину, директор, разумеется, спросил, не больна ли мать К. «Нет», – сказал К. и ничего больше объяснять не стал. Он стоял в центре кабинета, заложив руки за спину. И в раздумье морщил лоб. Может, он поторопился с приготовлениями к отъезду? Не лучше ли остаться? Зачем ему ехать? Уж не сентиментальность ли – причина его желания поехать? И, пожалуй, из-за своей сентиментальности он упустил что-то важное здесь, какой-то случай для вмешательства, который ведь мог теперь выдаться в любой день и любой час, с тех пор как, вот уже несколько месяцев, процесс, похоже, замер и никаких определенных известий о нем нет. А кроме того, не напугает ли он старушку, чего он, конечно, не хотел бы, но это легко может случиться против его воли, поскольку многое происходит теперь против его воли. Да и мать вовсе не скучает без него. Раньше в письмах родственника постоянно упоминались просьбы матери, звавшей К. к себе, но теперь ничего подобного уже давно не было. Итак, он едет не ради матери, это ясно. Если же он едет ради какой-то своей надежды, он самый настоящий глупец и, когда приедет, за глупость будет вознагражден тем, что окончательно падет духом. Но, словно все эти сомнения не были его собственными, словно их пытались внушить ему другие люди, К. вдруг, точно очнувшись, твердо решил ехать. Между тем директор, то ли отвлекшись, то ли, что. более вероятно, из особой предупредительности в отношении К., склонился над газетой, теперь же он поднял голову, встал, протянул К. руку и пожелал доброго пути, ни о чем больше не спросив.
Потом К. расхаживал по своему кабинету туда и сюда, дожидался посыльного, почти без слов отделался от заместителя директора, который несколько раз заходил, чтобы узнать о причине отъезда К., и наконец, забрав у посыльного саквояж, поспешил вниз, к выходу, где ждал заранее вызванный извозчик. К. был уже на лестнице, как вдруг в последнюю минуту наверху показался Куллих, в руках он держал листок с наброском делового письма и, видно, хотел попросить у К. каких-то указаний. К. махнул рукой, чтобы, отделаться, но этот бестолковый парень, белобрысый, большеголовый, неправильно понял его жест и, размахивая листком, бросился, рискуя сломать себе шею, вниз по лестнице догонять К. Тот настолько разозлился, что, едва Куллих настиг его, уже за дверью, выхватил бумагу и порвал в клочья. Сев наконец в карету, К. обернулся и увидел, что Куллих, похоже так и не понявший, в чем его ошибка, все стоит у дверей и смотрит вслед отъехавшему экипажу, а рядом с ним швейцар поглубже надвигает фуражку. Стало быть, К. все-таки один из высших служащих банка; пожелай он это отрицать, швейцар послужил бы явным опровержением. И мать тоже, несмотря на все возражения, была уверена, что он директор банка, причем уже много лет. В ее мнении он никогда не упадет, как бы ни пострадала его репутация вообще. Наверное, это добрый знак, если именно сейчас, перед отъездом, он убедился, что все еще может выхватить у служащего, да еще связанного с судом, письмо и порвать без всяких объяснений, ничуть себе не навредив.
Однако как раз того, что больше всего хотелось, нельзя было сделать – дать Куллиху пару звонких оплеух по бледным пухлым щекам. В то же время это конечно, очень хорошо, ибо К. ненавидит Куллиха, и не только Куллиха, но и Рабинштайнера и Каминера. И кажется, он ненавидел их всегда, а появление их в комнате фройляйн Бюрстнер только заставило его впервые обратить на них внимание, ненависть же эта родилась раньше. И в последнее время К., почти страдал от этой ненависти, оттого, что не может ее удовлетворить; так трудно подобраться к ним, это ведь мелкие служащие, а они все до одного ни на что не годятся, они не выдвинутая, разве что по выслуге лет, но и в этом случае депо пойдет медленнее, чем у кого-то другого, и, следовательно, нет почти никакой возможности помешать им, ни одно поставленное перед ними препятствие не окажется большим, чем глупость Куллиха, нерадивость Рабенштайнера и отвратительная подхалимская скромность Каминера. Единственное, что можно против них предпринять, – найти предлог для их увольнения, и сделать это было бы очень даже просто, всего-то сказать пару слов директору, но подобных вещей К. избегает. Может быть, он поступил бы так, если бы этих троих поддержал заместитель директора, который явно или тайно отдает предпочтение всему, что ненавистно К., но странное дело, как раз тут заместитель директора делает исключение и желает того же, чего и К.)
Конец
Накануне того дня, когда К. исполнился тридцать один год, – было около девяти вечера, и уличный шум уже стихал, – на квартиру к нему явились два господина в сюртуках, бледные, одутловатые, в цилиндрах, словно приросших к голове. После обычного обмена учтивостями у входной двери – кому войти первому – они еще более учтиво стали пропускать друг друга у двери комнаты К. Хотя его никто не предупредил о визите, он уже сидел у двери на стуле с таким видом, с каким обычно ждут гостей, весь в черном, и медленно натягивал новые черные перчатки, тесно облегавшие пальцы. Он сразу встал и с любопытством поглядел на господ.
– Значит, меня поручили вам? – спросил он. Оба господина кивнули, и каждый повел рукой с цилиндром в сторону другого. К. признался себе, что ждал не таких посетителей. Он подошел к окну и еще раз посмотрел на темную улицу. На той стороне почти во всех окнах уже было темно, во многих спустили занавеси. В одном из освещенных окон верхнего этажа за решеткой играли маленькие дети, они тянулись друг к другу ручонками, еще не умея встать на ножки.
«Посылают за мной старых отставных актеров, – сказал себе К. и оглянулся, чтобы еще раз удостовериться в этом. – Дешево же они хотят от меня отделаться». К. вдруг обернулся к ним и спросил:
– В каком театре вы играете?
– В театре? – спросил один господин у другого, словно советуясь с ним, и уголки его губ дрогнули. Другой стал гримасничать, как немой, который пытается перебороть свою немощь.
Видно, они не подготовились к вопросам, сказал К. про себя и пошел за своей шляпой.
Оба господина хотели взять К. под руки уже на лестнице, но он сказал:
– Нет, возьмете на улице, я же не больной.
Но у самых ворот они повисли на нем так, как еще ни разу в жизни никто не висел. Притиснув сзади плечо к его плечу и не сгибая локтей, каждый обвил рукой руку К. по всей длине и сжал его кисть заученной, привычной, непреодолимой хваткой. К. шел, выпрямившись, между ними, и все трое так слились в одно целое, что, если бы ударить по одному из них, удар пришелся бы по всем троим. Такая слитность присуща, пожалуй, только неодушевленным предметам.
Под каждым фонарем К. пытался разглядеть своих спутников получше, чем можно было в полутьме его комнаты, хотя это было очень трудно при таком тесном соприкосновении. Может быть, они теноры, подумал он, разглядев их двойные подбородки. Ему были противны их лоснящиеся чистотой физиономии. Казалось, что буквально видишь руку, которая прочистила им углы глаз, вытерла верхнюю губу, выскребла складки на подбородке. (Брови у них были точно наклеенные, они поднимались и опускались не в такт ходьбе.) Разглядев их, К. остановился, и с ним остановились оба господина; они оказались на краю пустой, безлюдной, засаженной кустарником площади.
– Почему это послали именно вас? – крикнул К. скорее нетерпеливо, чем вопросительно. Те явно не знали, что ответить, и ждали, опустив свободную руку, как ждут санитары, когда больной останавливается передохнуть.
– Дальше я не пойду, – сказал К., нащупывая почву.
На это им отвечать не понадобилось, они просто, не ослабляя хватки, попытались сдвинуть К. с места, но он не поддался. «Больше уж мне мои силы не понадобятся, нужно хоть сейчас напрячь их вовсю», – подумал К., и ему вспомнилось, как мухи отдираются от липкой бумаги и при этом отрывают себе ножки. Да, этим господам придется туго.
И тут на маленькой лесенке, которая вела на площадь с улочки, лежавшей внизу, показалась фройляйн Бюрстнер. К. был не совсем уверен, она ли это, хотя сходство было большое. Но для К. не имело никакого значения, была ли то фройляйн Бюрстнер или нет, просто он вдруг осознал всю бессмысленность сопротивления. Ничего героического не будет в том, что он вдруг станет сопротивляться, доставит этим господам лишние хлопоты, попытается в самообороне ощутить напоследок хоть какую-то видимость жизни. Он двинулся с места, и радость, которую он этим доставил обоим господам, отчасти передалась и ему. Они дали ему возможность направлять их шаги, и он направил их в ту же сторону, куда шла перед ним фройляйн Бюрстнер, но не потому, что хотел ее догнать, не потому, что хотел видеть ее подольше, а лишь для того, чтобы не забыть то предзнаменование, которое он в ней увидел. «Единственное, что мне остается сейчас сделать, – сказал он себе, и равномерный шаг его самого и его спутников как бы подкреплял эту мысль, – единственное, что я могу сейчас сделать, – это сохранить до конца ясность ума и суждения. Всегда мне хотелось хватать жизнь в двадцать рук, но далеко не всегда с похвальной целью. И это было неправильно. Неужто и сейчас я покажу, что даже процесс, длившийся целый год, ничему меня не научил? Неужто я так и уйду тупым упрямцем? Неужто про меня потом скажут, что в начале процесса я стремился его окончить, а теперь, в конце, – начать сначала? Нет, не желаю, чтобы так говорили! Я благодарен, что на этом пути мне в спутники даны эти полунемые, бесчувственные люди и что мне предоставлено самому сказать себе все, что нужно».
Между тем фройляйн Бюрстнер уже свернула на боковую улицу, но К. мог теперь обойтись и без нее и отдался на волю своих провожатых. В полном согласии они перешли втроем мост, освещенный луной; оба господина беспрекословно следовали самому малейшему движению К., и когда он повернулся к перилам, оба всем телом повернулись за ним. Вода, переливаясь и дрожа в лунном свете, струилась вокруг маленького острова, где, словно теснясь друг к дружке, густо росли кусты и деревья. Дорожки, усыпанные гравием, – сейчас их не было видно – вели к удобным скамейкам, где К. летом часто отдыхал, позевывая и потягиваясь всем телом.
– А я вовсе и не хотел тут останавливаться, – сказал К. своим спутникам, пристыженный их беспрекословной готовностью.
К. показалось, что за его спиной один мягко упрекнул другого в недогадливости, и они двинулись дальше.
(Они прошли несколько улочек, поднимавшихся в гору, на них стояли на посту или расхаживали полицейские, одни в отдалении, другие совсем близко. Полицейский с густыми усами, положив руку на эфес сабли, доверенной ему государством, двинулся, похоже, в их сторону, к группе, вызвавшей у него подозрения.
– Государство предлагает мне свою помощь! – шепнул К. на ухо одному из провожатых. А что, если я перенесу процесс в сферу действия государственных законов? Может, до того дойдет, что мне придется защищать вас от государства!)
Улицы пошли в гору, кое-где им навстречу попадались полицейские, стоящие на посту или расхаживавшие по мостовой; они проходили то в отдалении, то совсем близко. Один из них, с пышными усами, держа руку на эфесе сабли, словно нарочно подошел вплотную к этой несколько подозрительной группе. Оба господина остановились, полицейский открыл было рот, но тут К. рывком потянул их обоих вперед. На ходу К. то и дело осторожно озирался, чтобы увидеть, не пошел ли полицейский за ними; а когда они завернули от него за угол, К. побежал, и его спутникам пришлось, несмотря на одышку, бежать вместе с ним.
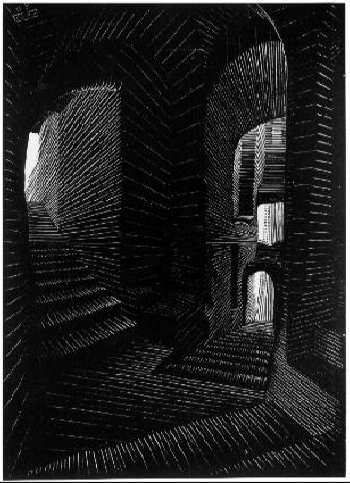 [18]
[18]
Вскоре они оказались за городом, где сразу, почти без перехода, начинались поля. Небольшая каменоломня, заброшенная и пустая, лежала у здания еще совершенно городского вида. Здесь оба господина остановились: то ли они наметили это место заранее, то ли слишком устали, чтобы бежать дальше. Они отпустили К., молча ожидавшего, что же будет, сняли цилиндры и, оглядывая каменоломню, отерли носовыми платками пот со лба. На всем лежало лунное сияние в том естественном спокойствии, какое ни одному другому свету не присуще.
После обмена вежливыми репликами о том, кому выполнять следующую часть задания, – очевидно, обязанности этих господ точно распределены не были, – один из них подошел к К. и снял с него пиджак, жилетку и, наконец, рубаху. К. невольно вздрогнул от озноба, и господин ободряюще похлопал его по спине. Потом он аккуратно сложил вещи, как будто ими придется воспользоваться, – правда, не в ближайшее время. Чтобы К. не стоял неподвижно в ощутимой ночной прохладе, он взял его под руку и стал ходить с ним взад и вперед, пока второй господин искал в каменоломне подходящее место. Найдя его, тот помахал им рукой, и первый господин подвел К. туда. У самого шурфа лежал отколотый камень. Оба господина посадили К. на землю, прислонили к стене и уложили головой на камень. Но, несмотря на все их усилия, несмотря на то что К. старался как-то им содействовать, его поза оставалась напряженной и неестественной. Поэтому первый господин попросил второго дать ему одному попробовать уложить К. поудобнее, но и это не помогло. В конце концов они оставили К. лежать как он лег, хотя с первого раза им удалось уложить его лучше, чем теперь. Потом первый господин расстегнул сюртук и вынул из ножен, висевших на поясном ремне поверх жилетки, длинный, тонкий, обоюдоострый нож мясника и, подняв его, проверил на свету, хорошо ли он отточен. Снова начался отвратительный обмен учтивостями: первый подал нож второму через голову К., второй вернул его первому тоже через голову К. И внезапно К. понял, что должен был бы схватить нож, который передавали из рук в руки над его головой, и вонзить его в себя. Но он этого не сделал, только повернул еще не тронутую шею и посмотрел вокруг. Он не смог выполнить свой долг до конца и снять с властей всю работу, но отвечает за эту последнюю ошибку тот, кто отказал ему в последней капле нужной для этого силы. Взгляд его упал на верхний этаж дома, примыкавшего к каменоломне. И как вспыхивает свет, так вдруг распахнулось окно там, наверху, и человек, казавшийся издали, в высоте, слабым и тонким, порывисто наклонился далеко вперед и протянул руки еще дальше. Кто это был? Друг? Просто добрый человек? Сочувствовал ли он? Хотел ли он помочь? (Может быть, забыты еще какие-то аргументы? Несомненно, такие аргументы есть. Конечно, логика неколебима, но перед человеком, который хочет жить, она не устоит. Где судья? Где высокий суд? Я должен говорить. Я воздеваю руки.) Был ли он одинок? Или за ним стояли все? Может быть, все хотели помочь? Может быть, забыты еще какие-нибудь аргументы? Несомненно, такие аргументы существовали, и хотя логика непоколебима, но против человека, который хочет жить, и она устоять не может. Где судья, которого он ни разу не видел? Где высокий суд, куда он так и не попал? К. поднял руки и развел ладони.
Но уже на его горло легли руки первого господина, а второй вонзил ему нож глубоко в сердце и повернул его дважды. Потухшими глазами К. видел, как оба господина у самого его лица, прильнув щекой к щеке, наблюдали за развязкой.
– Как собака, – сказал он так, как будто этому позору суждено было пережить его.
– Значит, меня поручили вам? – спросил он. Оба господина кивнули, и каждый повел рукой с цилиндром в сторону другого. К. признался себе, что ждал не таких посетителей. Он подошел к окну и еще раз посмотрел на темную улицу. На той стороне почти во всех окнах уже было темно, во многих спустили занавеси. В одном из освещенных окон верхнего этажа за решеткой играли маленькие дети, они тянулись друг к другу ручонками, еще не умея встать на ножки.
«Посылают за мной старых отставных актеров, – сказал себе К. и оглянулся, чтобы еще раз удостовериться в этом. – Дешево же они хотят от меня отделаться». К. вдруг обернулся к ним и спросил:
– В каком театре вы играете?
– В театре? – спросил один господин у другого, словно советуясь с ним, и уголки его губ дрогнули. Другой стал гримасничать, как немой, который пытается перебороть свою немощь.
Видно, они не подготовились к вопросам, сказал К. про себя и пошел за своей шляпой.
Оба господина хотели взять К. под руки уже на лестнице, но он сказал:
– Нет, возьмете на улице, я же не больной.
Но у самых ворот они повисли на нем так, как еще ни разу в жизни никто не висел. Притиснув сзади плечо к его плечу и не сгибая локтей, каждый обвил рукой руку К. по всей длине и сжал его кисть заученной, привычной, непреодолимой хваткой. К. шел, выпрямившись, между ними, и все трое так слились в одно целое, что, если бы ударить по одному из них, удар пришелся бы по всем троим. Такая слитность присуща, пожалуй, только неодушевленным предметам.
Под каждым фонарем К. пытался разглядеть своих спутников получше, чем можно было в полутьме его комнаты, хотя это было очень трудно при таком тесном соприкосновении. Может быть, они теноры, подумал он, разглядев их двойные подбородки. Ему были противны их лоснящиеся чистотой физиономии. Казалось, что буквально видишь руку, которая прочистила им углы глаз, вытерла верхнюю губу, выскребла складки на подбородке. (Брови у них были точно наклеенные, они поднимались и опускались не в такт ходьбе.) Разглядев их, К. остановился, и с ним остановились оба господина; они оказались на краю пустой, безлюдной, засаженной кустарником площади.
– Почему это послали именно вас? – крикнул К. скорее нетерпеливо, чем вопросительно. Те явно не знали, что ответить, и ждали, опустив свободную руку, как ждут санитары, когда больной останавливается передохнуть.
– Дальше я не пойду, – сказал К., нащупывая почву.
На это им отвечать не понадобилось, они просто, не ослабляя хватки, попытались сдвинуть К. с места, но он не поддался. «Больше уж мне мои силы не понадобятся, нужно хоть сейчас напрячь их вовсю», – подумал К., и ему вспомнилось, как мухи отдираются от липкой бумаги и при этом отрывают себе ножки. Да, этим господам придется туго.
И тут на маленькой лесенке, которая вела на площадь с улочки, лежавшей внизу, показалась фройляйн Бюрстнер. К. был не совсем уверен, она ли это, хотя сходство было большое. Но для К. не имело никакого значения, была ли то фройляйн Бюрстнер или нет, просто он вдруг осознал всю бессмысленность сопротивления. Ничего героического не будет в том, что он вдруг станет сопротивляться, доставит этим господам лишние хлопоты, попытается в самообороне ощутить напоследок хоть какую-то видимость жизни. Он двинулся с места, и радость, которую он этим доставил обоим господам, отчасти передалась и ему. Они дали ему возможность направлять их шаги, и он направил их в ту же сторону, куда шла перед ним фройляйн Бюрстнер, но не потому, что хотел ее догнать, не потому, что хотел видеть ее подольше, а лишь для того, чтобы не забыть то предзнаменование, которое он в ней увидел. «Единственное, что мне остается сейчас сделать, – сказал он себе, и равномерный шаг его самого и его спутников как бы подкреплял эту мысль, – единственное, что я могу сейчас сделать, – это сохранить до конца ясность ума и суждения. Всегда мне хотелось хватать жизнь в двадцать рук, но далеко не всегда с похвальной целью. И это было неправильно. Неужто и сейчас я покажу, что даже процесс, длившийся целый год, ничему меня не научил? Неужто я так и уйду тупым упрямцем? Неужто про меня потом скажут, что в начале процесса я стремился его окончить, а теперь, в конце, – начать сначала? Нет, не желаю, чтобы так говорили! Я благодарен, что на этом пути мне в спутники даны эти полунемые, бесчувственные люди и что мне предоставлено самому сказать себе все, что нужно».
Между тем фройляйн Бюрстнер уже свернула на боковую улицу, но К. мог теперь обойтись и без нее и отдался на волю своих провожатых. В полном согласии они перешли втроем мост, освещенный луной; оба господина беспрекословно следовали самому малейшему движению К., и когда он повернулся к перилам, оба всем телом повернулись за ним. Вода, переливаясь и дрожа в лунном свете, струилась вокруг маленького острова, где, словно теснясь друг к дружке, густо росли кусты и деревья. Дорожки, усыпанные гравием, – сейчас их не было видно – вели к удобным скамейкам, где К. летом часто отдыхал, позевывая и потягиваясь всем телом.
– А я вовсе и не хотел тут останавливаться, – сказал К. своим спутникам, пристыженный их беспрекословной готовностью.
К. показалось, что за его спиной один мягко упрекнул другого в недогадливости, и они двинулись дальше.
(Они прошли несколько улочек, поднимавшихся в гору, на них стояли на посту или расхаживали полицейские, одни в отдалении, другие совсем близко. Полицейский с густыми усами, положив руку на эфес сабли, доверенной ему государством, двинулся, похоже, в их сторону, к группе, вызвавшей у него подозрения.
– Государство предлагает мне свою помощь! – шепнул К. на ухо одному из провожатых. А что, если я перенесу процесс в сферу действия государственных законов? Может, до того дойдет, что мне придется защищать вас от государства!)
Улицы пошли в гору, кое-где им навстречу попадались полицейские, стоящие на посту или расхаживавшие по мостовой; они проходили то в отдалении, то совсем близко. Один из них, с пышными усами, держа руку на эфесе сабли, словно нарочно подошел вплотную к этой несколько подозрительной группе. Оба господина остановились, полицейский открыл было рот, но тут К. рывком потянул их обоих вперед. На ходу К. то и дело осторожно озирался, чтобы увидеть, не пошел ли полицейский за ними; а когда они завернули от него за угол, К. побежал, и его спутникам пришлось, несмотря на одышку, бежать вместе с ним.
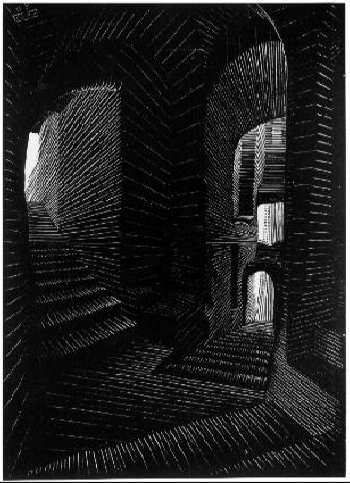
Вскоре они оказались за городом, где сразу, почти без перехода, начинались поля. Небольшая каменоломня, заброшенная и пустая, лежала у здания еще совершенно городского вида. Здесь оба господина остановились: то ли они наметили это место заранее, то ли слишком устали, чтобы бежать дальше. Они отпустили К., молча ожидавшего, что же будет, сняли цилиндры и, оглядывая каменоломню, отерли носовыми платками пот со лба. На всем лежало лунное сияние в том естественном спокойствии, какое ни одному другому свету не присуще.
После обмена вежливыми репликами о том, кому выполнять следующую часть задания, – очевидно, обязанности этих господ точно распределены не были, – один из них подошел к К. и снял с него пиджак, жилетку и, наконец, рубаху. К. невольно вздрогнул от озноба, и господин ободряюще похлопал его по спине. Потом он аккуратно сложил вещи, как будто ими придется воспользоваться, – правда, не в ближайшее время. Чтобы К. не стоял неподвижно в ощутимой ночной прохладе, он взял его под руку и стал ходить с ним взад и вперед, пока второй господин искал в каменоломне подходящее место. Найдя его, тот помахал им рукой, и первый господин подвел К. туда. У самого шурфа лежал отколотый камень. Оба господина посадили К. на землю, прислонили к стене и уложили головой на камень. Но, несмотря на все их усилия, несмотря на то что К. старался как-то им содействовать, его поза оставалась напряженной и неестественной. Поэтому первый господин попросил второго дать ему одному попробовать уложить К. поудобнее, но и это не помогло. В конце концов они оставили К. лежать как он лег, хотя с первого раза им удалось уложить его лучше, чем теперь. Потом первый господин расстегнул сюртук и вынул из ножен, висевших на поясном ремне поверх жилетки, длинный, тонкий, обоюдоострый нож мясника и, подняв его, проверил на свету, хорошо ли он отточен. Снова начался отвратительный обмен учтивостями: первый подал нож второму через голову К., второй вернул его первому тоже через голову К. И внезапно К. понял, что должен был бы схватить нож, который передавали из рук в руки над его головой, и вонзить его в себя. Но он этого не сделал, только повернул еще не тронутую шею и посмотрел вокруг. Он не смог выполнить свой долг до конца и снять с властей всю работу, но отвечает за эту последнюю ошибку тот, кто отказал ему в последней капле нужной для этого силы. Взгляд его упал на верхний этаж дома, примыкавшего к каменоломне. И как вспыхивает свет, так вдруг распахнулось окно там, наверху, и человек, казавшийся издали, в высоте, слабым и тонким, порывисто наклонился далеко вперед и протянул руки еще дальше. Кто это был? Друг? Просто добрый человек? Сочувствовал ли он? Хотел ли он помочь? (Может быть, забыты еще какие-то аргументы? Несомненно, такие аргументы есть. Конечно, логика неколебима, но перед человеком, который хочет жить, она не устоит. Где судья? Где высокий суд? Я должен говорить. Я воздеваю руки.) Был ли он одинок? Или за ним стояли все? Может быть, все хотели помочь? Может быть, забыты еще какие-нибудь аргументы? Несомненно, такие аргументы существовали, и хотя логика непоколебима, но против человека, который хочет жить, и она устоять не может. Где судья, которого он ни разу не видел? Где высокий суд, куда он так и не попал? К. поднял руки и развел ладони.
Но уже на его горло легли руки первого господина, а второй вонзил ему нож глубоко в сердце и повернул его дважды. Потухшими глазами К. видел, как оба господина у самого его лица, прильнув щекой к щеке, наблюдали за развязкой.
– Как собака, – сказал он так, как будто этому позору суждено было пережить его.
Приложение. Сон
(Йозефу К. приснился сон:
День был хороший, и К. решил прогуляться. Не прошел он и двух шагов, как очутился на кладбище. Там были дорожки, извилистые, очень вычурные и нелепые, однако по одной из них он, как по быстрой воде, заскользил вперед, легко и уверенно, ни разу не пошатнувшись. Вдалеке он приметил свежую могилу, возле которой и решил остановиться. Она словно манила К., ему не терпелось поскорей туда добраться. Иногда могила скрывалась из виду, над ней колыхались флаги, полотнища которых извивались и с силой бились друг о друга; было не разглядеть, кто их держит, но, кажется, возле могилы шло радостное ликование.
Глядя туда, вдаль, К. в то же самое время увидел могилу рядом с дорожкой, почти у себя за спиной. Он поспешно соскочил на траву. Дорожка все мчалась вперед, К. потерял равновесие и упал на колени как раз перед могилой. По ту сторону насыпи стояли двое и держали на весу могильный камень; увидев К., они тотчас с силой опустили надгробие, и он точно вросло в землю. Из-за кустов вышел еще один, и К. сразу понял, что это художник. На нем были брюки и кое-как застегнутая рубаха, на голове – бархатная шапочка; он держал в руке карандаш и, подходя, что-то чертил им в воздухе.
Тем же карандашом он начал писать в верхней части надгробия; оно было высоким, художнику не пришлось нагибаться, но, чтобы не наступить на могильный холмик, он должен был со своего места тянуться к камню. Стоя на носках и всем телом подавшись вперед, он левой рукой держался за надгробие. Благодаря какому-то особому приему он выводил золотые буквы самым обычным карандашом; он написал: «Здесь покоится…» Буквы были четки и красивы, вырезаны глубоко и сверкали чистым золотом. Написав эти слова, он оглянулся на К.; тот, нетерпеливо ожидавший, что последует дальше, смотрел только на камень и не обращал внимания на человека. Художник снова принялся за работу, но что-то не заладилось: он опустил карандаш и снова повернулся к К. И К., взглянув на художника, заметил, что он чем-то сильно смущен, но не понимает, в чем дело. Вся его живость вдруг исчезла. Это привело в смущение и К.; они растерянно смотрели друг на друга, ясно было, что случилось какое-то страшное недоразумение, но они не могли его разрешить. В неурочный час зазвонил маленький колокол кладбищенской часовни, но художник замахал рукой, и звон прекратился. Спустя мгновение он вновь зазвонил, на этот раз совсем слабо, и тотчас умолк, без всяких требований, – казалось, он лишь пробовал голос. Неудача художника привела К. в отчаяние, он расплакался и долго всхлипывал, закрыв лицо руками. Художник дождался, пока он успокоится, и, не видя иного выхода, снова взялся за надпись. Первая же черточка, проведенная им, принесла К. избавление, но художник вывел новую букву явно нехотя, против воли, и она вышла не такая красивая – она уже не сверкала золотом, и линии были тусклые, нечеткие, зато буква получилась непомерно большой. Это была буква «Й»; художник почти закончил ее и вдруг яростно топнул ногой, так что с могильной насыпи полетели вверх комья земли. И тогда К. понял его. На извинения уже не осталось времени, К. зарылся пальцами в землю, оказавшуюся очень податливой; казалось, кто-то заранее все подготовил и лишь для виду сверху оставили тонкий слой, под которым зияла яма с отвесными стенками, и, мягко опрокинутый навзничь каким-то течением, К. опустился в нее. И когда он уже лежал там, силясь поднять голову, и был уже принят непостижимой глубиной, наверху его имя ярким мощным росчерком разбежалось по камню.
Восхищенный увиденным, К. проснулся.)
 [19]
[19]
День был хороший, и К. решил прогуляться. Не прошел он и двух шагов, как очутился на кладбище. Там были дорожки, извилистые, очень вычурные и нелепые, однако по одной из них он, как по быстрой воде, заскользил вперед, легко и уверенно, ни разу не пошатнувшись. Вдалеке он приметил свежую могилу, возле которой и решил остановиться. Она словно манила К., ему не терпелось поскорей туда добраться. Иногда могила скрывалась из виду, над ней колыхались флаги, полотнища которых извивались и с силой бились друг о друга; было не разглядеть, кто их держит, но, кажется, возле могилы шло радостное ликование.
Глядя туда, вдаль, К. в то же самое время увидел могилу рядом с дорожкой, почти у себя за спиной. Он поспешно соскочил на траву. Дорожка все мчалась вперед, К. потерял равновесие и упал на колени как раз перед могилой. По ту сторону насыпи стояли двое и держали на весу могильный камень; увидев К., они тотчас с силой опустили надгробие, и он точно вросло в землю. Из-за кустов вышел еще один, и К. сразу понял, что это художник. На нем были брюки и кое-как застегнутая рубаха, на голове – бархатная шапочка; он держал в руке карандаш и, подходя, что-то чертил им в воздухе.
Тем же карандашом он начал писать в верхней части надгробия; оно было высоким, художнику не пришлось нагибаться, но, чтобы не наступить на могильный холмик, он должен был со своего места тянуться к камню. Стоя на носках и всем телом подавшись вперед, он левой рукой держался за надгробие. Благодаря какому-то особому приему он выводил золотые буквы самым обычным карандашом; он написал: «Здесь покоится…» Буквы были четки и красивы, вырезаны глубоко и сверкали чистым золотом. Написав эти слова, он оглянулся на К.; тот, нетерпеливо ожидавший, что последует дальше, смотрел только на камень и не обращал внимания на человека. Художник снова принялся за работу, но что-то не заладилось: он опустил карандаш и снова повернулся к К. И К., взглянув на художника, заметил, что он чем-то сильно смущен, но не понимает, в чем дело. Вся его живость вдруг исчезла. Это привело в смущение и К.; они растерянно смотрели друг на друга, ясно было, что случилось какое-то страшное недоразумение, но они не могли его разрешить. В неурочный час зазвонил маленький колокол кладбищенской часовни, но художник замахал рукой, и звон прекратился. Спустя мгновение он вновь зазвонил, на этот раз совсем слабо, и тотчас умолк, без всяких требований, – казалось, он лишь пробовал голос. Неудача художника привела К. в отчаяние, он расплакался и долго всхлипывал, закрыв лицо руками. Художник дождался, пока он успокоится, и, не видя иного выхода, снова взялся за надпись. Первая же черточка, проведенная им, принесла К. избавление, но художник вывел новую букву явно нехотя, против воли, и она вышла не такая красивая – она уже не сверкала золотом, и линии были тусклые, нечеткие, зато буква получилась непомерно большой. Это была буква «Й»; художник почти закончил ее и вдруг яростно топнул ногой, так что с могильной насыпи полетели вверх комья земли. И тогда К. понял его. На извинения уже не осталось времени, К. зарылся пальцами в землю, оказавшуюся очень податливой; казалось, кто-то заранее все подготовил и лишь для виду сверху оставили тонкий слой, под которым зияла яма с отвесными стенками, и, мягко опрокинутый навзничь каким-то течением, К. опустился в нее. И когда он уже лежал там, силясь поднять голову, и был уже принят непостижимой глубиной, наверху его имя ярким мощным росчерком разбежалось по камню.
Восхищенный увиденным, К. проснулся.)

Процесс «Процесса»: Франц Кафка и его роман-фрагмент
«Книги имеют свою судьбу». Книга Франца Кафки (род. 3 июля 1883 г. – ум. 3 июня 1924 г.) имеют судьбу совершенно особую – и по степени их воздействия на читательскую аудиторию, и по необычности истории их создания, – и по их «как бы» несуществованию они выделяются из многих книжных судеб.
После смерти Франца Кафки в его бумагах были обнаружены две записки, адресованные Максу Броду: одна, вероятнее всего, написана в 1920 г., другая – в ноябре 1922 г. В них Кафка просил предать огню все оставшиеся рукописи: «Все это без исключения должно быть сожжено, и сделать это я прошу тебя как можно скорее».[20] Трудно было найти душеприказчика, менее подходящего на роль инквизитора творческого наследия Кафки, чем Макс Брод (1884–1968), незаурядный писатель, литературный критик и эссеист, который, кроме всего прочего, истово верил в гениальность своего друга и был его неустанным популяризатором и пропагандистом. «Аутодафе» не состоялось и не могло состояться. Уже 17 июля 1924 г. в берлинской газете «Вельтбюне» Брод объявил, что занят подготовкой рукописного наследия Франца Кафки к публикации. Собственно, публикация началась уже с этой статьи: Брод включил в нее два рукописных текста Кафки, те самые записки, которые содержали требование автора уничтожить и предать забвению все или почти все его произведения.
С 1925 по 1934 г. в Берлине и Мюнхене вышли в свет пять книг Франца Кафки (три романа и два сборника малой прозы), а в 1935–1937 гг. в Берлине и Праге появилось шеститомное собрание его сочинений. Имя Кафки, и ранее не оставшееся незамеченным (о нем писали Роберт Музиль, Курт Тухольский, Оскар Вальцель), привлекло внимание Бертольта Брехта, Германа Гессе, Вальтера Беньямина, Томаса Манна, Альфреда Деблина.
Первой книгой, изданной после смерти Кафки, стал роман «Процесс» (1925). Еще в 1919 г. Брод писал другу: «Было бы прекрасно, если бы ты при случае поговорил с Майером (директором издательства „Курт Вольфф“ в Лейпциге. – А. Б.), – он несколько раз заявлял, что если ты напишешь роман, он сделает из него сенсацию. Мне, того и гляди, придется самому „докроить“ твой „Процесс“ до конца.». С 1920 г. рукопись хранилась у Брода. Он выпросил ее у друга, когда работал над эссе «Писатель Франц Кафка», появившимся в ноябре 1921 г. на страницах «Нойе Рундшау», одного из самых значительных немецких литературных журналов того времени.
Готовя книгу к публикации, Брод столкнулся с проблемой, которая во второй половине XX в., когда Кафка станет абсолютной знаменитостью, классиком модернизма, пророком и иконой интеллектуальной элиты, будет непрестанно занимать умы многочисленных исследователей и толкователей австрийского писателя: роман «Процесс» не существовал как некое завершенное целое, а представлял собой «большую кипу бумаг» (Брод). Он не имел окончательного названия,[21] хотя в беседах с другом Кафка в качестве рабочего использовал название «Процесс», подтверждением чему служит литера «П», начертанная автором на конвертах с рукописью. Упоминается это название и в дневниковых записях, и письмах Кафки.
После смерти Франца Кафки в его бумагах были обнаружены две записки, адресованные Максу Броду: одна, вероятнее всего, написана в 1920 г., другая – в ноябре 1922 г. В них Кафка просил предать огню все оставшиеся рукописи: «Все это без исключения должно быть сожжено, и сделать это я прошу тебя как можно скорее».[20] Трудно было найти душеприказчика, менее подходящего на роль инквизитора творческого наследия Кафки, чем Макс Брод (1884–1968), незаурядный писатель, литературный критик и эссеист, который, кроме всего прочего, истово верил в гениальность своего друга и был его неустанным популяризатором и пропагандистом. «Аутодафе» не состоялось и не могло состояться. Уже 17 июля 1924 г. в берлинской газете «Вельтбюне» Брод объявил, что занят подготовкой рукописного наследия Франца Кафки к публикации. Собственно, публикация началась уже с этой статьи: Брод включил в нее два рукописных текста Кафки, те самые записки, которые содержали требование автора уничтожить и предать забвению все или почти все его произведения.
С 1925 по 1934 г. в Берлине и Мюнхене вышли в свет пять книг Франца Кафки (три романа и два сборника малой прозы), а в 1935–1937 гг. в Берлине и Праге появилось шеститомное собрание его сочинений. Имя Кафки, и ранее не оставшееся незамеченным (о нем писали Роберт Музиль, Курт Тухольский, Оскар Вальцель), привлекло внимание Бертольта Брехта, Германа Гессе, Вальтера Беньямина, Томаса Манна, Альфреда Деблина.
Первой книгой, изданной после смерти Кафки, стал роман «Процесс» (1925). Еще в 1919 г. Брод писал другу: «Было бы прекрасно, если бы ты при случае поговорил с Майером (директором издательства „Курт Вольфф“ в Лейпциге. – А. Б.), – он несколько раз заявлял, что если ты напишешь роман, он сделает из него сенсацию. Мне, того и гляди, придется самому „докроить“ твой „Процесс“ до конца.». С 1920 г. рукопись хранилась у Брода. Он выпросил ее у друга, когда работал над эссе «Писатель Франц Кафка», появившимся в ноябре 1921 г. на страницах «Нойе Рундшау», одного из самых значительных немецких литературных журналов того времени.
Готовя книгу к публикации, Брод столкнулся с проблемой, которая во второй половине XX в., когда Кафка станет абсолютной знаменитостью, классиком модернизма, пророком и иконой интеллектуальной элиты, будет непрестанно занимать умы многочисленных исследователей и толкователей австрийского писателя: роман «Процесс» не существовал как некое завершенное целое, а представлял собой «большую кипу бумаг» (Брод). Он не имел окончательного названия,[21] хотя в беседах с другом Кафка в качестве рабочего использовал название «Процесс», подтверждением чему служит литера «П», начертанная автором на конвертах с рукописью. Упоминается это название и в дневниковых записях, и письмах Кафки.
