— Хорошо, мама.
Я удалилась к себе. Мама вошла следом:
— Что мне с тобой делать, Маша?
— Мама, а тебе не кажется, что ты всю жизнь любишь другого? — спросила я.
— Что? — Она побледнела.
— Живешь с папой, а любишь другого. Всю жизнь.
— Ты с ума сошла, — пробормотала она и вышла.
Я слышала, как быстрым и легким шагом своим она убегает по коридору, повторяя со всхлипом: «Маша с ума сошла...»
1.30. Не сплю. Аня ко мне приходила. Залезла в постель, стала обнимать и спрашивать: «Маш, ты чего?» Я заплакала. Она заплакала тоже, ударяла меня острым кулачком, приговаривала: «Старшая сестра, старшая сестра...» Я вытерла ей глаза, поцеловала. Еле спровадила. Дневник мой, дневник, можно ли так терзаться?..
8 сентября. Суббота
9 сентября. Воскресенье
10 сентября. Понедельник
11 сентября. Вторник
12 сентября. Среда
13 сентября. Четверг
14 сентября. Пятница
РАССКАЗ Г-НА БЛЮТНЕРА, МУЗЫКАНТА
15 сентября. Суббота
16 сентября. Воскресенье
17 сентября. Понедельник
18-26 сентября
Я удалилась к себе. Мама вошла следом:
— Что мне с тобой делать, Маша?
— Мама, а тебе не кажется, что ты всю жизнь любишь другого? — спросила я.
— Что? — Она побледнела.
— Живешь с папой, а любишь другого. Всю жизнь.
— Ты с ума сошла, — пробормотала она и вышла.
Я слышала, как быстрым и легким шагом своим она убегает по коридору, повторяя со всхлипом: «Маша с ума сошла...»
1.30. Не сплю. Аня ко мне приходила. Залезла в постель, стала обнимать и спрашивать: «Маш, ты чего?» Я заплакала. Она заплакала тоже, ударяла меня острым кулачком, приговаривала: «Старшая сестра, старшая сестра...» Я вытерла ей глаза, поцеловала. Еле спровадила. Дневник мой, дневник, можно ли так терзаться?..
8 сентября. Суббота
Разговор с дедушкой. Показал новые книги от господина Брунинка, одну подарил.
— Так, так. А что же наши «этюды»?
Я принесла блокнот. Он полистал.
— Хорошо, почитаю.
Лучше бы не читал ты, дедушка. Там у меня аккуратно выписаны самые известные места из Тургенева, Гоголя. Например, «чуден Днепр при тихой погоде...». В конце концов, и это полезно. Я переписывала, изучала стиль, старалась не делать ошибок. Почерк вырабатывала, в конце концов. Благодаря этому начинанию я перечитала кое-что из «Записок охотника» и многое из третьего тома Собрания сочинений Николая Васильевича Гоголя. Есть и две фразы из Пушкина. «Я приближался к месту своего назначения» и «Гости съезжались на дачу». Весьма короткие, изящные сочинения.
— А что же с нашим кружком? — спросил дедушка. — Быть может, ты передумала поступать?
— Нет, — пробормотала я.
— Надо работать, — сказал он.
Еще говорил о чем-то. Прямо не распекал. Мое «поведение» ему известно, но он выжидает, хочет понять, в чем дело. Дедушка очень умен.
Читаю, перечитываю дневник. Это история наших отношений. Что же было меж нами? Тут есть загадки. Когда сказала, что собираюсь поступать в университет, он усмехнулся. «В университет? Скажете, что еще на исторический факультет». — «Как вы догадались?» — спросила я. «На исторический факультет — это прекрасно!» — сказал он язвительно. А в самом деле, как догадался? И рассказы о ней. Со мной много сходного. «Девушка живет в большой дружной семье...» Да, видно, многое повторяется в жизни.
— Так, так. А что же наши «этюды»?
Я принесла блокнот. Он полистал.
— Хорошо, почитаю.
Лучше бы не читал ты, дедушка. Там у меня аккуратно выписаны самые известные места из Тургенева, Гоголя. Например, «чуден Днепр при тихой погоде...». В конце концов, и это полезно. Я переписывала, изучала стиль, старалась не делать ошибок. Почерк вырабатывала, в конце концов. Благодаря этому начинанию я перечитала кое-что из «Записок охотника» и многое из третьего тома Собрания сочинений Николая Васильевича Гоголя. Есть и две фразы из Пушкина. «Я приближался к месту своего назначения» и «Гости съезжались на дачу». Весьма короткие, изящные сочинения.
— А что же с нашим кружком? — спросил дедушка. — Быть может, ты передумала поступать?
— Нет, — пробормотала я.
— Надо работать, — сказал он.
Еще говорил о чем-то. Прямо не распекал. Мое «поведение» ему известно, но он выжидает, хочет понять, в чем дело. Дедушка очень умен.
Читаю, перечитываю дневник. Это история наших отношений. Что же было меж нами? Тут есть загадки. Когда сказала, что собираюсь поступать в университет, он усмехнулся. «В университет? Скажете, что еще на исторический факультет». — «Как вы догадались?» — спросила я. «На исторический факультет — это прекрасно!» — сказал он язвительно. А в самом деле, как догадался? И рассказы о ней. Со мной много сходного. «Девушка живет в большой дружной семье...» Да, видно, многое повторяется в жизни.
9 сентября. Воскресенье
С утра позвал меня дедушка. Вручил блокнот.
— Благодарю. Ты хорошо изучила стиль классиков. Не отличишь.
Я промолчала. В глазах его мелькнула боль.
— Иди.
Какая я все-таки дрянь! Ломаю комедию. На ближних все вымещаю. Только папа спокоен, пишет свою диссертацию. Просил меня сверить цитаты из Пушкина. Сидела, сверяла. После обеда пойдем в кино.
...20.10. Смотрели в «Повторном» «Андрея Рублева». Ужасно мрачно. Вот она, наша история. Совсем не такая, какую проходим в школе. И где же правда, в картине или учебнике? Я после фильма взялась за «Историю Нидерландской революции». Интересно дедушка пишет, но тоже все мрачно. Испанцы в Голландии потрошили младенцев, а гезы вырезали сердца у испанцев. И этим всем я должна заниматься. В истории столько крови! Нет, уж я лучше буду сидеть за кульманом в обыкновенном КБ.
22.30. Окончилось все так, как начиналось. И на губах осталось только малость. Да, на губах осталось. Губы его до сих пор ощущаю. Теперь я знаю, каким был тот первый поцелуй. Он был мягким и осторожным. Он упал в меня наподобие холодящего мятного шарика и блуждает внутри до сих пор. То к самым губам подкатит, то сердце тронет, и тогда оно сильно бьется. Поцелуй живет во мне сам по себе. Иногда начинает мучить и жечь, требовать повторения. Но повторить его невозможно. Я не хочу любить, не хочу. Я поняла, что это ужасно. Только к малой любви судьба благосклонна. К большой — никогда. Почему в настоящей любви не бывает благополучия? Кончается все трагично. Зачем же любить тогда? Чтобы погибнуть, как Ромео с Джульеттой? Как Глан и Гетсби, как Жюльен Сорель и Анна Каренина? Надо жить, а значит, любить не надо. Целуйтесь, флиртуйте, играйте в любовь, но гоните прочь Любовь Настоящую. Она вас погубит, отравит, сведет в могилу. Я знаю, что ничего в моей жизни больше не будет. Только это лето. А мне ведь всего шестнадцать. Вот вам большая любовь...
— Благодарю. Ты хорошо изучила стиль классиков. Не отличишь.
Я промолчала. В глазах его мелькнула боль.
— Иди.
Какая я все-таки дрянь! Ломаю комедию. На ближних все вымещаю. Только папа спокоен, пишет свою диссертацию. Просил меня сверить цитаты из Пушкина. Сидела, сверяла. После обеда пойдем в кино.
...20.10. Смотрели в «Повторном» «Андрея Рублева». Ужасно мрачно. Вот она, наша история. Совсем не такая, какую проходим в школе. И где же правда, в картине или учебнике? Я после фильма взялась за «Историю Нидерландской революции». Интересно дедушка пишет, но тоже все мрачно. Испанцы в Голландии потрошили младенцев, а гезы вырезали сердца у испанцев. И этим всем я должна заниматься. В истории столько крови! Нет, уж я лучше буду сидеть за кульманом в обыкновенном КБ.
22.30. Окончилось все так, как начиналось. И на губах осталось только малость. Да, на губах осталось. Губы его до сих пор ощущаю. Теперь я знаю, каким был тот первый поцелуй. Он был мягким и осторожным. Он упал в меня наподобие холодящего мятного шарика и блуждает внутри до сих пор. То к самым губам подкатит, то сердце тронет, и тогда оно сильно бьется. Поцелуй живет во мне сам по себе. Иногда начинает мучить и жечь, требовать повторения. Но повторить его невозможно. Я не хочу любить, не хочу. Я поняла, что это ужасно. Только к малой любви судьба благосклонна. К большой — никогда. Почему в настоящей любви не бывает благополучия? Кончается все трагично. Зачем же любить тогда? Чтобы погибнуть, как Ромео с Джульеттой? Как Глан и Гетсби, как Жюльен Сорель и Анна Каренина? Надо жить, а значит, любить не надо. Целуйтесь, флиртуйте, играйте в любовь, но гоните прочь Любовь Настоящую. Она вас погубит, отравит, сведет в могилу. Я знаю, что ничего в моей жизни больше не будет. Только это лето. А мне ведь всего шестнадцать. Вот вам большая любовь...
10 сентября. Понедельник
Был урок на летнюю тему. Нина Петровна читала отрывки из сочинений. Одни написали хохму, другие глупость, третьи добросовестный отчет. На перемене Нина Петровна подозвала меня:
— Подожди после уроков, вместе пойдем домой.
Как она модно одета. Еще молода и красива.
Мне нравится Нина Петровна. У нее черные как смоль волосы и глаза черные тоже, что называется, жгучие. Лицо тонкое. И вся она тонкая, изящная, высокая.
Пошли на бульвар, посидели на лавке. Она отдала мне тетрадь с сочинением:
— Как понимаешь, читать я его не могла.
Вытащила сигареты, закурила:
— Ты знаешь, Маша, мне всегда была интересна ваша семья. Книжки твоего деда читаю, слог хороший. Он мог бы писать романы.
Помолчали.
— Одного не понимаю, чего ты хотела добиться этим пассажем?
— Сама не знаю... — пробормотала я.
— Прочел бы еще кто-то. Можешь себе представить?
— Могу...
Молчание.
— Пользы от этих выходок нет. Если что-то случилось, лучше в себе пережить, не трепать нервы ближним.
Она курила быстрыми, нервными затяжками.
— Меня не это сочинение беспокоит. Когда увидела тебя, поразилась. Ты так переменилась за это лето. Где прежняя Маша? У тебя отчужденный вид, тоска в глазах. Что же случилось?
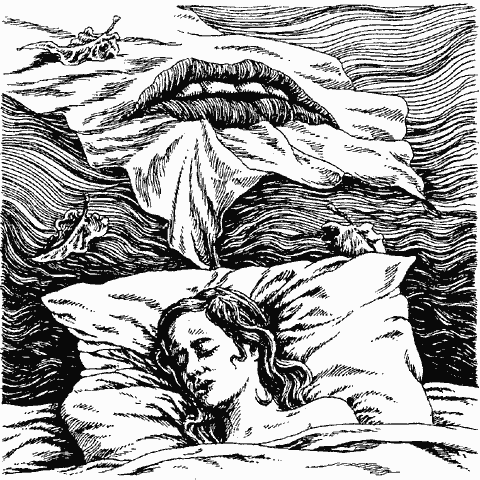 — Не надо, — быстро сказала я. — Не расспрашивайте, Нина Петровна.
— Не надо, — быстро сказала я. — Не расспрашивайте, Нина Петровна.
— Иногда легче выговориться.
— Не надо, — твердила я, а из глаз уже слезы катились.
— Хочешь закурить? — внезапно спросила она. — Это успокаивает.
И я курила крепкую сигарету, правда, в себя не вдыхала. Она засмеялась, показав красивые ровные зубы:
— Вот бы увидел директор! Учительница с ученицей покуривают на бульваре.
— А почему вы не уехали за границу? — спросила я.
Она только махнула рукой:
— Мне и ехать-то совсем не хотелось.
— Но там интересно.
— Да, интересно... — Больше объяснять не стала.
Поговорили немного о школьных делах. Из класса ей больше всех нравятся Виталик Панков, Лена Корф и Лиза Потехина.
Сидела и думала, что я дрянь. Ведь понимала, что дальше Нины Петровны сочинение мое не пойдет. Тоже мне бунт. Ничего другого, кроме хорошего разговора с понимающим человеком, не ожидала. А внешне целая фронда. Увы, на истинную фронду я не способна.
Внезапно спросила:
— Вы любили кого-нибудь?
Она пожала плечами:
— Почему же нет.
— А сейчас любите?
Она сделалась серьезной. Вытащила еще одну сигарету, щелкнула зажигалкой.
— Я знаю, почему вам не хочется отвечать на этот вопрос.
— Почему?
— Потому что сейчас не любите. Любили, разочаровались, а теперь никого не любите.
Она посмотрела на меня внимательно:
— Уж не влюбилась ли ты?
— Нет, — ответила я.
— А на мой счет ты ошиблась.
— Вы любите? Тогда, разумеется, мужа.
Молчит, улыбается, смотрит мне прямо в глаза:
— Мне кажется, и ты любишь, Маша. Тех, кто любит, можно узнать по глазам.
— Вы счастливы, Нина Петровна?
Она вздохнула:
— Что же тебе сказать? Я счастлива и несчастлива... Терпи, Маша, все будет хорошо. Ты очень юна. Все будет хорошо, Маша...
Эта встреча немножко меня оживила. Я потом еще прошлась по бульвару, разглядывала старушек, детей, собак. Удивительные все же существа старушки, собаки и дети. Вот старенький пудель схватил в зубы дырявый мячик и, счастливый, семенит за хозяином. Старушка сидит с вязаньем. Бросит взгляд на испещренную солнечными пятнами дорожку, улыбнется и снова вяжет. А детишки, те и вовсе бессмысленно копаются в песке, но довольны, веселы. Так мало всем нужно! И вот уже весь бульвар налит до краев довольством и покоем. Щебечут птицы, щебечут дети, воркуют старушки, собаки радостно лают. А ты, Маша Молчанова, бредешь со своею тоской, со своим несчастьем. И сколько это продлится, боже ты мой...
— Подожди после уроков, вместе пойдем домой.
Как она модно одета. Еще молода и красива.
Мне нравится Нина Петровна. У нее черные как смоль волосы и глаза черные тоже, что называется, жгучие. Лицо тонкое. И вся она тонкая, изящная, высокая.
Пошли на бульвар, посидели на лавке. Она отдала мне тетрадь с сочинением:
— Как понимаешь, читать я его не могла.
Вытащила сигареты, закурила:
— Ты знаешь, Маша, мне всегда была интересна ваша семья. Книжки твоего деда читаю, слог хороший. Он мог бы писать романы.
Помолчали.
— Одного не понимаю, чего ты хотела добиться этим пассажем?
— Сама не знаю... — пробормотала я.
— Прочел бы еще кто-то. Можешь себе представить?
— Могу...
Молчание.
— Пользы от этих выходок нет. Если что-то случилось, лучше в себе пережить, не трепать нервы ближним.
Она курила быстрыми, нервными затяжками.
— Меня не это сочинение беспокоит. Когда увидела тебя, поразилась. Ты так переменилась за это лето. Где прежняя Маша? У тебя отчужденный вид, тоска в глазах. Что же случилось?
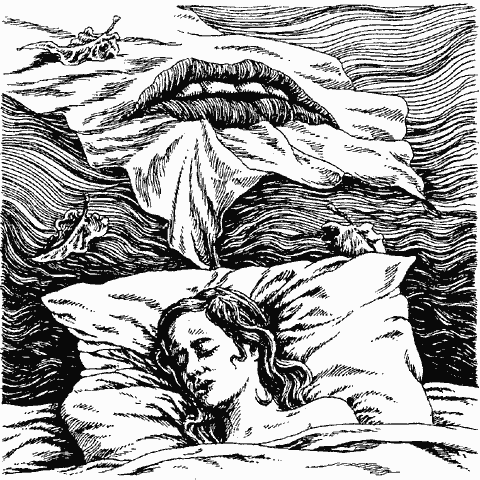
— Иногда легче выговориться.
— Не надо, — твердила я, а из глаз уже слезы катились.
— Хочешь закурить? — внезапно спросила она. — Это успокаивает.
И я курила крепкую сигарету, правда, в себя не вдыхала. Она засмеялась, показав красивые ровные зубы:
— Вот бы увидел директор! Учительница с ученицей покуривают на бульваре.
— А почему вы не уехали за границу? — спросила я.
Она только махнула рукой:
— Мне и ехать-то совсем не хотелось.
— Но там интересно.
— Да, интересно... — Больше объяснять не стала.
Поговорили немного о школьных делах. Из класса ей больше всех нравятся Виталик Панков, Лена Корф и Лиза Потехина.
Сидела и думала, что я дрянь. Ведь понимала, что дальше Нины Петровны сочинение мое не пойдет. Тоже мне бунт. Ничего другого, кроме хорошего разговора с понимающим человеком, не ожидала. А внешне целая фронда. Увы, на истинную фронду я не способна.
Внезапно спросила:
— Вы любили кого-нибудь?
Она пожала плечами:
— Почему же нет.
— А сейчас любите?
Она сделалась серьезной. Вытащила еще одну сигарету, щелкнула зажигалкой.
— Я знаю, почему вам не хочется отвечать на этот вопрос.
— Почему?
— Потому что сейчас не любите. Любили, разочаровались, а теперь никого не любите.
Она посмотрела на меня внимательно:
— Уж не влюбилась ли ты?
— Нет, — ответила я.
— А на мой счет ты ошиблась.
— Вы любите? Тогда, разумеется, мужа.
Молчит, улыбается, смотрит мне прямо в глаза:
— Мне кажется, и ты любишь, Маша. Тех, кто любит, можно узнать по глазам.
— Вы счастливы, Нина Петровна?
Она вздохнула:
— Что же тебе сказать? Я счастлива и несчастлива... Терпи, Маша, все будет хорошо. Ты очень юна. Все будет хорошо, Маша...
Эта встреча немножко меня оживила. Я потом еще прошлась по бульвару, разглядывала старушек, детей, собак. Удивительные все же существа старушки, собаки и дети. Вот старенький пудель схватил в зубы дырявый мячик и, счастливый, семенит за хозяином. Старушка сидит с вязаньем. Бросит взгляд на испещренную солнечными пятнами дорожку, улыбнется и снова вяжет. А детишки, те и вовсе бессмысленно копаются в песке, но довольны, веселы. Так мало всем нужно! И вот уже весь бульвар налит до краев довольством и покоем. Щебечут птицы, щебечут дети, воркуют старушки, собаки радостно лают. А ты, Маша Молчанова, бредешь со своею тоской, со своим несчастьем. И сколько это продлится, боже ты мой...
11 сентября. Вторник
Нужно поехать на дачу. Вдруг он вернулся туда? Что-то случилось, на встречу прийти не смог. Телефон Потехиной потерял. Погода теплая, и он вполне мог туда заглянуть, оставить хотя бы записку. Завтра попробую совершить вояж. Опять надо врать, придумывать. Но отношения с домашними сейчас таковы, что любое вранье неуместно. Все ходят с мрачными лицами, осуждающе смотрят, хотя, вероятно, в «верхах» принято решение оставить меня в покое. Решение весьма уместное. Разговоры сейчас ни к чему. Дима звонил и обещал прийти в гости. Я, впрочем, не слишком усердно звала. Он, кажется, понял, но Аня выхватила трубку и уговорила прийти. В школе подошла ко мне Лена Корф и спросила: «Маша, что с тобой происходит?» И Лена туда же.
12 сентября. Среда
Снова Панков приснился. Такой теплый сон. Мы с ним гуляли по парку, катались на лодке. Он держал меня за руку и что-то ласково говорил. Я хотела ему рассказать, пожаловаться, но стала плакать. Так и проснулась в слезах. Теперь у меня все время глаза на мокром месте. Днем я креплюсь, а ночью лягу в постель и тотчас извергаю потоки слез. Правда, это облегчает. Что-то размягчается внутри, вытекает вместе со слезами. У меня проблема с платками. Приходится брать полотенце. Через полчаса рыданий, сморканий оно превращается в мокрую тряпку. И смех и грех! Пробуждение по-прежнему самый тяжелый момент. За ночь страдание накапливается и утром разливается по всему телу, по комнате. Смотрю вытаращенными глазами в потолок и не понимаю, зачем мне вставать, куда идти, что делать. Все кажется бессмысленным.
Я говорила:
— Знаешь, Виталик, как трудно. Если бы ты знал, Виталик.
А он меня успокаивал и руку сжимал.
Боже мой, кто только не снится. И Томас Глан, и Владимир, и Виталий Панков, а онеще ни разу не приходил в мои сны. Это, конечно, означает одно: он забыл обо мне, разлюбил и ночной ветерок не влечет его думы в бедную мою обитель. В бедную мою обитель. Ха! Я теперь понимаю, почему уходили в монастырь. Там находили успокоение. А где найти успокоение мне?
Я говорила:
— Знаешь, Виталик, как трудно. Если бы ты знал, Виталик.
А он меня успокаивал и руку сжимал.
Боже мой, кто только не снится. И Томас Глан, и Владимир, и Виталий Панков, а онеще ни разу не приходил в мои сны. Это, конечно, означает одно: он забыл обо мне, разлюбил и ночной ветерок не влечет его думы в бедную мою обитель. В бедную мою обитель. Ха! Я теперь понимаю, почему уходили в монастырь. Там находили успокоение. А где найти успокоение мне?
13 сентября. Четверг
Сегодня была на даче.
Не стала ничего придумывать, просто села в электричку и поехала. А в школу не пошла. Так в школьной форме с портфелем и отправилась.
К даче подходила, ноги дрожали. Но там его не было. Открыла пустой дом, вошла. Запах совсем нежилой. Да, конечно, с тех пор не появлялся. Господин Блютнер подремывал в углу. Не стала его будить. Села в кресло и так просидела час, глядя в окно невидящим взором.
Что же делать? Решилась на смелый шаг. Пошла в дачную контору, нашла сторожиху тетю Фросю. Она весьма удивилась:
— Чего приехала?
Стала врать, что забыла книги. Поговорили о погоде и «видах на урожай». Тетя Фрося извлекла бутылку портвейна.
— Небось не пьешь.
— Пью, тетя Фрося.
— Ну так... — налила мне в стакан.
Я сделала глоток, завела разговор про Черную дачу:
— Кажется, летом кого-то видела.
— Окна забиты, на двери замок, а ключи у Палыча — ответствовала тетя Фрося. — Кого ты видала?
— Человек жил на даче, там и сейчас дверь открыта.
— Ни черта! — сказала тетя Фрося. — На что я тут поставлена?
Мы с ней заспорили и отправились проверять. Каково же было мое изумление, когда на двери Черной дачи обнаружился здоровенный замок, а ставни были закрыты.
— Ну, — говорит тетя Фрося, — на что я тут поставлена?
Стою ни жива ни мертва, лоб покрылся испариной.
Кое-как распрощалась и бежать. Что это значит? Он был только что, успел закрыть, ставни и дом запереть? Помчалась на станцию, вдруг догоню? Но электричка с воем уносилась от платформы. Упала на лавку обессиленная. Решила вернуться, оставить записку, вдруг еще раз наведается. Еле доплелась, вхожу на участок, приближаюсь к дому и, боже ты мой, еще издали вижу, что ставни опять открыты, на двери нет замка!
Ломала себе голову, осматривалась. Как же так? Что происходит? Или я с ума сошла, или дом этот спятил, если сам по себе может открыться, закрыться, на небо взлететь...
22.30. Поздний вечер. До сих пор в голове ералаш, на сердце муторно. Ничего не понимаю. Какое-то объяснение существует, быть может, весьма простое. Например, тот же Палыч пользуется дачей, уходит, приходит, вешает замок, снимает. По стечению обстоятельств я с ним не столкнулась. Поездка нехорошо взбудоражила меня. В то время как нужно стараться забыть, я травлю себя, сыплю на раны соль. В конце концов он в той же конторе мог узнать телефон и позвонить мне домой. Профессор Домбровский не иголка. А где Домбровский, там и его внучка. Нет, он просто не хочет видеть меня. Да и понятно. Если обручаться раздумал, зачем я ему нужна. А тав больнице. Он человек мягкий, добрый. Полон сострадания. А кроме того, далеко к ней не безразличен. Он снова любит ее, теперь я ему не нужна. Да, ты не нужна ему, Маша. Ты совершенно ему не нужна. Зря мучаешь себя и домашних.
 Со школой обошлось. Никто не звонил, а завтра скажу, что болела. Спокойной ночи, дневник. Хоть ты отдохни. Всего тебя истерзала, слезами облила. Подожди, я еще не чернилами, кровью своей буду писать.
Со школой обошлось. Никто не звонил, а завтра скажу, что болела. Спокойной ночи, дневник. Хоть ты отдохни. Всего тебя истерзала, слезами облила. Подожди, я еще не чернилами, кровью своей буду писать.
Не стала ничего придумывать, просто села в электричку и поехала. А в школу не пошла. Так в школьной форме с портфелем и отправилась.
К даче подходила, ноги дрожали. Но там его не было. Открыла пустой дом, вошла. Запах совсем нежилой. Да, конечно, с тех пор не появлялся. Господин Блютнер подремывал в углу. Не стала его будить. Села в кресло и так просидела час, глядя в окно невидящим взором.
Что же делать? Решилась на смелый шаг. Пошла в дачную контору, нашла сторожиху тетю Фросю. Она весьма удивилась:
— Чего приехала?
Стала врать, что забыла книги. Поговорили о погоде и «видах на урожай». Тетя Фрося извлекла бутылку портвейна.
— Небось не пьешь.
— Пью, тетя Фрося.
— Ну так... — налила мне в стакан.
Я сделала глоток, завела разговор про Черную дачу:
— Кажется, летом кого-то видела.
— Окна забиты, на двери замок, а ключи у Палыча — ответствовала тетя Фрося. — Кого ты видала?
— Человек жил на даче, там и сейчас дверь открыта.
— Ни черта! — сказала тетя Фрося. — На что я тут поставлена?
Мы с ней заспорили и отправились проверять. Каково же было мое изумление, когда на двери Черной дачи обнаружился здоровенный замок, а ставни были закрыты.
— Ну, — говорит тетя Фрося, — на что я тут поставлена?
Стою ни жива ни мертва, лоб покрылся испариной.
Кое-как распрощалась и бежать. Что это значит? Он был только что, успел закрыть, ставни и дом запереть? Помчалась на станцию, вдруг догоню? Но электричка с воем уносилась от платформы. Упала на лавку обессиленная. Решила вернуться, оставить записку, вдруг еще раз наведается. Еле доплелась, вхожу на участок, приближаюсь к дому и, боже ты мой, еще издали вижу, что ставни опять открыты, на двери нет замка!
Ломала себе голову, осматривалась. Как же так? Что происходит? Или я с ума сошла, или дом этот спятил, если сам по себе может открыться, закрыться, на небо взлететь...
22.30. Поздний вечер. До сих пор в голове ералаш, на сердце муторно. Ничего не понимаю. Какое-то объяснение существует, быть может, весьма простое. Например, тот же Палыч пользуется дачей, уходит, приходит, вешает замок, снимает. По стечению обстоятельств я с ним не столкнулась. Поездка нехорошо взбудоражила меня. В то время как нужно стараться забыть, я травлю себя, сыплю на раны соль. В конце концов он в той же конторе мог узнать телефон и позвонить мне домой. Профессор Домбровский не иголка. А где Домбровский, там и его внучка. Нет, он просто не хочет видеть меня. Да и понятно. Если обручаться раздумал, зачем я ему нужна. А тав больнице. Он человек мягкий, добрый. Полон сострадания. А кроме того, далеко к ней не безразличен. Он снова любит ее, теперь я ему не нужна. Да, ты не нужна ему, Маша. Ты совершенно ему не нужна. Зря мучаешь себя и домашних.

14 сентября. Пятница
Молчание, молчание. Silentium
*. Мысль изреченная есть ложь. Зачем говорить? Мысль изреченная есть ложь. Сегодня на физике молчала. Вызвали к доске, но я молча глядела в окно.
— Не знаешь? — спросила Марина Афанасьевна.
Молчала.
— Уж если Молчанова не знает, кого спрашивать?
Не надо спрашивать. Только не надо спрашивать. Мысль изреченная есть ложь. Я не знаю. Я ничего не знаю. Я знаю закон Кулона, но это бессмысленный закон. Есть и другие законы, но все они ложны. И только закон Молчановой единственно верен. Молчание, молчание. Silentium! Вот мой закон.
— Садись, — сказала она.
Молчание, молчание. Silentium. Эй, Панков, ты что-то хотел спросить? Не надо спрашивать. Молчание. И вы за окном молчите, отбойные молотки, терзающие школьный асфальт. И вы замолчите, птицы. Молчи, Лена Корф, Сережа Атаров, молчи. Давайте молчать, ребята. Говорить могут только немые. Вот господин Блютнер, попросим его сказать. Поведайте нам свою жизнь, немой музыкант.
— Не знаешь? — спросила Марина Афанасьевна.
Молчала.
— Уж если Молчанова не знает, кого спрашивать?
Не надо спрашивать. Только не надо спрашивать. Мысль изреченная есть ложь. Я не знаю. Я ничего не знаю. Я знаю закон Кулона, но это бессмысленный закон. Есть и другие законы, но все они ложны. И только закон Молчановой единственно верен. Молчание, молчание. Silentium! Вот мой закон.
— Садись, — сказала она.
Молчание, молчание. Silentium. Эй, Панков, ты что-то хотел спросить? Не надо спрашивать. Молчание. И вы за окном молчите, отбойные молотки, терзающие школьный асфальт. И вы замолчите, птицы. Молчи, Лена Корф, Сережа Атаров, молчи. Давайте молчать, ребята. Говорить могут только немые. Вот господин Блютнер, попросим его сказать. Поведайте нам свою жизнь, немой музыкант.
РАССКАЗ Г-НА БЛЮТНЕРА, МУЗЫКАНТА
Я родился в городе Вене в 1863 году. Родители дали мне сносное воспитание, кое-какие средства, и жил я в свое удовольствие. Однажды я засиделся у друзей допоздна и оказался ночью на улице. Поднялась пурга, сбила фонарь. Стало совершенно темно и холодно. Жил я в другом конце города, идти по глубокому снегу было бы трудно. Я призадумался. Внезапно к тротуару подкатил роскошный автомобиль, и господин за рулем предложил отвезти меня прямо домой. Это был молодой граф Д., известный всему городу меломан, меценат и т. д. и т. п. Граф Д. поведал, что сразу меня узнал, и спросил, не могу ли я обучить его игре на инструменте клавианиссим, ибо только на этом инструменте он считает подобающим играть в присутствии некой Марии. Я отвечал, что инструмента клавианиссима не существует в природе, но граф возражал и убедительно просил меня заняться его созданием, показывал какие-то чертежи.
С тех пор я не знал покоя. Идея графа взбудоражила меня. Дни и ночи я трудился над созданием клавианиссима. Что же касается графа, то с ним случилась беда. Мария куда-то исчезла, и граф носился по Вене с одним вопросом: «Не встречали Марию?»
Время шло. Я несколько раз менял местожительство, занимался своим клавианиссимом, и ничего другого мне не было нужно. Довелось мне опять встретить графа. Был уже нынешний век. Я засиделся у друзей и поздно ночью оказался на улице. Поднялась пурга, сбила лампу дневного света. Стало совершенно темно и холодно. Машины скользили мимо, не обращая на меня никакого внимания. Я призадумался. Внезапно к тротуару подкатила карета, запряженная парой гнедых. Дверь открылась, и меня поманили внутрь. Я полез, не раздумывая, в карету и увидел постаревшего графа Д. Он предложил подвезти меня прямо к дому и спросил: «Не встречали Марию?» Я покачал головой. «А что же клавианиссим?» Я рассказал, что работа идет к концу. «Я жду, — сказал граф. — Так вы не встречали Марию?» Я вновь покачал головой. На этом мы и расстались.
Шло время. Я постарел, и мир постарел порядочно. Уже не было ни городов, ни дорог, а все какие-то обломки, обрывки. Я изготовил семнадцать тысяч струн для инструмента клавианиссима, не хватало лишь нескольких сотен. А надо сказать, работа была весьма тонкой. Каждую струну приходилось плести из лунного света, пенья топрабанских дроздов, запаха травы остротела и еще двадцати семи компонентов, среди которых встречались и весьма прозаические, например молибден и ванадий.
Однажды я засиделся у друзей на каком-то обломке и ночью оказался в пустоте. Поднялась пурга, сбила звезду. Стало совершенно темно и холодно. Я призадумался. Вдали показался старик. Он шагал прямо по воздуху, помахивая посохом. «Не встречали Марию?» — спросил он меня. И тут я ответил: «Встречал». Ведь только что я видел Марию у своих друзей. Я указал старику на обломок планеты и стоящий посередине домик, но он не придал моим словам никакого значения и снова спросил: «Не встречали Марию?» Я отвечал, что недавно беседовал с ней, и опять указал на домик, но он ушел по воздуху, бормоча себе под нос: «Не встречали Марию?»
Время уже не шло. Время остановилось. Я доживал свой век на заброшенной даче, а вокруг ничего уже не было. Ни городов, ни дорог, ни обломков, даже воздуха не было. Звезды истлели до пепла. Я как раз прилаживал последнюю струну к стеклянной деке клавианиссима. Внезапно открылась дверь моей дачи и вошел странно помолодевший граф Д. Тут же открылась противоположная дверь и вбежала Мария. Они с криком бросились друг к другу. Они так кричали и плакали, что у меня заболело сердце. «Где ты была? Где ты была?» — кричал он. «Любимый, любимый!» — кричала она. Я сел за клавианиссим и начал играть. И тут я увидел, что звезды стали падать серебряным порошком. Порошок сыпался в окна, облекая тела возлюбленных, и они застыли, превратившись в серебряные изваяния. А я играл. И на меня сыпался звездный пепел. Мне стало так хорошо, свежо и прохладно. Необыкновенные звуки пробудили во мне воспоминание. Я вспомнил детство и девочку в белом платье, которую очень любил. У нее было белое платье, белые гольфы и теннисная ракетка в руках. Я вспомнил, что очень ее любил. Господи, ведь я тоже любил когда-то. И почему я не сделал признания, почему не сказал слова любви? Ведь я тоже мог ходить за ней по свету, называть Единственной, целовать следы ее маленьких туфель, дарить цветы и ракетки. И я играл, играл, а звездный пепел сыпался на меня, и я сам становился серебряным изваянием. Все, что я мог еще вспомнить, — это белое платье, белое платье...
С тех пор я не знал покоя. Идея графа взбудоражила меня. Дни и ночи я трудился над созданием клавианиссима. Что же касается графа, то с ним случилась беда. Мария куда-то исчезла, и граф носился по Вене с одним вопросом: «Не встречали Марию?»
Время шло. Я несколько раз менял местожительство, занимался своим клавианиссимом, и ничего другого мне не было нужно. Довелось мне опять встретить графа. Был уже нынешний век. Я засиделся у друзей и поздно ночью оказался на улице. Поднялась пурга, сбила лампу дневного света. Стало совершенно темно и холодно. Машины скользили мимо, не обращая на меня никакого внимания. Я призадумался. Внезапно к тротуару подкатила карета, запряженная парой гнедых. Дверь открылась, и меня поманили внутрь. Я полез, не раздумывая, в карету и увидел постаревшего графа Д. Он предложил подвезти меня прямо к дому и спросил: «Не встречали Марию?» Я покачал головой. «А что же клавианиссим?» Я рассказал, что работа идет к концу. «Я жду, — сказал граф. — Так вы не встречали Марию?» Я вновь покачал головой. На этом мы и расстались.
Шло время. Я постарел, и мир постарел порядочно. Уже не было ни городов, ни дорог, а все какие-то обломки, обрывки. Я изготовил семнадцать тысяч струн для инструмента клавианиссима, не хватало лишь нескольких сотен. А надо сказать, работа была весьма тонкой. Каждую струну приходилось плести из лунного света, пенья топрабанских дроздов, запаха травы остротела и еще двадцати семи компонентов, среди которых встречались и весьма прозаические, например молибден и ванадий.
Однажды я засиделся у друзей на каком-то обломке и ночью оказался в пустоте. Поднялась пурга, сбила звезду. Стало совершенно темно и холодно. Я призадумался. Вдали показался старик. Он шагал прямо по воздуху, помахивая посохом. «Не встречали Марию?» — спросил он меня. И тут я ответил: «Встречал». Ведь только что я видел Марию у своих друзей. Я указал старику на обломок планеты и стоящий посередине домик, но он не придал моим словам никакого значения и снова спросил: «Не встречали Марию?» Я отвечал, что недавно беседовал с ней, и опять указал на домик, но он ушел по воздуху, бормоча себе под нос: «Не встречали Марию?»
Время уже не шло. Время остановилось. Я доживал свой век на заброшенной даче, а вокруг ничего уже не было. Ни городов, ни дорог, ни обломков, даже воздуха не было. Звезды истлели до пепла. Я как раз прилаживал последнюю струну к стеклянной деке клавианиссима. Внезапно открылась дверь моей дачи и вошел странно помолодевший граф Д. Тут же открылась противоположная дверь и вбежала Мария. Они с криком бросились друг к другу. Они так кричали и плакали, что у меня заболело сердце. «Где ты была? Где ты была?» — кричал он. «Любимый, любимый!» — кричала она. Я сел за клавианиссим и начал играть. И тут я увидел, что звезды стали падать серебряным порошком. Порошок сыпался в окна, облекая тела возлюбленных, и они застыли, превратившись в серебряные изваяния. А я играл. И на меня сыпался звездный пепел. Мне стало так хорошо, свежо и прохладно. Необыкновенные звуки пробудили во мне воспоминание. Я вспомнил детство и девочку в белом платье, которую очень любил. У нее было белое платье, белые гольфы и теннисная ракетка в руках. Я вспомнил, что очень ее любил. Господи, ведь я тоже любил когда-то. И почему я не сделал признания, почему не сказал слова любви? Ведь я тоже мог ходить за ней по свету, называть Единственной, целовать следы ее маленьких туфель, дарить цветы и ракетки. И я играл, играл, а звездный пепел сыпался на меня, и я сам становился серебряным изваянием. Все, что я мог еще вспомнить, — это белое платье, белое платье...
15 сентября. Суббота
Никакой любви, разумеется, нет. То есть, конечно, она имеется, только в высших сферах. В литературе, искусствах. Точно так же, как бессмертие, совершенство. В жизни они отсутствуют. Человек придумал недостижимое, чтобы к нему стремиться. Но достигнуть недостижимого невозможно. Точно так же, как невозможно по-настоящему любить.
Почитать мой дневник — так можно поверить, что я в самом деле люблю. Но это блажь, литература. Накопился избыток чувств, и вот уже хочется думать, что это любовь. Нет никакой любви! Если и была когда-то, к нынешним временам вся вышла. Нет, ее нет!
Почитать мой дневник — так можно поверить, что я в самом деле люблю. Но это блажь, литература. Накопился избыток чувств, и вот уже хочется думать, что это любовь. Нет никакой любви! Если и была когда-то, к нынешним временам вся вышла. Нет, ее нет!
16 сентября. Воскресенье
Сегодня консерватория. Еще одно испытание для меня. С тех самых пор я тут не была, и все напоминало о нем. Даже музыка. «Римские виртуозы» играли Вивальди. А мне чудилось: вот поверну голову и увижу его. Под музыку вспоминала. В иных местах такая тоска пронзала, что хваталась за ручки кресла, зубы стискивала. «Тебе нехорошо?» — спросила мама. Нет, хорошо. Мне прекрасно, мама. Слышишь, как они играют? Разве может быть нехорошо, когда так играют? Неужели я никогда не увижу его лицо? Вокруг столько лиц, серьезных, прекрасных. Но где же его лицо? Хоть бы увидеть, хоть раз увидеть. А вдруг его больше нет на свете? Ночью спустилась звезда, подхватила и унесла в небо. Ах, мама, мама! Как хочется плакать, прямо здесь, в кресле Большого зала. Пускай бы скрипач увидел и подумал, что я плачу от звуков его божественной скрипки. Играй, виртуоз из Рима, играй! Не одна тихая душа уйдет за тобой и заблудится в несбыточных садах прекрасного. Будет блуждать, наслаждаться, а жизнь раскроет перед ней страшный зев и зарычит: «Подойди сюда, детка, я расскажу тебе, что я кушаю на завтрак».
Мой бедный разум. Моя бедная душа. Вы не готовы к такому испытанию. Очень я вас жалею, но помочь не могу. Уж как-нибудь сами. Слишком много забот. Школа, университет, голландский язык, — мое прекрасное будущее. Душу, во всяком случае, в эти дела я впутывать не собираюсь. Что касается разума, то он мне еще пригодится. Только следует предоставить ему отдых. Не думать, не думать, не думать, не размышлять. Не искать объяснений. Не ломать голову!
Мой бедный разум. Моя бедная душа. Вы не готовы к такому испытанию. Очень я вас жалею, но помочь не могу. Уж как-нибудь сами. Слишком много забот. Школа, университет, голландский язык, — мое прекрасное будущее. Душу, во всяком случае, в эти дела я впутывать не собираюсь. Что касается разума, то он мне еще пригодится. Только следует предоставить ему отдых. Не думать, не думать, не думать, не размышлять. Не искать объяснений. Не ломать голову!
17 сентября. Понедельник
Конспект школьного дня.
На литературе переглядывалась с Ниной Петровной. По алгебре получила тройку. Вторая тройка с начала учебного года, ура! На астрономии читала стихи. На истории глядела в спину Панкова и пыталась внушить себе, что это тот же Панков, который снится. На химии страшно затосковала. Попросилась выйти и на урок не вернулась. Простояла в коридоре, глядя в окно. Шел дождь. На физкультуре новичок Пирожников залепил мне мячом в лицо. Извинялся. На перемене держалась в стороне от «могучей кучки», в которую входят Панков, Атаров, Станкевич, Днепров и Корф с Потехиной. Входила и я, да вся вышла. Станкевич считает, что я зазналась. Корф требует объяснений. Потехина что-то чувствует, сердобольно смотрит и вопросов не задает.
Проходили диспансеризацию. Мой рост 165, вес 55.500.
Конспект домашней жизни.
О тройках и прогулах никто не знает. Но и так все мрачны. Недоумевают. Дедушка спросил сурово, намерена ли я посещать кружок. Молчала. Он покраснел от гнева и указал на дверь. Дедушку довела! Тетя Туся растеряна. Мама со мной не разговаривает. Аня робко ходит следом. Иногда обнимет, прижмется. Папе все до фени. Молодец! Был Дима в гостях. Неожиданно мне понравился. Вспомнила лето. Эх, Дима, Дима!
Вот что трогает меня, когда думаю о Пушкине.
На дуэли под дулом пистолета ест черешню из картуза, выплевывает косточки.
Сочиняет стихи, валяясь на полу. Вдруг начинает дурачиться, прыгать на четвереньках.
Вбегает в дом на Никитской. Так спешит увидеть Наталью, что сбрасывает калоши, и они влетают в залу прежде самого Пушкина. Почему меня эти летящие калоши так умиляют?
Смерть. Просит, чтоб повернули его на другой бок. Друзья поворачивают. Говорит тихо: «Кончена жизнь». Даль не расслышал: «Да, кончено. Мы тебя поворотили». Пушкин поправляет еле слышно: «Жизнь кончена». Последние слова: «Теснит дыхание...» Все.
Пушкина заколотили...
На литературе переглядывалась с Ниной Петровной. По алгебре получила тройку. Вторая тройка с начала учебного года, ура! На астрономии читала стихи. На истории глядела в спину Панкова и пыталась внушить себе, что это тот же Панков, который снится. На химии страшно затосковала. Попросилась выйти и на урок не вернулась. Простояла в коридоре, глядя в окно. Шел дождь. На физкультуре новичок Пирожников залепил мне мячом в лицо. Извинялся. На перемене держалась в стороне от «могучей кучки», в которую входят Панков, Атаров, Станкевич, Днепров и Корф с Потехиной. Входила и я, да вся вышла. Станкевич считает, что я зазналась. Корф требует объяснений. Потехина что-то чувствует, сердобольно смотрит и вопросов не задает.
Проходили диспансеризацию. Мой рост 165, вес 55.500.
Конспект домашней жизни.
О тройках и прогулах никто не знает. Но и так все мрачны. Недоумевают. Дедушка спросил сурово, намерена ли я посещать кружок. Молчала. Он покраснел от гнева и указал на дверь. Дедушку довела! Тетя Туся растеряна. Мама со мной не разговаривает. Аня робко ходит следом. Иногда обнимет, прижмется. Папе все до фени. Молодец! Был Дима в гостях. Неожиданно мне понравился. Вспомнила лето. Эх, Дима, Дима!
Вот что трогает меня, когда думаю о Пушкине.
На дуэли под дулом пистолета ест черешню из картуза, выплевывает косточки.
Сочиняет стихи, валяясь на полу. Вдруг начинает дурачиться, прыгать на четвереньках.
Вбегает в дом на Никитской. Так спешит увидеть Наталью, что сбрасывает калоши, и они влетают в залу прежде самого Пушкина. Почему меня эти летящие калоши так умиляют?
Смерть. Просит, чтоб повернули его на другой бок. Друзья поворачивают. Говорит тихо: «Кончена жизнь». Даль не расслышал: «Да, кончено. Мы тебя поворотили». Пушкин поправляет еле слышно: «Жизнь кончена». Последние слова: «Теснит дыхание...» Все.
Пушкина заколотили...
18-26 сентября
Каменею. Эта неделя каменная. Была на истфаке, посетила заседание кубика. Кто-то спросил, верно ли, что я внучка Домбровского. Ошибка. Я внучка Дубровского. Какого Дубровского? А какого Домбровского? Извините. Пожалуйста.
Кручу пластинки с курсом голландского. Отменный язык. Немножко меня успокаивает. Прибавлю звука и лежу в оцепенении. Сказанные мягким, вкрадчивым баритоном, голландские слова обклеивают мой страждущий мозг наподобие пластыря. Выхожу к ужину с голландской головой, пью стакан чая с молоком и под внимательными взглядами родственников удаляюсь обратно в комнату.
Мне кажется, они скоро потащат меня к психиатру. Тетя Туся: «Это нервное, нервное! Возрастное!» Все время пью холодную воду и потихонечку валерьянку.
Утром-то! Утром как тяжело просыпаться...
Через неделю день рождения. Шестнадцать лет. Странно, весьма странно. Чувствую себя гораздо старше. Аня спросила: «Кого пригласишь на день рождения?» Ответила: «Никого». Один подарок уже получила, самый значительный. Это дубленка от дедушки. Мечта прошлой зимы. Теперь же мерила дубленку с постной физиономией. Некстати подарок, некстати. Нет сил благодарить должным образом.
Что в школе? Ничего. Учителя боятся меня вызывать. Ставить двойки Молчановой вроде бы неприлично. Но что же ей ставить, если молчит? Скоро вызовут маму. Для нее это будет еще один «сюрприз». А ведь я учиться-то не хочу! Ха!
Словечки наших.
Сережа Атаров, развалясь на парте:
— Необычайно сегодня домой хочется. — Этой фразой начинается каждый день.
Лена Корф:
— Я хочу быть оригинальной, как все.
«Могучая кучка» любому, кто хочет примазаться:
— Иди повтори, что Маркс сказал о прибыли.
Они такие счастливые, беспечные! Потехина влюблена в Баранова из 10-го «А», а весной была влюблена в Струкова. Причем любовь к Баранову ничем не отличается от прошлой любви к Струкову. Те же слова: «Он такой добрый и сильный». Те же томные взоры, сосредоточенные на портрете Тургенева в кабинете литературы. Словно Тургенев посредник и может переправить чувства Баранову, когда кабинет займет 10-й «А».
Кручу пластинки с курсом голландского. Отменный язык. Немножко меня успокаивает. Прибавлю звука и лежу в оцепенении. Сказанные мягким, вкрадчивым баритоном, голландские слова обклеивают мой страждущий мозг наподобие пластыря. Выхожу к ужину с голландской головой, пью стакан чая с молоком и под внимательными взглядами родственников удаляюсь обратно в комнату.
Мне кажется, они скоро потащат меня к психиатру. Тетя Туся: «Это нервное, нервное! Возрастное!» Все время пью холодную воду и потихонечку валерьянку.
Утром-то! Утром как тяжело просыпаться...
Через неделю день рождения. Шестнадцать лет. Странно, весьма странно. Чувствую себя гораздо старше. Аня спросила: «Кого пригласишь на день рождения?» Ответила: «Никого». Один подарок уже получила, самый значительный. Это дубленка от дедушки. Мечта прошлой зимы. Теперь же мерила дубленку с постной физиономией. Некстати подарок, некстати. Нет сил благодарить должным образом.
Что в школе? Ничего. Учителя боятся меня вызывать. Ставить двойки Молчановой вроде бы неприлично. Но что же ей ставить, если молчит? Скоро вызовут маму. Для нее это будет еще один «сюрприз». А ведь я учиться-то не хочу! Ха!
Словечки наших.
Сережа Атаров, развалясь на парте:
— Необычайно сегодня домой хочется. — Этой фразой начинается каждый день.
Лена Корф:
— Я хочу быть оригинальной, как все.
«Могучая кучка» любому, кто хочет примазаться:
— Иди повтори, что Маркс сказал о прибыли.
Они такие счастливые, беспечные! Потехина влюблена в Баранова из 10-го «А», а весной была влюблена в Струкова. Причем любовь к Баранову ничем не отличается от прошлой любви к Струкову. Те же слова: «Он такой добрый и сильный». Те же томные взоры, сосредоточенные на портрете Тургенева в кабинете литературы. Словно Тургенев посредник и может переправить чувства Баранову, когда кабинет займет 10-й «А».
