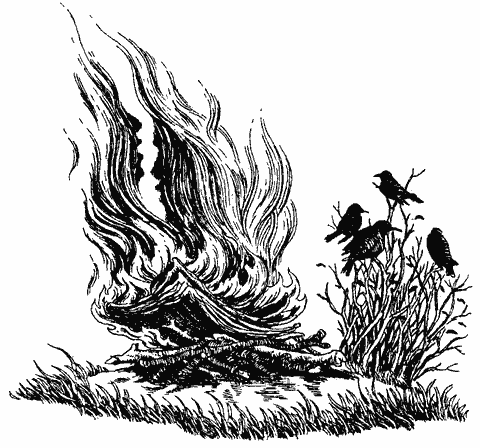— Я просто плакала, просто.
— Нет, не просто! Ты плакала, как человек, у которого безутешное горе.
— Ах, Дима, оставь. Нет у меня никакого горя.
— Ты не хочешь сказать. Ты не хочешь сказать мне, Маша. Но горе всегда заметно. Оно и сейчас на твоем лице. Смотри, на глазах у тебя слезы.
— Перестань же, Дима!
— Нет, ты не можешь плакать при мне! Знаешь, как много я думаю о тебе? Целый день и всю ночь. И утром я просыпаюсь с мыслями о тебе...
— Перестань же, Дима.
— Маша, не плачь! Мне так горько, когда ты плачешь. Невыносимо! Потому что... потому что... — Лицо его исказилось.
— Молчи!
— Я люблю тебя, Маша!
— Молчи!
— Люблю тебя, Маша.
— Зачем говорить такие слова, — забормотала я, — все это ложь, неправда. Я не желаю слушать. Я не хочу это больше слышать. Нет таких слов. Таких слов нет на свете!
Он вскочил, лицо его покраснело.
— Испугалась? Я знал, что ты испугаешься, кроткое дитя благополучного дома. Конечно! Зачем же слышать такие слова? И от кого? Но я еще тебе повторю. Да, люблю! И молчать не буду. Да, я люблю! Я полон любовью, полон любовью!
Он, кажется, упивался своими словами.
— Полон любовью, — процедила я. — Ты еще молод, а потом узнаешь, что это просто слова. Всего лишь слова, Костычев Владимир.
— Ты скоро убедишься в обратном.
— Каким образом?
— Не знаю... я докажу...
— Не надо ничего доказывать.
— Как ты смеешь издеваться над моим чувством? Ты знаешь, сколько я пережил?
Я встала:
— Не знаю. Зачем мне об этом знать? Я очень устала. Поверь мне, я очень устала. Оставь меня, Дима, в покое.
— Нет, не оставлю! — крикнул он. — В тебе нет никакого покоя! Тебя что-то мучит, ты вся извелась. А я люблю тебя, Маша!
— Оставь меня в покое, — повторила я, — неужели ты не видишь, что я к тебе равнодушна?
— Ты... — Он осекся и застыл с полураскрытым ртом.
— Неужели не видно? — еще раз сказала я холодно. Его широко раскрытые глаза и сейчас передо мной. Я ушла, оставив его в оцепенении. А вечером из почтового ящика извлекла адресованную мне записку:
«Уважаемая Мария Андреевна, прошу простить нелепую выходку. Вы правы, я совсем не питаю к вам таких чувств, какие выражал словами. Просто что-то нашло. Теперь же я совершенно спокоен. Мне только стыдно за то, что случилось. Не стану вас больше тревожить. Извините еще раз. Ваш Костычев».
Ну вот и хорошо. Все само собой разрешилось. Какая все же это глупая и никчемная вещь, объяснение в любви.
17 октября. Среда
18 октября. Четверг
21 октября. Воскресенье
ОТ АВТОРА
Октябрь. Год спустя.
— Нет, не просто! Ты плакала, как человек, у которого безутешное горе.
— Ах, Дима, оставь. Нет у меня никакого горя.
— Ты не хочешь сказать. Ты не хочешь сказать мне, Маша. Но горе всегда заметно. Оно и сейчас на твоем лице. Смотри, на глазах у тебя слезы.
— Перестань же, Дима!
— Нет, ты не можешь плакать при мне! Знаешь, как много я думаю о тебе? Целый день и всю ночь. И утром я просыпаюсь с мыслями о тебе...
— Перестань же, Дима.
— Маша, не плачь! Мне так горько, когда ты плачешь. Невыносимо! Потому что... потому что... — Лицо его исказилось.
— Молчи!
— Я люблю тебя, Маша!
— Молчи!
— Люблю тебя, Маша.
— Зачем говорить такие слова, — забормотала я, — все это ложь, неправда. Я не желаю слушать. Я не хочу это больше слышать. Нет таких слов. Таких слов нет на свете!
Он вскочил, лицо его покраснело.
— Испугалась? Я знал, что ты испугаешься, кроткое дитя благополучного дома. Конечно! Зачем же слышать такие слова? И от кого? Но я еще тебе повторю. Да, люблю! И молчать не буду. Да, я люблю! Я полон любовью, полон любовью!
Он, кажется, упивался своими словами.
— Полон любовью, — процедила я. — Ты еще молод, а потом узнаешь, что это просто слова. Всего лишь слова, Костычев Владимир.
— Ты скоро убедишься в обратном.
— Каким образом?
— Не знаю... я докажу...
— Не надо ничего доказывать.
— Как ты смеешь издеваться над моим чувством? Ты знаешь, сколько я пережил?
Я встала:
— Не знаю. Зачем мне об этом знать? Я очень устала. Поверь мне, я очень устала. Оставь меня, Дима, в покое.
— Нет, не оставлю! — крикнул он. — В тебе нет никакого покоя! Тебя что-то мучит, ты вся извелась. А я люблю тебя, Маша!
— Оставь меня в покое, — повторила я, — неужели ты не видишь, что я к тебе равнодушна?
— Ты... — Он осекся и застыл с полураскрытым ртом.
— Неужели не видно? — еще раз сказала я холодно. Его широко раскрытые глаза и сейчас передо мной. Я ушла, оставив его в оцепенении. А вечером из почтового ящика извлекла адресованную мне записку:
«Уважаемая Мария Андреевна, прошу простить нелепую выходку. Вы правы, я совсем не питаю к вам таких чувств, какие выражал словами. Просто что-то нашло. Теперь же я совершенно спокоен. Мне только стыдно за то, что случилось. Не стану вас больше тревожить. Извините еще раз. Ваш Костычев».
Ну вот и хорошо. Все само собой разрешилось. Какая все же это глупая и никчемная вещь, объяснение в любви.
17 октября. Среда
Слава Богу! Разрешили свидание с тетей Тусей. Но дали всего несколько минут.
Она лежала передо мной совсем незнакомая. Сухонькая, маленькая, с выцветшим лицом. Сразу забормотала:
— Я так нехорошо выгляжу, деточка.
Пыталась поправить волосы.
— Тетя Туся, — я взяла ее за руку, — быстрей выходи. Мы так соскучились. Я четвертую балладу Шопена разучиваю. Вернешься, буду играть.
— Да что же я могу, деточка? Они говорят, еще целый месяц. Если лежать, так зачем же здесь? Я могла бы и дома.
— Но тут лечение.
— Медикаментозное. Это ведь и дома принимать можно.
Все это время я удерживала в себе слезы. Щебетала о школьных делах и папиной диссертации, о том, что дедушку навещали коллеги.
— Я всё о тебе беспокоюсь, деточка, — сказала она, — думаешь, я не видела? Я все видела, деточка! Но что же делать? Знаешь, какая безумная любовь была у меня в молодости? Все складывалось против нас, никакого просвета. Мы так страдали и так не хотели расставаться друг с другом, что однажды забрались на крышу и чуть не в один голос сказали: «Давай возьмемся за руки и прыгнем». Это было светлой ночью. Мы подобрались к самому карнизу и глянули вниз. Но знаешь, какое чудо нам довелось увидеть? На темном газоне травы мерцали звезды. Целые мириады звезд! Это было так похоже на небо! Оказалось, полчища светляков прошли в ту ночь садами и парками. Мы смотрели, смотрели, у нас наступило облегчение...
— Тетя Туся, я очень тебя люблю.
— А как Петр Александрович, деточка?
— Работает. Завтра к тебе придет.
— Скажи Ане, чтобы каждое утро ставила книжки на полку. Это возмутительно, какой бывает у нее беспорядок. — В голосе тети Туси появились крепкие нотки, она даже зашарила по столику в поисках неизменных очков. — А как твой голландский?
— Нашли преподавателя с филфака. В понедельник к нему поеду.
— Лучше бы настоящего голландца. Ведь у нас есть знакомые. Я поговорю с Петром Александровичем...
Вернулась домой, села за учебники. Читала прилежно, но в голове оставалось мало. Внезапно вошла мама, ласково так меня обняла:
— Занимаешься?
Лучше б не обнимала. Сразу захотелось прижаться, заплакать. Она почувствовала, прикоснулась щекой.
— Все пройдет, моя дорогая девочка. Все пройдет...
— Ах, мама, мама...
— Все пройдет, моя дорогая девочка. Все пройдет... все устроится.
— Мама, ты отпустишь меня на дачу? Не спрашивая... Всего на полдня. Не спрашивая...
— Поезжай... — Она гладила меня, целовала. — Ты что-то забыла?
— Да, мама, забыла... мне нужно взять.
— Поезжай. Только двери запирай хорошенько...
Она лежала передо мной совсем незнакомая. Сухонькая, маленькая, с выцветшим лицом. Сразу забормотала:
— Я так нехорошо выгляжу, деточка.
Пыталась поправить волосы.
— Тетя Туся, — я взяла ее за руку, — быстрей выходи. Мы так соскучились. Я четвертую балладу Шопена разучиваю. Вернешься, буду играть.
— Да что же я могу, деточка? Они говорят, еще целый месяц. Если лежать, так зачем же здесь? Я могла бы и дома.
— Но тут лечение.
— Медикаментозное. Это ведь и дома принимать можно.
Все это время я удерживала в себе слезы. Щебетала о школьных делах и папиной диссертации, о том, что дедушку навещали коллеги.
— Я всё о тебе беспокоюсь, деточка, — сказала она, — думаешь, я не видела? Я все видела, деточка! Но что же делать? Знаешь, какая безумная любовь была у меня в молодости? Все складывалось против нас, никакого просвета. Мы так страдали и так не хотели расставаться друг с другом, что однажды забрались на крышу и чуть не в один голос сказали: «Давай возьмемся за руки и прыгнем». Это было светлой ночью. Мы подобрались к самому карнизу и глянули вниз. Но знаешь, какое чудо нам довелось увидеть? На темном газоне травы мерцали звезды. Целые мириады звезд! Это было так похоже на небо! Оказалось, полчища светляков прошли в ту ночь садами и парками. Мы смотрели, смотрели, у нас наступило облегчение...
— Тетя Туся, я очень тебя люблю.
— А как Петр Александрович, деточка?
— Работает. Завтра к тебе придет.
— Скажи Ане, чтобы каждое утро ставила книжки на полку. Это возмутительно, какой бывает у нее беспорядок. — В голосе тети Туси появились крепкие нотки, она даже зашарила по столику в поисках неизменных очков. — А как твой голландский?
— Нашли преподавателя с филфака. В понедельник к нему поеду.
— Лучше бы настоящего голландца. Ведь у нас есть знакомые. Я поговорю с Петром Александровичем...
Вернулась домой, села за учебники. Читала прилежно, но в голове оставалось мало. Внезапно вошла мама, ласково так меня обняла:
— Занимаешься?
Лучше б не обнимала. Сразу захотелось прижаться, заплакать. Она почувствовала, прикоснулась щекой.
— Все пройдет, моя дорогая девочка. Все пройдет...
— Ах, мама, мама...
— Все пройдет, моя дорогая девочка. Все пройдет... все устроится.
— Мама, ты отпустишь меня на дачу? Не спрашивая... Всего на полдня. Не спрашивая...
— Поезжай... — Она гладила меня, целовала. — Ты что-то забыла?
— Да, мама, забыла... мне нужно взять.
— Поезжай. Только двери запирай хорошенько...
18 октября. Четверг
Дима куда-то исчез. Дома не ночевал. У Костычевых страшный переполох. Неужели опять я виновата? Как неприятно. Что же делать? Сейчас уже полдень, а никаких известий. Аня снует между нами и Костычевыми, успокаивает, дежурит у телефона. Папа в полной уверенности, что ничего страшного не произошло. «Я сам убегал из дома». Завтра мне нужно на дачу, девятнадцатое завтра, но теперь просто не знаю. А съездить обязательно нужно, ведь это девятнадцатое октября. «Приедешь на дачу девятнадцатого? Будем бродить по лесу, собирать листья, читать стихи...» Последний шанс. Если он не хочет потерять меня навсегда, то появится завтра на даче. «Роняет лес багряный свой убор, сребрит мороз увянувшее поле...»
20.00. Милиция и больницы о Диме ничего не знают. Это хоть хорошо. Страшно волнуюсь, все-таки он мне дорог. Способность к таким поступкам подозревала я в Диме и раньше. Мятежная у него натура. Но какой эгоизм! Столько людей нервничают. Я бы так не смогла. Впрочем... Нет, все мы ужасные эгоисты...
22.30. Нашла записку от Димы, ее сквозняком со стола сдуло. Всего несколько слов: «Не беспокойтесь. Со мной все в порядке». У Костычевых немножечко отлегло. Но поиски продолжаются. Что могло послужить причиной такого бегства? Я, впрочем, прикидываюсь. Кому, как не мне, знать про это...
22.45. С утра поеду на дачу. Даже волнения нет, во всем теле изнуряющая немота. Все равно никого не встречу.
20.00. Милиция и больницы о Диме ничего не знают. Это хоть хорошо. Страшно волнуюсь, все-таки он мне дорог. Способность к таким поступкам подозревала я в Диме и раньше. Мятежная у него натура. Но какой эгоизм! Столько людей нервничают. Я бы так не смогла. Впрочем... Нет, все мы ужасные эгоисты...
22.30. Нашла записку от Димы, ее сквозняком со стола сдуло. Всего несколько слов: «Не беспокойтесь. Со мной все в порядке». У Костычевых немножечко отлегло. Но поиски продолжаются. Что могло послужить причиной такого бегства? Я, впрочем, прикидываюсь. Кому, как не мне, знать про это...
22.45. С утра поеду на дачу. Даже волнения нет, во всем теле изнуряющая немота. Все равно никого не встречу.
21 октября. Воскресенье
Переношусь воображением в минувший день. В лицейский день, в девятнадцатое.
С бьющимся сердцем я шла между сосен. Дальний путь выбрала. Вот омут, у которого я ждала. Вот пляж. Пустынно и холодно. Я подошла к реке и глянула в лик воды. Он был отчужденный, мутный. Вода думала о своем, струилась едва. Молчали птицы. Осень незримо бродила меж дальних стволов с ворохом листьев в руках.
Сначала на свою дачу. Как это странно: прийти в дом, где все были, а теперь уже нет никого. Где всебыло, а теперь ничего. На стене большая фотография. Кто-то из папиных знакомых снимал. Наша семья. Мы в саду под соснами. Счастливые, улыбаемся. Дедушка обнимает меня, его изящная голова слегка откинута в тень. Тетя Туся рядом с белым платком на шее, с банкой ягод в руках. Аня на коленях у папы, немножко позирует, глядит в объектив с серьезностью курсистки прошлого века. Мама улыбается, скрестив на груди руки. Боже мой, неужели когда-нибудь рухнет этот мир покоя и счастья? Да он уже рухнул. Даже сейчас эти немые улыбки выглядят печальными среди пустоты оставленной дачи. А потом в дом проникнет мороз и мутный иней ляжет на наши лица. Как я их всех люблю! Только бы нам не расставаться.
Долго сидела в своей комнате, не решаясь идти на Черную дачу. Поглядела в окно. Сквозь поредевшую листву виден угол террасы. Надежды почти никакой, но двойственное чувство раздирало меня. С одной стороны, мне виделось предначертание рока, неизбежность вечной разлуки. С другой — не выходили из головы слова, услышанные во сне. Он и не мог прийти. Но вам не дано расстаться. Эти слова казались мне вещими. Какое же чувство верней?
Наконец собралась с духом, пошла. Хвоя все зеленая, а листья уже пожелтели. Мой можжевеловый куст принял позу печального недоумения, хотя ничего не изменилось в строении его веток. Сидела на лавке с бьющимся сердцем. Вот так обернулась однажды, а онстоял по ту сторону забора и улыбался. На нем были голубые джинсы и светлая рубашка с открытым воротом...
Подхожу к даче, сердце бьется сильней. Вижу, что на двери террасы нет никакого замка. Открываю. Ясное ощущение поражает как громом — в доме кто-то есть. Кто-то есть в доме! Кинулась чуть не бегом в комнату и увидела, что на диване лежит человек...
Это был Дима Костычев.
В изумлении застыла. Растерянность, разочарование, но и что-то приятное проскользнуло. Все-таки Дима нашелся.
— Как ты здесь оказался? — спросила я хриплым голосом.
Он повернулся ко мне, и на глазах я увидела слезы.
— И здесь не дают покоя... — пробормотал он, — уйди...
— Как ты здесь оказался, Дима?
Он отвернулся к стене:
— Обыкновенно.
— Но это чужая дача.
— И тут разыскали... — бормотал он.
— Я не искала тебя.
Он вскочил:
— Что вам всем от меня нужно? Не желаю видеть вас никого!
— Но тебя ищут, Дима.
— Как ты сюда вошла?
— Через дверь. — Я пожала плечами.
— На двери замок, я залез в окно.
— Дверь, Дима, открыта.
— Ничего подобного. С какой стати открыта? Мы запираем на зиму. Целая связка ключей, понимаешь? Я специально не стал их брать, чтоб никто не подумал...
Глаза его блуждали, на щеках горел нездоровый румянец. Как у него, мелькнула острая мысль.
— Ты заболел?
— Я здоров, я очень здоров.
— Дай потрогаю лоб.
Голова ужасно горячая. Как у него.
— У тебя температура.
— Неужели? — Голос его звучал насмешливо. — Знаешь, почему я сбежал? Верней, от кого?
— От кого?
— От тебя! Ты... ты негодный человек!
— Почему же негодный?
— Впрочем, нет... ты прекрасный, чуткий, отзывчивый человек. Ты полна сострадания. Ха-ха... — Он повалился на диван и закрыл лицо локтем. — Уже два года я день и ночь думаю о тебе. Целых два года. — Он снова вскочил. — Почему ты сказала, что это чужая дача? Разве ее продали? Я ничего не знаю. Тут приходил один. Но разве продали? Я не взял ключи, пришлось лезть в окно.
— Ты залез на чужую дачу.
— Чужую? — Он с изумлением обвел глазами комнату. — С каких это пор?
А он на негопохож, внезапно решила я.
— Это моя дача. Только ее уже продали. Да, продали. Продали дачу дьяволу. Тому, который в очках и шляпе. А мы уезжаем. Больше я не увижу тебя. Докучать не стану... Откуда тут взялся рояль? Это рояль моей бабушки. Он в Москве.
— Это не ваш рояль, Дима. И дача чужая.
— Нет, наш! Это «Блютнер»!
— Верно, — сказала я удивленно, — но разве в Москве у вас «Блютнер»?
— Да, «Блютнер»! Но как он попал сюда? Сколько пыли. Он постарел на десяток лет.
— Полежи, Дима. У тебя действительно жар. А потом мы поедем в Москву.
— В какую Москву? Я не знаю такого города.
— Дима, лежи.
— Я чувствую, что-то нас разделяет. Что-то разделяет нас, Маша. Это стена. Я не могу сквозь нее пробиться. Я чувствую стену меж нами, но только вдвоем нам может быть хорошо. Поверь, я хорошо это знаю.
Может быть, он и прав, подумала я.
— Надо сломать эту стену, надо сломать! Я никого не смогу любить, кроме тебя. А ты не любишь меня, ты не любишь. Я так несчастен, я так несчастен, Маша...
Плечи его вздрогнули. Он кинулся на диван лицом вниз, потом снова вскочил:
— Но в глубине души... в глубине души я никогда не сомневался, что мы будем вместе. Когда-нибудь будем вместе!
Что он говорит, подумала я, невольно проникаясь жаром его слов.
— А ты? — Он схватил меня за руку. — Скажи, как ты думаешь, будем ли мы вместе? Впрочем, глупость. Не отвечай. Мне снился сон. Ты была в белом платье. Я шел в темноте и боялся. Все было темно, ветер шумел в деревьях. Я кинулся к дому, открыл дверь, и там было светло. Ты читала книгу, и на тебе было белое платье...
Девятнадцатое октября! В самую пору надеть белое платье. Надеть белые гольфы, взять в руки ракетку. Игра в теннис среди желтой травы своеобразна. Мяч подпрыгивает, улетает невесть куда и возвращается из-за деревьев снова. Чья ракетка вернула его?
Чей взгляд наградил этот шарик теплом и призывом? В полете мяча есть прощальная плавность. Он парит над деревьями медленно, словно крошечный аэростат. Сверху ему видны оба играющих, но каждый из них закрыт друг от друга декорацией желтых кленов, красных дубов и зеленых сосен. Ток-ток. Удары ракеток. Ток-ток. Токката осенней игры. Что там видно еще с аэростата? Я бы хотела вот так же медленно и плавно лететь над осенним лесом, и пусть бы кое-кто, закинув голову, проводил меня изумленным взором...
И тут небо стало принимать формы прозрачных сводов, деревья преобразились в колонны, в огромном зале со всех сторон появились люди. Они были в прекрасных одеждах, и лица их были прекрасны. Говорили о чем-то сдержанно, и чаще всего до меня доносились слова: «Девятнадцатое октября...» Некоторое время они бродили беспорядочно, но потом соединились в стройную массу. Перед ними поставили прозрачный инструмент, чем-то напоминающий рояль, но больше похожий на птицу, а не только на ее крыло. К этому инструменту, прихрамывая, подошел знакомый мне человек и открыл крышку. Дирижер взмахнул палочкой, полилась музыка, и люди запели высокими чистыми голосами:
С бьющимся сердцем я шла между сосен. Дальний путь выбрала. Вот омут, у которого я ждала. Вот пляж. Пустынно и холодно. Я подошла к реке и глянула в лик воды. Он был отчужденный, мутный. Вода думала о своем, струилась едва. Молчали птицы. Осень незримо бродила меж дальних стволов с ворохом листьев в руках.
Сначала на свою дачу. Как это странно: прийти в дом, где все были, а теперь уже нет никого. Где всебыло, а теперь ничего. На стене большая фотография. Кто-то из папиных знакомых снимал. Наша семья. Мы в саду под соснами. Счастливые, улыбаемся. Дедушка обнимает меня, его изящная голова слегка откинута в тень. Тетя Туся рядом с белым платком на шее, с банкой ягод в руках. Аня на коленях у папы, немножко позирует, глядит в объектив с серьезностью курсистки прошлого века. Мама улыбается, скрестив на груди руки. Боже мой, неужели когда-нибудь рухнет этот мир покоя и счастья? Да он уже рухнул. Даже сейчас эти немые улыбки выглядят печальными среди пустоты оставленной дачи. А потом в дом проникнет мороз и мутный иней ляжет на наши лица. Как я их всех люблю! Только бы нам не расставаться.
Долго сидела в своей комнате, не решаясь идти на Черную дачу. Поглядела в окно. Сквозь поредевшую листву виден угол террасы. Надежды почти никакой, но двойственное чувство раздирало меня. С одной стороны, мне виделось предначертание рока, неизбежность вечной разлуки. С другой — не выходили из головы слова, услышанные во сне. Он и не мог прийти. Но вам не дано расстаться. Эти слова казались мне вещими. Какое же чувство верней?
Наконец собралась с духом, пошла. Хвоя все зеленая, а листья уже пожелтели. Мой можжевеловый куст принял позу печального недоумения, хотя ничего не изменилось в строении его веток. Сидела на лавке с бьющимся сердцем. Вот так обернулась однажды, а онстоял по ту сторону забора и улыбался. На нем были голубые джинсы и светлая рубашка с открытым воротом...
Подхожу к даче, сердце бьется сильней. Вижу, что на двери террасы нет никакого замка. Открываю. Ясное ощущение поражает как громом — в доме кто-то есть. Кто-то есть в доме! Кинулась чуть не бегом в комнату и увидела, что на диване лежит человек...
Это был Дима Костычев.
В изумлении застыла. Растерянность, разочарование, но и что-то приятное проскользнуло. Все-таки Дима нашелся.
— Как ты здесь оказался? — спросила я хриплым голосом.
Он повернулся ко мне, и на глазах я увидела слезы.
— И здесь не дают покоя... — пробормотал он, — уйди...
— Как ты здесь оказался, Дима?
Он отвернулся к стене:
— Обыкновенно.
— Но это чужая дача.
— И тут разыскали... — бормотал он.
— Я не искала тебя.
Он вскочил:
— Что вам всем от меня нужно? Не желаю видеть вас никого!
— Но тебя ищут, Дима.
— Как ты сюда вошла?
— Через дверь. — Я пожала плечами.
— На двери замок, я залез в окно.
— Дверь, Дима, открыта.
— Ничего подобного. С какой стати открыта? Мы запираем на зиму. Целая связка ключей, понимаешь? Я специально не стал их брать, чтоб никто не подумал...
Глаза его блуждали, на щеках горел нездоровый румянец. Как у него, мелькнула острая мысль.
— Ты заболел?
— Я здоров, я очень здоров.
— Дай потрогаю лоб.
Голова ужасно горячая. Как у него.
— У тебя температура.
— Неужели? — Голос его звучал насмешливо. — Знаешь, почему я сбежал? Верней, от кого?
— От кого?
— От тебя! Ты... ты негодный человек!
— Почему же негодный?
— Впрочем, нет... ты прекрасный, чуткий, отзывчивый человек. Ты полна сострадания. Ха-ха... — Он повалился на диван и закрыл лицо локтем. — Уже два года я день и ночь думаю о тебе. Целых два года. — Он снова вскочил. — Почему ты сказала, что это чужая дача? Разве ее продали? Я ничего не знаю. Тут приходил один. Но разве продали? Я не взял ключи, пришлось лезть в окно.
— Ты залез на чужую дачу.
— Чужую? — Он с изумлением обвел глазами комнату. — С каких это пор?
А он на негопохож, внезапно решила я.
— Это моя дача. Только ее уже продали. Да, продали. Продали дачу дьяволу. Тому, который в очках и шляпе. А мы уезжаем. Больше я не увижу тебя. Докучать не стану... Откуда тут взялся рояль? Это рояль моей бабушки. Он в Москве.
— Это не ваш рояль, Дима. И дача чужая.
— Нет, наш! Это «Блютнер»!
— Верно, — сказала я удивленно, — но разве в Москве у вас «Блютнер»?
— Да, «Блютнер»! Но как он попал сюда? Сколько пыли. Он постарел на десяток лет.
— Полежи, Дима. У тебя действительно жар. А потом мы поедем в Москву.
— В какую Москву? Я не знаю такого города.
— Дима, лежи.
— Я чувствую, что-то нас разделяет. Что-то разделяет нас, Маша. Это стена. Я не могу сквозь нее пробиться. Я чувствую стену меж нами, но только вдвоем нам может быть хорошо. Поверь, я хорошо это знаю.
Может быть, он и прав, подумала я.
— Надо сломать эту стену, надо сломать! Я никого не смогу любить, кроме тебя. А ты не любишь меня, ты не любишь. Я так несчастен, я так несчастен, Маша...
Плечи его вздрогнули. Он кинулся на диван лицом вниз, потом снова вскочил:
— Но в глубине души... в глубине души я никогда не сомневался, что мы будем вместе. Когда-нибудь будем вместе!
Что он говорит, подумала я, невольно проникаясь жаром его слов.
— А ты? — Он схватил меня за руку. — Скажи, как ты думаешь, будем ли мы вместе? Впрочем, глупость. Не отвечай. Мне снился сон. Ты была в белом платье. Я шел в темноте и боялся. Все было темно, ветер шумел в деревьях. Я кинулся к дому, открыл дверь, и там было светло. Ты читала книгу, и на тебе было белое платье...
Девятнадцатое октября! В самую пору надеть белое платье. Надеть белые гольфы, взять в руки ракетку. Игра в теннис среди желтой травы своеобразна. Мяч подпрыгивает, улетает невесть куда и возвращается из-за деревьев снова. Чья ракетка вернула его?
Чей взгляд наградил этот шарик теплом и призывом? В полете мяча есть прощальная плавность. Он парит над деревьями медленно, словно крошечный аэростат. Сверху ему видны оба играющих, но каждый из них закрыт друг от друга декорацией желтых кленов, красных дубов и зеленых сосен. Ток-ток. Удары ракеток. Ток-ток. Токката осенней игры. Что там видно еще с аэростата? Я бы хотела вот так же медленно и плавно лететь над осенним лесом, и пусть бы кое-кто, закинув голову, проводил меня изумленным взором...
И тут небо стало принимать формы прозрачных сводов, деревья преобразились в колонны, в огромном зале со всех сторон появились люди. Они были в прекрасных одеждах, и лица их были прекрасны. Говорили о чем-то сдержанно, и чаще всего до меня доносились слова: «Девятнадцатое октября...» Некоторое время они бродили беспорядочно, но потом соединились в стройную массу. Перед ними поставили прозрачный инструмент, чем-то напоминающий рояль, но больше похожий на птицу, а не только на ее крыло. К этому инструменту, прихрамывая, подошел знакомый мне человек и открыл крышку. Дирижер взмахнул палочкой, полилась музыка, и люди запели высокими чистыми голосами:
Роняет лес багряный свой убор.
Сребрит мороз увянувшее поле,
Проглянет день, как будто поневоле,
И скроется за край окружных гор.
Пылай, камин, в моей пустынной келье;
А ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук.
Печален я: со мною друга нет,
С кем долгую запил бы я разлуку,
Кому бы мог пожать от сердца руку
И пожелать веселых много лет.
Я пью один; вотще воображенье
Вокруг меня товарищей зовет;
Знакомое не слышно приближенье,
И милого душа моя не ждет... *
ОТ АВТОРА
На этом обрывается дневник. Я не пытался разыскивать героиню, хотя однажды встреча едва не случилась. Это было спустя год, такой же осенью, когда я снова приехал к друзьям за город. Черную дачу я нашел довольно легко, все сошлось с описанием. Даже заросли шпорника, имеющего второе название дельфиниум, толпились вокруг террасы, и несколько чудом уцелевших лепестков сухо трепетали на осеннем ветру.
Я проник в дом, и надо ли говорить о моем волненье, когда я увидел на столе письмо, оставленное, судя по всему, недавно. Кто-то побывал в доме перед моим приходом, и мне почудилось, что это она. Чувство не обмануло. Письмо было датировано нынешним днем и написано ее рукой. Чужих писем читать не принято, но во всей этой истории я уже не считал себя посторонним. Я прибавил письмо к дневнику, и вся повесть теперь получила свое завершение.
Я проник в дом, и надо ли говорить о моем волненье, когда я увидел на столе письмо, оставленное, судя по всему, недавно. Кто-то побывал в доме перед моим приходом, и мне почудилось, что это она. Чувство не обмануло. Письмо было датировано нынешним днем и написано ее рукой. Чужих писем читать не принято, но во всей этой истории я уже не считал себя посторонним. Я прибавил письмо к дневнику, и вся повесть теперь получила свое завершение.
Октябрь. Год спустя.
Черная дача
Любимый!
Это был сон, наваждение, мираж. Откуда ты приходил и где затерялся? Зачем подарила судьба эту встречу? Год миновал с той поры, как ты исчез без следа, но я знаю, я чувствую, сделал ты это не по своей воле.
Я кончила школу, поступила в университет. Мне было тяжело это время. Я долго болела, переживала. Кончилось детство, я стала взрослая. Тем летом я вела подробный дневник. Получилась целая повесть. Она не давала мне покоя. Я читала ее снова и снова, и наши дни возвращались ко мне с мучительной ясностью. Твое лицо преследовало меня в снах, твое имя встречалось повсюду. Во всем, что читала, слышала, видела, я искала сравнений. Но больше всего мучил дневник, неумолимый свидетель прекрасного и страшного лета. И я решила его сжечь. Веришь ли, когда положила тетрадку в костер, явственно увидела, как из нее медленно поднялась в небо прозрачная тень. Может быть, это была душа дневника, душа нашей любви?
Но это не помогло. Я беспрестанно думала о тебе, страдала. Твое исчезновение оказалось непосильной загадкой. Только недавно наступило успокоение. Я сказала себе: так надо судьбе — и перестала искать объяснений.
Рядом со мной теперь человек. Он напоминает тебя. Напоминает. В его жестах, движениях, словах я иногда угадываю твои. Вот почему он рядом. А ты? В какие миры переселился? Чем занят, о чем думаешь, вспоминаешь ли обо мне?
Кому я пишу? И зачем? Я пишу тебе, мой любимый. Я знаю, ты слышишь меня, только не можешь прийти. Нас разделяет непреодолимое. Неужели же навсегда? Нет, нет! Я живу надеждой. Я знаю, наступит час, когда я увижу тебя, услышу твой голос, сожму твои руки. Ты однажды назвал меня Единственной. Да, я всегда с тобой, и никто так тебя не полюбит, как я. Знай же об этом, живи и здравствуй.
Твоя М.
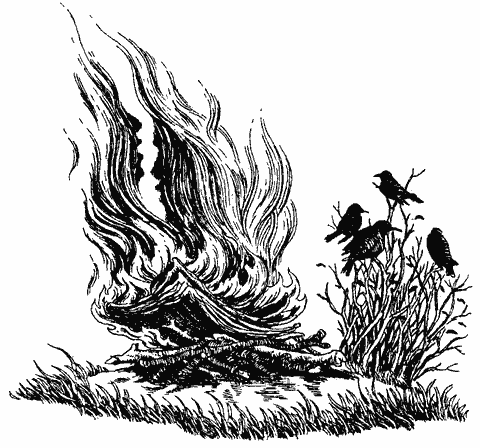
Это был сон, наваждение, мираж. Откуда ты приходил и где затерялся? Зачем подарила судьба эту встречу? Год миновал с той поры, как ты исчез без следа, но я знаю, я чувствую, сделал ты это не по своей воле.
Я кончила школу, поступила в университет. Мне было тяжело это время. Я долго болела, переживала. Кончилось детство, я стала взрослая. Тем летом я вела подробный дневник. Получилась целая повесть. Она не давала мне покоя. Я читала ее снова и снова, и наши дни возвращались ко мне с мучительной ясностью. Твое лицо преследовало меня в снах, твое имя встречалось повсюду. Во всем, что читала, слышала, видела, я искала сравнений. Но больше всего мучил дневник, неумолимый свидетель прекрасного и страшного лета. И я решила его сжечь. Веришь ли, когда положила тетрадку в костер, явственно увидела, как из нее медленно поднялась в небо прозрачная тень. Может быть, это была душа дневника, душа нашей любви?
Но это не помогло. Я беспрестанно думала о тебе, страдала. Твое исчезновение оказалось непосильной загадкой. Только недавно наступило успокоение. Я сказала себе: так надо судьбе — и перестала искать объяснений.
Рядом со мной теперь человек. Он напоминает тебя. Напоминает. В его жестах, движениях, словах я иногда угадываю твои. Вот почему он рядом. А ты? В какие миры переселился? Чем занят, о чем думаешь, вспоминаешь ли обо мне?
Кому я пишу? И зачем? Я пишу тебе, мой любимый. Я знаю, ты слышишь меня, только не можешь прийти. Нас разделяет непреодолимое. Неужели же навсегда? Нет, нет! Я живу надеждой. Я знаю, наступит час, когда я увижу тебя, услышу твой голос, сожму твои руки. Ты однажды назвал меня Единственной. Да, я всегда с тобой, и никто так тебя не полюбит, как я. Знай же об этом, живи и здравствуй.
Твоя М.