Страница:
Но черновик чего? «Теорийка»? Такого сочинения у Достоевского Ника что-то не припоминал. Хотя, конечно, он не специалист. Может быть, какой-нибудь набросок, не осуществленный замысел?
Дома в шкафу стоит академический 30-томник, полное собрание сочинений. Там эта «Теорийка» наверняка есть. Надо найти, принести сюда и сверить текст.
– Вы вот что, – севшим голосом сказал Фандорин. – Вы подождите тут. Кажется, это… Нет, я должен проверить. Скоро вернусь. Вы только не уходите.
Кажется, юноше его реакция показалась подозрительной. Посетитель быстро взял со стола рукопись и прижал к груди.
– Спокуха, – сказал он, сдвинув брови. – Я передумал. За тыщу не отдам. Рулета еще никто не кидал.
– Кого?
– Это я – Рулет, – назвался молодой человек – очевидно, фамилией или прозвищем.
– А я Николай Александрович, очень приятно. Послушайте, я не собираюсь вас обманывать, – волнуясь, стал объяснять Ника. – Просто нужно удостовериться… Если это то, что я думаю, то это… это будет..! Вы посидите пока тут. Я скоро.
Проходя мимо Вали, на всякий случай шепнул:
– Не выпускать. Ни под каким видом.
Та кивнула и загородила своим силиконовым бюстом дверной проем. Теперь сдвинуть с места ее можно было только бульдозером.
Две минуты ушло на то, чтобы спуститься во двор, пройти десять метров и снова подняться. И еще минут пять Ника стоял перед дверью собственного жилища, решая сложную проблему: позвонить или открыть ключом?
Всё это время изнутри лились печальные звуки грибоедовского вальса – то по-ученически робкие, то мастеровито-уверенные.
Алтын Мамаева, жена Николаса А. Фандорина, бывшего подданного ее величества и баронета, а ныне гражданина Российской Федерации, занималась музыкой с преподавателем. И не просто с преподавателем, а с самим Ростиславом Беккером, лауреатом всевозможных конкурсов, гордостью отечественной культуры.
Смотрите, что получается.
Первое. Красивый, знаменитый и богатый гений 5 (пять) дней в неделю таскается на Солянку, чтобы тратить свое баснословно драгоценное время на дилетантку, едва помнящую ноты.
Второе. Деловая женщина, шеф-редактор преуспевающего журнала, извечная трудоголичка, возвращающаяся с работы не раньше девяти вечера, каждый день находит полтора часа, чтобы заезжать домой на урок. Ни одного не пропустила. А время занятий, между прочим, такое, когда дома ни мужа, ни детей.
Третье. Алтын всегда говорила, что музыкальная школа, все эти Гедике и Майкопары – одно из худших воспоминаний ее детства.
Четвертое. Куплен за 5000 (пять тысяч!) долларов рояль «гербштадт».
Пятое. К тридцати пяти, войдя в самый лучший женский возраст, Алтын так сногсшибательно, так мучительно похорошела, что чертов Ростислав был бы просто идиот, если б не предложил такой ученице свои лучезарные уроки.
Вот к чему привело лестное знакомство со знаменитостью на журнальной презентации (будь она проклята). Алтын воспылала внезапной любовью к гармонии, лауреат увлекся преподаванием, а мелкий предприниматель сомнительного профиля Н.А. Фандорин лишился покоя.
Ладно, ничего особенного, сказал себе Ника, не накручивай себя. Обычные уроки музыки.
Но все-таки как войти? Если без звонка – получится, как будто подкрался. Но звонить к себе домой будет совсем странно. Или сказать, что забыл ключ?
В результате открыл дверь сам, но долго лязгал в замочной скважине и в прихожей нарочно произвел побольше шума.
На столике в коридоре лежали рядышком крошечный портфельчик звезды и большущий ридикюль Алтын. Известно, что статные мужчины любят маленькие сумки, а миниатюрные женщины – большие, но бедный Ника и в этом невинном зрелище усмотрел новый повод для самотерзаний.
Портфельчик был страусиной кожи и, наверное, стоил таких денег, какие «Страна советов» не зарабатывала и за месяц.
Во сколько обошелся змеиный ридикюль, страдалец понятия не имел, потому что не мог покупать супруге такие дорогие вещи – Алтын одаряла себя ими сама.
Увы, ПБОЮЛ (предприниматель без образования юридического лица) Фандорин был существенно беднее своей жены, и несравнимо беднее собственной секретарши. О чем обе ему постоянно напоминали, причем (что хуже всего) не коря, а материально поддерживая. Алтын, та покупала дорогие пиджаки и рубашки, да еще бессовестно врала про какие-то неслыханные распродажи по 499 рублей. Валя же взяла моду по всем мыслимым и немыслимым поводам делать шефу дорогие подарки. Зная его как облупленного, выбирала вещи, от которых Ника был не в силах отказаться. То преподнесет на 23 февраля чиновничью парадную шпагу с выгравированным инициалом «Ф» (вдруг принадлежала дедушке Эрасту Петровичу?!), то на 1 мая (ничего себе праздничек) добудет два билета на концерт рок-группы «Спаркс», которую Ника обожает со студенческих лет. А недавно, в День независимости, презентовала фальшивый испанский дублон 16 века. Официальное название монеты «экселенте», «дублоном» ее прозвали за дубль-портрет соправителей, Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. На реверсе слез тонкий слой позолоты и видно залитый внутрь свинец. Фантастическая вещица! Музейный экспонат, наверняка кучу денег стоит, но дело не в этом. Было в фальшивом дублоне что-то особенное. Когда требовалось сосредоточиться, Ника доставал монету из бумажника, вертел в пальцах, гладил неровную поверхность, и почти всегда помогало: проскакивала какая-то искорка, мысль поворачивала в правильном направлении, и решение приходило будто само собой. Есть такие энергозаряжающие артефакты, это давно известно. Они бывают универсального действия, а бывают и сугубо индивидуального. Несколько лет назад, проведя долгое, обстоятельное исследование, Ника установил, что старые нефритовые четки, доставшиеся ему по наследству, некогда принадлежали Эрасту Петровичу и служили гениальному сыщику для внерациональной концентрации мыслительной энергии. Нике дедовы бусы пользы не принесли – обычные зеленые камешки, ничего особенного. Зато поддельный дублон пришелся кстати.
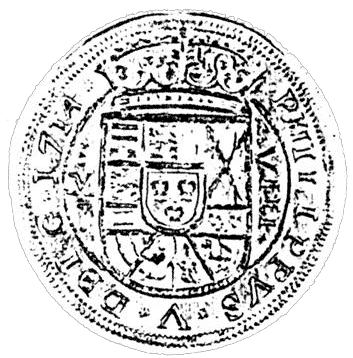 Дублон испанский
Дублон испанский
Вот и сейчас, готовясь к встрече с женой и ее учителем, он вертел в кармане фальшивое золото. Как себя вести? Что сказать?
Напомни ей про детей, ведь она мать, пришла в голову спасительная идея. Сразу и подходящее выражение лица образовалось: мягкое, но слегка встревоженное.
– Здрасьте, – вежливо, но немножко рассеянно (то есть именно так, как следовало) пожал он руку лауреату, который в ответ улыбнулся двусмысленной кошачьей улыбкой.
А жене Ника сказал:
– Я на минутку, надо кое-что посмотреть. – И вполголоса прибавил. – Слушай, нам нужно найти время – поговорить про Гелю. С ней что-то происходит. Может быть, вечером?
Пианист деликатно отвернулся, а лицо Алтын, раскрасневшееся (будем надеяться, только от музыки) и ужасно красивое, виновато дрогнуло – стрела попала в цель.
– Ты же знаешь, у меня в одиннадцать ночной тест-драйв.
Последние два года она возглавляла журнал «Хайхилз», еженедельник для женщин-автолюбительниц: минимум технических подробностей, максимум элегантности и практичности. Поработав сначала в политическом издании, потом в эротическом, Алтын нашла наконец занятие по душе. Никакой грязи, сплошь положительные эмоции плюс каждый месяц на обкатку новое авто, одно шикарней другого. О чем еще может мечтать современная деловая женщина?
– Да-да, конечно, я забыл, – с иезуитской кротостью кивнул Ника. Мол, ясное дело, музицирование важней родной дочери. – Ну, не буду мешать… Вы занимайтесь.
И пошел в комнату, к книжным полкам.
Посмотрел на свое отражение в стекле, поморщился. Ну что, Фома Опискин, добился своего, испортил жене удовольствие? А если она просто хочет научиться хорошо играть на фортепиано? Вдруг взяла и в тридцать пять лет впервые открыла для себя волшебный мир музыки?
Ведя пальцем по сводному алфавитному указателю произведений, включенных в ПСС Достоевского, он еще некоторое время поугрызался, потом взял себя в руки. Посмотрел снова, уже сосредоточившись.
Особенно изучать было нечего. На букву «Т» в указателе имелась одна-единственная позиция:
«Тайный совет., кн<язь> Д. Обол<енски>й» (1875; неосущ. замысел), XVII, 14, 250,443».
И всё, никакой «Теорийки».
Неужели…?!
Стоп, стоп, – осадил себя Ника. Не будем торопиться. Нужно просмотреть рукопись повнимательней. Скорее всего это черновик какой-нибудь работы, которая впоследствии получила другое название.
– Не ушел?
– Пробовал, – хладнокровно ответила Валя, поправлявшая у окна макияж. – Причем с применением насилия. Боксер долбаный. Пардон, я хотела сказать: «жалкий боксеришка». Одними руками много не намахаешь. Тэквондо покруче будет.
– Ты что, его побила? – горестно воскликнул Николас. – Ах, Валя, Валя, ну что мне с тобой делать!
Он заглянул в кабинет и увидел, что владелец уникальной рукописи сидит на корточках, держась обеими руками за промежность. Рукопись он прижимал к груди подбородком. Лицо у парня было бледное и злое.
– Моё, не отдам! – просипел он. – Суки!
– Никто не покушается на вашу собственность, – поспешил заверить его Фандорин. – Ради Бога, простите мою секретаршу. Это я виноват. Она поняла мою просьбу – не отпускать вас – слишком буквально. Но вы ведь, кажется, первый попытались ее ударить? Вот, выпейте воды и успокойтесь…
Он взял молодого человека за локоть, усадил в кресло.
– Если ваша рукопись – то, что я думаю, она поистине бесценна. Это национальное, нет, всемирное достояние! Но чтобы убедиться, я должен ее прочесть. Вы позволите?
– Хрена! – рявкнул Рулон, то есть Рулет, да-да, Рулет. – Гони тыщу, тогда дам. Только при мне.
– Да что у вас всё «тыща» да «тыща», – расстроился Ника. – Говорю вам: возможно, это культурное событие мирового значения! В самом деле, вам нужно выпить воды.
– Не надо мне воды! Где у вас тут сортир?
– За дверью, налево. Может быть, вы пока позволите мне взглянуть?..
Фандорин протянул руку за рукописью, наткнулся на красноречивый злобный взгляд и со вздохом вынул тысячерублевую бумажку. Лишь тогда Рулет сунул ему страницы.
– Только почитать. Вернусь – отдашь, – предупредил невоспитанный молодой человек и быстро вышел.
– Видишь, как ты его оскорбила, – посетовал Фандорин выглядывавшей из-за двери секретарше. – А вначале был такой славный.
Валя презрительно наморщила носик.
– Ничего, сейчас повеселеет.
– Почему ты так думаешь? – спросил Ника, разглаживая слегка примятый первый листок.
– Совершит подвиг – в смысле, подвинется в вену, и сразу станет сахарный.
Но Фандорин этих слов уже не слышал, он читал. Сначала разбирать почерк было трудновато, но довольно скоро глаза привыкли, и дело пошло быстрей.
Теорiйка
Глава первая
Глава вторая
Дома в шкафу стоит академический 30-томник, полное собрание сочинений. Там эта «Теорийка» наверняка есть. Надо найти, принести сюда и сверить текст.
– Вы вот что, – севшим голосом сказал Фандорин. – Вы подождите тут. Кажется, это… Нет, я должен проверить. Скоро вернусь. Вы только не уходите.
Кажется, юноше его реакция показалась подозрительной. Посетитель быстро взял со стола рукопись и прижал к груди.
– Спокуха, – сказал он, сдвинув брови. – Я передумал. За тыщу не отдам. Рулета еще никто не кидал.
– Кого?
– Это я – Рулет, – назвался молодой человек – очевидно, фамилией или прозвищем.
– А я Николай Александрович, очень приятно. Послушайте, я не собираюсь вас обманывать, – волнуясь, стал объяснять Ника. – Просто нужно удостовериться… Если это то, что я думаю, то это… это будет..! Вы посидите пока тут. Я скоро.
Проходя мимо Вали, на всякий случай шепнул:
– Не выпускать. Ни под каким видом.
Та кивнула и загородила своим силиконовым бюстом дверной проем. Теперь сдвинуть с места ее можно было только бульдозером.
* * *
Путь был не дальний – квартира находилась совсем рядом, в соседнем подъезде.Две минуты ушло на то, чтобы спуститься во двор, пройти десять метров и снова подняться. И еще минут пять Ника стоял перед дверью собственного жилища, решая сложную проблему: позвонить или открыть ключом?
Всё это время изнутри лились печальные звуки грибоедовского вальса – то по-ученически робкие, то мастеровито-уверенные.
Алтын Мамаева, жена Николаса А. Фандорина, бывшего подданного ее величества и баронета, а ныне гражданина Российской Федерации, занималась музыкой с преподавателем. И не просто с преподавателем, а с самим Ростиславом Беккером, лауреатом всевозможных конкурсов, гордостью отечественной культуры.
Смотрите, что получается.
Первое. Красивый, знаменитый и богатый гений 5 (пять) дней в неделю таскается на Солянку, чтобы тратить свое баснословно драгоценное время на дилетантку, едва помнящую ноты.
Второе. Деловая женщина, шеф-редактор преуспевающего журнала, извечная трудоголичка, возвращающаяся с работы не раньше девяти вечера, каждый день находит полтора часа, чтобы заезжать домой на урок. Ни одного не пропустила. А время занятий, между прочим, такое, когда дома ни мужа, ни детей.
Третье. Алтын всегда говорила, что музыкальная школа, все эти Гедике и Майкопары – одно из худших воспоминаний ее детства.
Четвертое. Куплен за 5000 (пять тысяч!) долларов рояль «гербштадт».
Пятое. К тридцати пяти, войдя в самый лучший женский возраст, Алтын так сногсшибательно, так мучительно похорошела, что чертов Ростислав был бы просто идиот, если б не предложил такой ученице свои лучезарные уроки.
Вот к чему привело лестное знакомство со знаменитостью на журнальной презентации (будь она проклята). Алтын воспылала внезапной любовью к гармонии, лауреат увлекся преподаванием, а мелкий предприниматель сомнительного профиля Н.А. Фандорин лишился покоя.
Ладно, ничего особенного, сказал себе Ника, не накручивай себя. Обычные уроки музыки.
Но все-таки как войти? Если без звонка – получится, как будто подкрался. Но звонить к себе домой будет совсем странно. Или сказать, что забыл ключ?
В результате открыл дверь сам, но долго лязгал в замочной скважине и в прихожей нарочно произвел побольше шума.
На столике в коридоре лежали рядышком крошечный портфельчик звезды и большущий ридикюль Алтын. Известно, что статные мужчины любят маленькие сумки, а миниатюрные женщины – большие, но бедный Ника и в этом невинном зрелище усмотрел новый повод для самотерзаний.
Портфельчик был страусиной кожи и, наверное, стоил таких денег, какие «Страна советов» не зарабатывала и за месяц.
Во сколько обошелся змеиный ридикюль, страдалец понятия не имел, потому что не мог покупать супруге такие дорогие вещи – Алтын одаряла себя ими сама.
Увы, ПБОЮЛ (предприниматель без образования юридического лица) Фандорин был существенно беднее своей жены, и несравнимо беднее собственной секретарши. О чем обе ему постоянно напоминали, причем (что хуже всего) не коря, а материально поддерживая. Алтын, та покупала дорогие пиджаки и рубашки, да еще бессовестно врала про какие-то неслыханные распродажи по 499 рублей. Валя же взяла моду по всем мыслимым и немыслимым поводам делать шефу дорогие подарки. Зная его как облупленного, выбирала вещи, от которых Ника был не в силах отказаться. То преподнесет на 23 февраля чиновничью парадную шпагу с выгравированным инициалом «Ф» (вдруг принадлежала дедушке Эрасту Петровичу?!), то на 1 мая (ничего себе праздничек) добудет два билета на концерт рок-группы «Спаркс», которую Ника обожает со студенческих лет. А недавно, в День независимости, презентовала фальшивый испанский дублон 16 века. Официальное название монеты «экселенте», «дублоном» ее прозвали за дубль-портрет соправителей, Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. На реверсе слез тонкий слой позолоты и видно залитый внутрь свинец. Фантастическая вещица! Музейный экспонат, наверняка кучу денег стоит, но дело не в этом. Было в фальшивом дублоне что-то особенное. Когда требовалось сосредоточиться, Ника доставал монету из бумажника, вертел в пальцах, гладил неровную поверхность, и почти всегда помогало: проскакивала какая-то искорка, мысль поворачивала в правильном направлении, и решение приходило будто само собой. Есть такие энергозаряжающие артефакты, это давно известно. Они бывают универсального действия, а бывают и сугубо индивидуального. Несколько лет назад, проведя долгое, обстоятельное исследование, Ника установил, что старые нефритовые четки, доставшиеся ему по наследству, некогда принадлежали Эрасту Петровичу и служили гениальному сыщику для внерациональной концентрации мыслительной энергии. Нике дедовы бусы пользы не принесли – обычные зеленые камешки, ничего особенного. Зато поддельный дублон пришелся кстати.
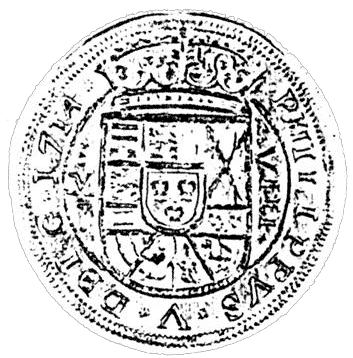
Вот и сейчас, готовясь к встрече с женой и ее учителем, он вертел в кармане фальшивое золото. Как себя вести? Что сказать?
Напомни ей про детей, ведь она мать, пришла в голову спасительная идея. Сразу и подходящее выражение лица образовалось: мягкое, но слегка встревоженное.
– Здрасьте, – вежливо, но немножко рассеянно (то есть именно так, как следовало) пожал он руку лауреату, который в ответ улыбнулся двусмысленной кошачьей улыбкой.
А жене Ника сказал:
– Я на минутку, надо кое-что посмотреть. – И вполголоса прибавил. – Слушай, нам нужно найти время – поговорить про Гелю. С ней что-то происходит. Может быть, вечером?
Пианист деликатно отвернулся, а лицо Алтын, раскрасневшееся (будем надеяться, только от музыки) и ужасно красивое, виновато дрогнуло – стрела попала в цель.
– Ты же знаешь, у меня в одиннадцать ночной тест-драйв.
Последние два года она возглавляла журнал «Хайхилз», еженедельник для женщин-автолюбительниц: минимум технических подробностей, максимум элегантности и практичности. Поработав сначала в политическом издании, потом в эротическом, Алтын нашла наконец занятие по душе. Никакой грязи, сплошь положительные эмоции плюс каждый месяц на обкатку новое авто, одно шикарней другого. О чем еще может мечтать современная деловая женщина?
– Да-да, конечно, я забыл, – с иезуитской кротостью кивнул Ника. Мол, ясное дело, музицирование важней родной дочери. – Ну, не буду мешать… Вы занимайтесь.
И пошел в комнату, к книжным полкам.
Посмотрел на свое отражение в стекле, поморщился. Ну что, Фома Опискин, добился своего, испортил жене удовольствие? А если она просто хочет научиться хорошо играть на фортепиано? Вдруг взяла и в тридцать пять лет впервые открыла для себя волшебный мир музыки?
Ведя пальцем по сводному алфавитному указателю произведений, включенных в ПСС Достоевского, он еще некоторое время поугрызался, потом взял себя в руки. Посмотрел снова, уже сосредоточившись.
Особенно изучать было нечего. На букву «Т» в указателе имелась одна-единственная позиция:
«Тайный совет., кн<язь> Д. Обол<енски>й» (1875; неосущ. замысел), XVII, 14, 250,443».
И всё, никакой «Теорийки».
Неужели…?!
Стоп, стоп, – осадил себя Ника. Не будем торопиться. Нужно просмотреть рукопись повнимательней. Скорее всего это черновик какой-нибудь работы, которая впоследствии получила другое название.
* * *
Тем не менее в офис он ворвался запыхавшись – ни одним, ни другим лифтом не воспользовался, терпения не хватило.– Не ушел?
– Пробовал, – хладнокровно ответила Валя, поправлявшая у окна макияж. – Причем с применением насилия. Боксер долбаный. Пардон, я хотела сказать: «жалкий боксеришка». Одними руками много не намахаешь. Тэквондо покруче будет.
– Ты что, его побила? – горестно воскликнул Николас. – Ах, Валя, Валя, ну что мне с тобой делать!
Он заглянул в кабинет и увидел, что владелец уникальной рукописи сидит на корточках, держась обеими руками за промежность. Рукопись он прижимал к груди подбородком. Лицо у парня было бледное и злое.
– Моё, не отдам! – просипел он. – Суки!
– Никто не покушается на вашу собственность, – поспешил заверить его Фандорин. – Ради Бога, простите мою секретаршу. Это я виноват. Она поняла мою просьбу – не отпускать вас – слишком буквально. Но вы ведь, кажется, первый попытались ее ударить? Вот, выпейте воды и успокойтесь…
Он взял молодого человека за локоть, усадил в кресло.
– Если ваша рукопись – то, что я думаю, она поистине бесценна. Это национальное, нет, всемирное достояние! Но чтобы убедиться, я должен ее прочесть. Вы позволите?
– Хрена! – рявкнул Рулон, то есть Рулет, да-да, Рулет. – Гони тыщу, тогда дам. Только при мне.
– Да что у вас всё «тыща» да «тыща», – расстроился Ника. – Говорю вам: возможно, это культурное событие мирового значения! В самом деле, вам нужно выпить воды.
– Не надо мне воды! Где у вас тут сортир?
– За дверью, налево. Может быть, вы пока позволите мне взглянуть?..
Фандорин протянул руку за рукописью, наткнулся на красноречивый злобный взгляд и со вздохом вынул тысячерублевую бумажку. Лишь тогда Рулет сунул ему страницы.
– Только почитать. Вернусь – отдашь, – предупредил невоспитанный молодой человек и быстро вышел.
– Видишь, как ты его оскорбила, – посетовал Фандорин выглядывавшей из-за двери секретарше. – А вначале был такой славный.
Валя презрительно наморщила носик.
– Ничего, сейчас повеселеет.
– Почему ты так думаешь? – спросил Ника, разглаживая слегка примятый первый листок.
– Совершит подвиг – в смысле, подвинется в вену, и сразу станет сахарный.
Но Фандорин этих слов уже не слышал, он читал. Сначала разбирать почерк было трудновато, но довольно скоро глаза привыкли, и дело пошло быстрей.
Теорiйка
Петербургская повѣсть
Сочиненiе Ѳ. Достоевскаго
Глава первая
А может и к лучшему
В понедельник с самого утра Порфирий Петрович занимался делом хлопотным, но небесприятным – обустраивал казенную квартиру, вплотную примыкавшую к его служебному кабинету (удобнейшая вещь!). Кое-что надобно было подправить и подкрасить, прибавить уютца, а самое головоломное – найти место для книг, покамест лежавших в коробках. Прежний жилец обходился одним-единственным шкапом, в котором содержались лишь пыльные тома с законоуложениями, новый же обитатель любил не только юридическое, но и вольное чтение, так что пришлось заказывать столяру два десятка поместительных полок, которые только нынче прибыли и устанавливались на место.
С наслаждением вдыхая запах стружки и свежего лака, надворный советник (таков был чин новосела) аж примурлыкивал от удовольствия, собственноручно расставляя по рядам сочинения Декарта и Мирандолы, томики Лермонтова и Пушкина, равно как и новейшие сочинения европейских литераторов – Стендаля, Диккенса, Гете, ибо был обучен трем главнейшим европейским языкам, не считая древних.
Порфирий Петрович, шесть дней назад определенный приставом следственных дел в Казанскую часть Санкт-Петербурга{2}, был собой не сказать чтобы красив или хотя бы представителен. Росту пониже среднего, полноватый и даже с брюшком, без усов и без бакенбард, с плотно выстриженными волосами на большой круглой голове, как-то особенно выпукло закругленной на затылке. Пухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета больного, темно-желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое. Оно выглядело бы, пожалуй, даже и добродушным, если бы не выражение глаз, с каким-то жидким водянистым блеском, прикрытых почти белыми, моргающими, точно подмигивая кому, ресницами. Взгляд этих глаз как-то странно не гармонировал со всею фигурой, имевшею в себе даже что-то бабье. Однако же те, кто знал Порфирия Петровича по службе, не обманывались округлостью его неспешных движений и плавной вкрадчивостью речей. Да и новые сослуживцы уж успели заметить, что человек он толковый, хотя и не без странностей.
Приятности забот по обустройству квартиры мешало лишь одно обстоятельство – утомительнейшая, нечасто обрушивающаяся на столицу жара, чуть не в сорок градусов. Порфирий Петрович сам прикрепил к оконной раме отличный немецкий градусник, показывавший температуру и по Реомюру, и по Цельсию, с досадою понаблюдал за тем, как ползет кверху серебристый столбик, и вздохнул, увидев, что сие восхождение остановилось, чуть-чуть не дойдя до отметки 38.
Индейца бы сейчас с опахалом, как у англичан в Калькутте, мимолетно подумал Порфирий Петрович, отроду ни в Калькутте, ни в прочих заграницах не бывавший. За неимением в штатном расписании Казанской части услужливых индейцев надворный советник решил, что пора отправляться на вольную квартирку, которую до окончания ремонта он снимал неподалеку от съезжего дома, здесь же, на Офицерской улице. Там в ванной комнате ожидал наполненный водою чан и на цепке отменно удобная лейка, какой можно отлично поливаться, не прибегая к посторонней помощи. Порфирий Петрович, среди прочих своих чудачеств, не держал никакой прислуги и всегда обихаживал себя сам, так что ежели пресловутый индеец откуда-нибудь и взялся бы, махать опахалом ему бы не дозволили.
Взяв в руку шляпу и надев поверх пропахшей потом рубашки сюртук, пристав прошел через небольшой коридорчик в кабинет, откуда удобнее было попасть на улицу, однако дверь в следующую комнату, приемную, открыть не поспел – створки сами распахнулись ему навстречу. На Порфирия Петровича, едва не сшибив его с ног, налетел распаренный молодой человек, которого надворный советник тотчас признал. Это был Заметов, письмоводитель из третьего квартала. Заметова и прочих квартальных чиновников новый следственный пристав видел на прошлой неделе, когда обходил полицейские конторы подведомственной территории с целью знакомства.
Вот ведь странно. Ничего отталкивающего и тем более пугающего во внешности Заметова не было, а между тем, едва взглянув на его лицо, Порфирий Петрович ощутил очень неприятный спазм в сердце, стиснувшемся от скверного предчувствия.
Хотя, с другой стороны, что ж странного? Если полицейский чиновник в неурочное время без стука врывается в кабинет пристава следственных дел, хорошего не жди.
– Пардон! – вскричал Заметов, отскакивая несколько назад. – Виноват, зашиб! Ваше высоко…благородие! Ваше высокоблаго…родие!
Бедняга так запыхался, что едва мог говорить, и длинное слово никак ему не давалось.
Но Порфирий Петрович уже понял – приключилось нечто из ряда вон выходящее, и принял меры. Взял письмоводителя за руку, крепко тряхнул.
– Вы Заметов из третьего, верно-с? Вы уж меня извольте без титулования-с, просто «Порфирий Петрович». Помилуйте-с, мы же не в армии. Виноват, вашего имени-отчества не припомню?
– Александр… Григорьевич, – вымолвил чиновник, переводя дух.
Это был очень молодой человек, лет двадцати двух, с смуглою и подвижною физиономией, казавшеюся старее своих лет, одетый по моде и фатом, с пробором на затылке, расчесанный и распомаженный, со множеством перстней и колец на белых отчищенных щетками пальцах и золотыми цепями на жилете.
– Ну что там у вас в Столярном стряслось, рассказывайте, – велел пристав (в Столярном переулке располагалась полицейская контора третьего квартала).
– Меня к вам квартальный, Никодим Фомич! Сам-то он там! – опять заволновался, заневнятничал Александр Григорьевич да вдруг как крикнет. – Убили! Злодейским образом! Сразу двоих! Нет, то есть не двоих, а…
Он смешался, захлебнувшись словами. Пристав же на миг смежил желтоватые припухлые веки и меленько перекрестился. Не обмануло предчувствие-то.
– Вы вот что-с, – тонким пронзительным голосом сказал надворный советник, крепко взяв Заметова за рукав и ведя к столу, где стоял графин с водой. – Вы перво-наперво выпейте воды-с… Вот так-с. А теперь сядьте в кресло и по порядку-с, по-порядку-с. Кого убили, где, кто?
Выпив воды и усевшись, Александр Григорьевич немного успокоился, и оказалось, что он умеет говорить и связно, и толково.
– На Екатерингофском, процентщицу Шелудякову, в собственной квартире. Ударом по голове. Я хотел уж домой, а тут такое дело. Побежал за вами. Сначала в ту вашу квартиру, там никого, так я сюда. Вдруг, думаю, еще на службе застану…
– Убили злодейским образом? С целью ограбления? – не спросил, а как бы сам себе сказал Порфирий Петрович.
Теперь волнение письмоводителя сделалось понятно.
Шумные и грязные кварталы, расположенные вдоль берегов Екатерининской канавы, никогда не отличались благочинием и беспорочностью. Чем ближе к нехорошей Сенной площади (по счастию, относившейся к соседней Спасской части), тем гуще лепились трактиры, распивочные и порочные заведения. Пьяные драки, воровство, мелкое фармазонство и прочие подобные неприятности, неизбежные во всяком большом городе, здесь случались ежедневно. Бывало, что и прибьют кого до смерти, спьяну или в ссоре. Но душегубства злодейские, с предварительным умыслом, здесь случались нечасто. Вполне вероятно, что впервые на недолгой служебной памяти юного Александра Григорьевича. Сколько пристав помнил статистику, за целый минувший год в Санкт-Петербурге, во всех десяти его частях, умышленных смертоубийств случилось пятнадцать. И каждое раскрыто, потому что русский убийца – это вам не англичанин какой-нибудь, который убивает с холодной головы и после так концы спрячет, что не сыщешь. Русский злодей горяч и нерасчетлив, крушит на авось. Не попадется сразу – пойдет в кабак и проболтается спьяну первому собутыльнику. Или же наутро протрезвится, схватится за голову да побежит сам сдаваться: мол, хватайте меня, православные, я убил!
Агентов по кабакам нарядить, это самое первое, заметил себе Порфирий Петрович. Далее – следы на месте злодеяния. Ну и соседей, конечно, расспросить.
Ох, беда, беда. Не успел толком в должность заступить, еще не от всех доброжелателей поздравления принял, а уже умышленное убийство. Не опростоволоситься бы.
Мысль была вроде тревожная, а в то же время и не вовсе неприятная. Надворный советник ощутил знакомое азартное щекотание в носу, потому что по складу характера любил разгадывать мудреные задачки и более всего преисполнялся жизни, когда расследовал какое-нибудь заковыристое дело.
– Постойте-с, – встрепенулся он вдруг. – Вы сказали «сразу двоих»? Я не ослышался? Двоих убили-с? – В нетерпении он отобрал у снова принявшегося пить воду Заметова стакан. – Да говорите же!
– Убивали двух, а убили одну, – не очень понятно начал объяснять Александр Григорьевич, но тут же поправился. – Алена Ивановна, процентщица эта, с сестрой проживает. Так вот сестру тоже по голове стукнули, но не насмерть, оглушили только. В Обуховскую свезли. Наш поручик Илья Петрович хотел немедленно бежать, допросить, но капитан не дал. Не наше, говорит, дело. Это, говорит, пускай следственный пристав.
 Обуховский больница
Обуховский больница
– Очень, очень верно рассудил почтеннейший Никодим Фомич!
Надворный советник просветлел лицом – сразу по двум причинам. Во-первых, преступление все-таки оказалось не европейское, а русское, на авось. А во-вторых, живой свидетель – это совсем другое дело. Всё обрисует, всё расскажет, укажет на преступника, а там объявляй голубчика в розыск, и дальнейшее не наше дело, пускай полиция ищет.
Выходило, что а может оно и к лучшему. Не успел новый следственный пристав вступить в должность и тут же, в первую неделю, раскрыл умышленное убийство с ограблением. Начальству ведь все равно – был свидетель, не было, лишь бы дело закрыть и отрапортовать. Так вот вам, извольте-с. Очень недурно выйдет и для формулярного списка, и в смысле репутации{3}.
Однако окрыленность мыслей осеняла Порфирия Петровича недолго. Когда они с письмоводителем вышли на улицу, чтоб направиться в Обуховскую больницу, надворного советника ударила новая мысль, тревожная.
– А она сильно зашиблена, сестра эта? Не помрет-с?
– Этого сказать не могу. Ее когда увозили, в беспамятстве была. Процентщицу-то одним ударом, наповал. А у Лизаветы голова, что ли, крепкая. Или вскользь пришлось. Виноват, не скажу.
Александр Григорьевич развел руками, и у пристава снова тоскливо сжалось сердце.
Уже не обращая внимания на жару, он несолидной рысцой припустил вдоль улицы, Заметов за ним.
На углу Сенной пришлось остановиться, чтоб перевести дух, потому что одутловатый Порфирий Петрович совсем запыхался. Шумно вдыхая воздух и держась за бок, думал: здоровье ни к черту. Раньше бы – подумаешь, верстенку пробежать. Разумеется, лета уже не юные, однако иные в тридцать пять вон какими селезнями, а у нас извольте – сердце подорвано крепким кофеем да бессчетными папиросами, в желудке изжога от холостяковского питания, и от него же геморроидальная, mille pardons, шишка. Надобно, надобно записаться в заведение Клевезала, что у Синего моста. Все хвалят. Даже тайные советники туда ходят – делать шведскую диэтическую гимнастику. Говорят, помогает.
Посокрушался так не долее минуты, потом побежали дальше и очень скоро уже шагали по длинному больничному коридору, выкрашенному тоскливой гороховой краской.
Потребовали к себе доктора.
Тот вышел, устало потирая переносицу. На заданный дрожащим голосом вопрос: «Скажите-с, жива ль доставленная полицией Лизавета Шелудякова? И ежели жива, не пришла ли в память?» – ответил, что отлично жива, от удара оправилась, ибо ушиб невелик, и говорить вполне может.
С наслаждением вдыхая запах стружки и свежего лака, надворный советник (таков был чин новосела) аж примурлыкивал от удовольствия, собственноручно расставляя по рядам сочинения Декарта и Мирандолы, томики Лермонтова и Пушкина, равно как и новейшие сочинения европейских литераторов – Стендаля, Диккенса, Гете, ибо был обучен трем главнейшим европейским языкам, не считая древних.
Порфирий Петрович, шесть дней назад определенный приставом следственных дел в Казанскую часть Санкт-Петербурга{2}, был собой не сказать чтобы красив или хотя бы представителен. Росту пониже среднего, полноватый и даже с брюшком, без усов и без бакенбард, с плотно выстриженными волосами на большой круглой голове, как-то особенно выпукло закругленной на затылке. Пухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета больного, темно-желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое. Оно выглядело бы, пожалуй, даже и добродушным, если бы не выражение глаз, с каким-то жидким водянистым блеском, прикрытых почти белыми, моргающими, точно подмигивая кому, ресницами. Взгляд этих глаз как-то странно не гармонировал со всею фигурой, имевшею в себе даже что-то бабье. Однако же те, кто знал Порфирия Петровича по службе, не обманывались округлостью его неспешных движений и плавной вкрадчивостью речей. Да и новые сослуживцы уж успели заметить, что человек он толковый, хотя и не без странностей.
Приятности забот по обустройству квартиры мешало лишь одно обстоятельство – утомительнейшая, нечасто обрушивающаяся на столицу жара, чуть не в сорок градусов. Порфирий Петрович сам прикрепил к оконной раме отличный немецкий градусник, показывавший температуру и по Реомюру, и по Цельсию, с досадою понаблюдал за тем, как ползет кверху серебристый столбик, и вздохнул, увидев, что сие восхождение остановилось, чуть-чуть не дойдя до отметки 38.
Индейца бы сейчас с опахалом, как у англичан в Калькутте, мимолетно подумал Порфирий Петрович, отроду ни в Калькутте, ни в прочих заграницах не бывавший. За неимением в штатном расписании Казанской части услужливых индейцев надворный советник решил, что пора отправляться на вольную квартирку, которую до окончания ремонта он снимал неподалеку от съезжего дома, здесь же, на Офицерской улице. Там в ванной комнате ожидал наполненный водою чан и на цепке отменно удобная лейка, какой можно отлично поливаться, не прибегая к посторонней помощи. Порфирий Петрович, среди прочих своих чудачеств, не держал никакой прислуги и всегда обихаживал себя сам, так что ежели пресловутый индеец откуда-нибудь и взялся бы, махать опахалом ему бы не дозволили.
Взяв в руку шляпу и надев поверх пропахшей потом рубашки сюртук, пристав прошел через небольшой коридорчик в кабинет, откуда удобнее было попасть на улицу, однако дверь в следующую комнату, приемную, открыть не поспел – створки сами распахнулись ему навстречу. На Порфирия Петровича, едва не сшибив его с ног, налетел распаренный молодой человек, которого надворный советник тотчас признал. Это был Заметов, письмоводитель из третьего квартала. Заметова и прочих квартальных чиновников новый следственный пристав видел на прошлой неделе, когда обходил полицейские конторы подведомственной территории с целью знакомства.
Вот ведь странно. Ничего отталкивающего и тем более пугающего во внешности Заметова не было, а между тем, едва взглянув на его лицо, Порфирий Петрович ощутил очень неприятный спазм в сердце, стиснувшемся от скверного предчувствия.
Хотя, с другой стороны, что ж странного? Если полицейский чиновник в неурочное время без стука врывается в кабинет пристава следственных дел, хорошего не жди.
– Пардон! – вскричал Заметов, отскакивая несколько назад. – Виноват, зашиб! Ваше высоко…благородие! Ваше высокоблаго…родие!
Бедняга так запыхался, что едва мог говорить, и длинное слово никак ему не давалось.
Но Порфирий Петрович уже понял – приключилось нечто из ряда вон выходящее, и принял меры. Взял письмоводителя за руку, крепко тряхнул.
– Вы Заметов из третьего, верно-с? Вы уж меня извольте без титулования-с, просто «Порфирий Петрович». Помилуйте-с, мы же не в армии. Виноват, вашего имени-отчества не припомню?
– Александр… Григорьевич, – вымолвил чиновник, переводя дух.
Это был очень молодой человек, лет двадцати двух, с смуглою и подвижною физиономией, казавшеюся старее своих лет, одетый по моде и фатом, с пробором на затылке, расчесанный и распомаженный, со множеством перстней и колец на белых отчищенных щетками пальцах и золотыми цепями на жилете.
– Ну что там у вас в Столярном стряслось, рассказывайте, – велел пристав (в Столярном переулке располагалась полицейская контора третьего квартала).
– Меня к вам квартальный, Никодим Фомич! Сам-то он там! – опять заволновался, заневнятничал Александр Григорьевич да вдруг как крикнет. – Убили! Злодейским образом! Сразу двоих! Нет, то есть не двоих, а…
Он смешался, захлебнувшись словами. Пристав же на миг смежил желтоватые припухлые веки и меленько перекрестился. Не обмануло предчувствие-то.
– Вы вот что-с, – тонким пронзительным голосом сказал надворный советник, крепко взяв Заметова за рукав и ведя к столу, где стоял графин с водой. – Вы перво-наперво выпейте воды-с… Вот так-с. А теперь сядьте в кресло и по порядку-с, по-порядку-с. Кого убили, где, кто?
Выпив воды и усевшись, Александр Григорьевич немного успокоился, и оказалось, что он умеет говорить и связно, и толково.
– На Екатерингофском, процентщицу Шелудякову, в собственной квартире. Ударом по голове. Я хотел уж домой, а тут такое дело. Побежал за вами. Сначала в ту вашу квартиру, там никого, так я сюда. Вдруг, думаю, еще на службе застану…
– Убили злодейским образом? С целью ограбления? – не спросил, а как бы сам себе сказал Порфирий Петрович.
Теперь волнение письмоводителя сделалось понятно.
Шумные и грязные кварталы, расположенные вдоль берегов Екатерининской канавы, никогда не отличались благочинием и беспорочностью. Чем ближе к нехорошей Сенной площади (по счастию, относившейся к соседней Спасской части), тем гуще лепились трактиры, распивочные и порочные заведения. Пьяные драки, воровство, мелкое фармазонство и прочие подобные неприятности, неизбежные во всяком большом городе, здесь случались ежедневно. Бывало, что и прибьют кого до смерти, спьяну или в ссоре. Но душегубства злодейские, с предварительным умыслом, здесь случались нечасто. Вполне вероятно, что впервые на недолгой служебной памяти юного Александра Григорьевича. Сколько пристав помнил статистику, за целый минувший год в Санкт-Петербурге, во всех десяти его частях, умышленных смертоубийств случилось пятнадцать. И каждое раскрыто, потому что русский убийца – это вам не англичанин какой-нибудь, который убивает с холодной головы и после так концы спрячет, что не сыщешь. Русский злодей горяч и нерасчетлив, крушит на авось. Не попадется сразу – пойдет в кабак и проболтается спьяну первому собутыльнику. Или же наутро протрезвится, схватится за голову да побежит сам сдаваться: мол, хватайте меня, православные, я убил!
Агентов по кабакам нарядить, это самое первое, заметил себе Порфирий Петрович. Далее – следы на месте злодеяния. Ну и соседей, конечно, расспросить.
Ох, беда, беда. Не успел толком в должность заступить, еще не от всех доброжелателей поздравления принял, а уже умышленное убийство. Не опростоволоситься бы.
Мысль была вроде тревожная, а в то же время и не вовсе неприятная. Надворный советник ощутил знакомое азартное щекотание в носу, потому что по складу характера любил разгадывать мудреные задачки и более всего преисполнялся жизни, когда расследовал какое-нибудь заковыристое дело.
– Постойте-с, – встрепенулся он вдруг. – Вы сказали «сразу двоих»? Я не ослышался? Двоих убили-с? – В нетерпении он отобрал у снова принявшегося пить воду Заметова стакан. – Да говорите же!
– Убивали двух, а убили одну, – не очень понятно начал объяснять Александр Григорьевич, но тут же поправился. – Алена Ивановна, процентщица эта, с сестрой проживает. Так вот сестру тоже по голове стукнули, но не насмерть, оглушили только. В Обуховскую свезли. Наш поручик Илья Петрович хотел немедленно бежать, допросить, но капитан не дал. Не наше, говорит, дело. Это, говорит, пускай следственный пристав.

– Очень, очень верно рассудил почтеннейший Никодим Фомич!
Надворный советник просветлел лицом – сразу по двум причинам. Во-первых, преступление все-таки оказалось не европейское, а русское, на авось. А во-вторых, живой свидетель – это совсем другое дело. Всё обрисует, всё расскажет, укажет на преступника, а там объявляй голубчика в розыск, и дальнейшее не наше дело, пускай полиция ищет.
Выходило, что а может оно и к лучшему. Не успел новый следственный пристав вступить в должность и тут же, в первую неделю, раскрыл умышленное убийство с ограблением. Начальству ведь все равно – был свидетель, не было, лишь бы дело закрыть и отрапортовать. Так вот вам, извольте-с. Очень недурно выйдет и для формулярного списка, и в смысле репутации{3}.
Однако окрыленность мыслей осеняла Порфирия Петровича недолго. Когда они с письмоводителем вышли на улицу, чтоб направиться в Обуховскую больницу, надворного советника ударила новая мысль, тревожная.
– А она сильно зашиблена, сестра эта? Не помрет-с?
– Этого сказать не могу. Ее когда увозили, в беспамятстве была. Процентщицу-то одним ударом, наповал. А у Лизаветы голова, что ли, крепкая. Или вскользь пришлось. Виноват, не скажу.
Александр Григорьевич развел руками, и у пристава снова тоскливо сжалось сердце.
Уже не обращая внимания на жару, он несолидной рысцой припустил вдоль улицы, Заметов за ним.
На углу Сенной пришлось остановиться, чтоб перевести дух, потому что одутловатый Порфирий Петрович совсем запыхался. Шумно вдыхая воздух и держась за бок, думал: здоровье ни к черту. Раньше бы – подумаешь, верстенку пробежать. Разумеется, лета уже не юные, однако иные в тридцать пять вон какими селезнями, а у нас извольте – сердце подорвано крепким кофеем да бессчетными папиросами, в желудке изжога от холостяковского питания, и от него же геморроидальная, mille pardons, шишка. Надобно, надобно записаться в заведение Клевезала, что у Синего моста. Все хвалят. Даже тайные советники туда ходят – делать шведскую диэтическую гимнастику. Говорят, помогает.
Посокрушался так не долее минуты, потом побежали дальше и очень скоро уже шагали по длинному больничному коридору, выкрашенному тоскливой гороховой краской.
Потребовали к себе доктора.
Тот вышел, устало потирая переносицу. На заданный дрожащим голосом вопрос: «Скажите-с, жива ль доставленная полицией Лизавета Шелудякова? И ежели жива, не пришла ли в память?» – ответил, что отлично жива, от удара оправилась, ибо ушиб невелик, и говорить вполне может.
Глава вторая
Пустое-с
Удивительная вещь. Пока Порфирий Петрович пребывал в опасении, что свидетельница помрет, не успев ничего рассказать, он и спешил, и суетился, бежал со всех ног по духоте, так что не только себя, но и гораздо более юного Александра Григорьевича в пот вогнал. Услышав же от доктора, что свидетельница совершенно благополучна и может сей же час быть допрошена, надворный советник всю свою ажитированность потерял, а напротив сделался как-то вял и задумчив.
– Скажите-с, дружочек, – молвил он вполголоса, беря Заметова под локоть и уводя в сторону, к окошку, – какова она, эта Лизавета? Она ведь жительница вашего квартала, так, может, вы ее и прежде-с знавали?
Письмоводитель с разгона еще переминался с ноги на ногу и рвался бежать дальше, к цели.
– Знать хорошо не знаю, а видел, – торопливо сказал он, оглядываясь в сторону палат (доктор разъяснил, что ушибленную Шелудякову поместили в нумер двенадцатый). – В конторе. По делу о сдании младенца в Воспитательный дом. Идемте же, что вы?
Но пристав никуда не пошел, а вместо этого зевнул, прикрыв рот ладошкой, да еще и уселся на широкий подоконник, заболтал своими коротковатыми ножками.
– В Воспитательный-с? – уютно изумился он. – Это девица-то?
Увидев, что спешки более нет, полицейский письмоводитель приготовился рассказывать.
– Вы не подумайте ничего такого, Порфирий Петрович. Она, Лизавета эта, баба добрая и честная, никто про нее дурного не скажет. Вот сестра ее, покойная Алена Ивановна, та была истинная пиявища, навряд кто по ней заплачет. Вдвоем они проживали, на Екатерингофском. На ростовщичестве много нажиться можно, особенно если сердца не иметь, а у Алены Ивановны этот орган навовсе отсутствовал. Жила она скудно, копеечничала, а сама богатая была.
– Теперь, стало быть, сестрице ее достанется, – понимающе кивнул Порфирий Петрович.
– Э, нет. Про старуху известно, что она всё состояние монастырю какому-то отписала, много раз прилюдно этим хвасталась.
– Ну, это, может, похвальба одна, а никакого завещания в природе не существует-с. Старухи, особливо жадные, удивительно неохочи духовную писать. Желают проживать вечно-с. Так что, очень возможно, ушибленная Лизавета через смерть сестрицы обогатится.
– Скажите-с, дружочек, – молвил он вполголоса, беря Заметова под локоть и уводя в сторону, к окошку, – какова она, эта Лизавета? Она ведь жительница вашего квартала, так, может, вы ее и прежде-с знавали?
Письмоводитель с разгона еще переминался с ноги на ногу и рвался бежать дальше, к цели.
– Знать хорошо не знаю, а видел, – торопливо сказал он, оглядываясь в сторону палат (доктор разъяснил, что ушибленную Шелудякову поместили в нумер двенадцатый). – В конторе. По делу о сдании младенца в Воспитательный дом. Идемте же, что вы?
Но пристав никуда не пошел, а вместо этого зевнул, прикрыв рот ладошкой, да еще и уселся на широкий подоконник, заболтал своими коротковатыми ножками.
– В Воспитательный-с? – уютно изумился он. – Это девица-то?
Увидев, что спешки более нет, полицейский письмоводитель приготовился рассказывать.
– Вы не подумайте ничего такого, Порфирий Петрович. Она, Лизавета эта, баба добрая и честная, никто про нее дурного не скажет. Вот сестра ее, покойная Алена Ивановна, та была истинная пиявища, навряд кто по ней заплачет. Вдвоем они проживали, на Екатерингофском. На ростовщичестве много нажиться можно, особенно если сердца не иметь, а у Алены Ивановны этот орган навовсе отсутствовал. Жила она скудно, копеечничала, а сама богатая была.
– Теперь, стало быть, сестрице ее достанется, – понимающе кивнул Порфирий Петрович.
– Э, нет. Про старуху известно, что она всё состояние монастырю какому-то отписала, много раз прилюдно этим хвасталась.
– Ну, это, может, похвальба одна, а никакого завещания в природе не существует-с. Старухи, особливо жадные, удивительно неохочи духовную писать. Желают проживать вечно-с. Так что, очень возможно, ушибленная Лизавета через смерть сестрицы обогатится.
