Страница:
Александр Александрович Формозов
Рассказы об учёных
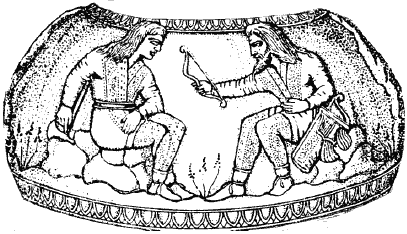
От автора
Мой отец был зоологом, профессором Московского университета, мать – геохимиком, сотрудником Академии наук. Сам я окончил кафедру археологии Исторического факультета МГУ. Вся моя жизнь прошла в кругу людей, работавших в исследовательских институтах, вузах, музеях, библиотеках. К счастью, я встречался и с совсем другими людьми, прежде всего во время экспедиций и командировок, когда забирался в глухие углы Казахстана и Средней Азии, Сибири и Европейского Севера, Украины и Кавказа. Благодаря этому я смог объективно оценить плюсы и минусы взрастившей и воспитавшей меня интеллигентской среды.
В мои студенческие годы о науке говорили и писали очень много. То был период «борьбы за приоритеты», утверждения всюду и везде «одной, единственно правильной точки зрения». Ученые должны были выявить её, а в дальнейшем, следуя ей неукоснительно, не допускать развития каких-либо иных теорий. Выходившая тогда литература по истории науки наделяла своих героев иконописными чертами. Они всё знали заранее, уверенно продвигались вперёд и без колебаний извлекали при опытах желанную абсолютную истину. Разрешалось им лишь небольшое чудачество: например, в биографии A.M. Бутлерова позволительно было упомянуть про его любовь к пчеловодству, но отнюдь не о занятиях спиритизмом.
Даже меня, зелёного юнца, раздражали эти фальшивые схемы, и я настойчиво искал на полках библиотек правдивые книги об ученых, об их нелёгком пути, их поражениях, нередко более важных, чем победы, и победах, зачастую оказавшихся пирровыми. Мне очень понравились «Охотники за микробами» Поля де Крюи. Но там рассказывалось о биологах, а не о моих коллегах-гуманитариях. Все позднейшие издания этого рода, – а теперь у нас немало и хороших русских книг по истории науки, – тоже посвящены преимущественно представителям точных и естественных дисциплин.
Так зародилась у меня дерзкая мысль самому написать книгу о науке и её работниках, максимально честную, где познание мира будет выглядеть не священнодействием олимпийцев, а очень человеческим делом. Ведь на каждом шагу я видел, насколько отражаются на исследованиях «слишком человеческие» свойства их авторов – приверженность к традиции (безразлично – школы или страны) и боязнь нового; или, наоборот, бездумная погоня за модой; насколько полученный результат искажают совершенно сторонние соображения. Сплошь и рядом я убеждался, что красивые легенды для многих людей дороже суровой истины. Я понял, что в науке, как и в искусстве, огромную роль играет условность – ив трудном для усвоения жаргонном языке отдельных дисциплин, и в молчаливой договорённости специалистов считать какие-то моменты бесспорными и наиболее существенными, а какие-то – малозначащими, хотя в действительности всё обстоит не так просто. Короче говоря, я мечтал показать научное творчество во всей его сложности и противоречивости.
Довести задуманное до конца я не смог. Вряд ли задача мне по силам, но ничего в этом роде за истекшие годы в печати не появилось. Поэтому, возможно, для кого-то небесполезны будут мои беглые заметки, отрывочные очерки, связанные между собой общим восприятием темы.
А.А. Формозов.
1 октября 2004 г.
Москва
В мои студенческие годы о науке говорили и писали очень много. То был период «борьбы за приоритеты», утверждения всюду и везде «одной, единственно правильной точки зрения». Ученые должны были выявить её, а в дальнейшем, следуя ей неукоснительно, не допускать развития каких-либо иных теорий. Выходившая тогда литература по истории науки наделяла своих героев иконописными чертами. Они всё знали заранее, уверенно продвигались вперёд и без колебаний извлекали при опытах желанную абсолютную истину. Разрешалось им лишь небольшое чудачество: например, в биографии A.M. Бутлерова позволительно было упомянуть про его любовь к пчеловодству, но отнюдь не о занятиях спиритизмом.
Даже меня, зелёного юнца, раздражали эти фальшивые схемы, и я настойчиво искал на полках библиотек правдивые книги об ученых, об их нелёгком пути, их поражениях, нередко более важных, чем победы, и победах, зачастую оказавшихся пирровыми. Мне очень понравились «Охотники за микробами» Поля де Крюи. Но там рассказывалось о биологах, а не о моих коллегах-гуманитариях. Все позднейшие издания этого рода, – а теперь у нас немало и хороших русских книг по истории науки, – тоже посвящены преимущественно представителям точных и естественных дисциплин.
Так зародилась у меня дерзкая мысль самому написать книгу о науке и её работниках, максимально честную, где познание мира будет выглядеть не священнодействием олимпийцев, а очень человеческим делом. Ведь на каждом шагу я видел, насколько отражаются на исследованиях «слишком человеческие» свойства их авторов – приверженность к традиции (безразлично – школы или страны) и боязнь нового; или, наоборот, бездумная погоня за модой; насколько полученный результат искажают совершенно сторонние соображения. Сплошь и рядом я убеждался, что красивые легенды для многих людей дороже суровой истины. Я понял, что в науке, как и в искусстве, огромную роль играет условность – ив трудном для усвоения жаргонном языке отдельных дисциплин, и в молчаливой договорённости специалистов считать какие-то моменты бесспорными и наиболее существенными, а какие-то – малозначащими, хотя в действительности всё обстоит не так просто. Короче говоря, я мечтал показать научное творчество во всей его сложности и противоречивости.
Довести задуманное до конца я не смог. Вряд ли задача мне по силам, но ничего в этом роде за истекшие годы в печати не появилось. Поэтому, возможно, для кого-то небесполезны будут мои беглые заметки, отрывочные очерки, связанные между собой общим восприятием темы.
А.А. Формозов.
1 октября 2004 г.
Москва
Цена ошибки
Более полутораста лет назад один начинающий ученый совершил ошибку. Теперь она давно забыта, и мы помним лишь о его зрелых работах, принесших ему заслуженную славу. Ворошить прошлое я решился не для того, чтобы опорочить имя этого человека, а потому, что в истории науки немало подобных эпизодов и над ними стоит задуматься.
Речь идет об Измаиле Ивановиче Срезневском – виднейшем историке русского языка и древнерусской литературы, филологе, палеографе, славяноведе, авторе капитальных трудов и бесчисленных статей и заметок.
Жизнь его сложилась, в общем, весьма счастливо. Он родился в 1812 г. в семье профессора Харьковского университета и рос в среде местной интеллигенции, очень увлекавшейся самобытной украинской культурой. Девятнадцатилетним юношей он издал альманах со своими стихотворениями, а пару лет спустя приступил к публикации сборников «Запорожская старина». Это была характерная для периода романтизма попытка рассказать об истории страны устами её народа. В хронологической последовательности событий здесь помещены песни и думы, частью печатавшиеся и раньше, но в значительной мере новые для читателей; записанные, как разъяснялось в предисловии и примечаниях, издателем и его друзьями, непосредственно от народных певцов-бандуристов.
Книга вызвала широкий резонанс. Н.В. Гоголь восхищался «сокровищами», открытыми Срезневским, и писал ему: «Где нашли Вы столько сокровищ? Все думы и особенно повести бандуристов ослепительно хороши. Из них только пять были мне известны»[1]
С продолжением «Запорожской старины» составитель хотел подождать до отзывов в журналах. Но Гоголь торопил его, уверяя, что ничего дельного из критики Срезневский не почерпнет[2]. Впрочем, отклики оказались благоприятными. В статьях о народной поэзии В.Г. Белинский неоднократно цитировал «Думу о Самке Мушкете». Другими текстами из издания Срезневского дополнил свои сборники украинских песен их авторитетнейший знаток М.А. Максимович[3]. Ф.И. Буслаев, О.М. Бодянский, Н.И. Костомаров использовали материалы «Запорожской старины» и как образцы народной словесности, и как исторический источник, содержащий сведения о событиях, не отраженных в хрониках и грамотах.
Выпустив в свет в 1833–1838 годах шесть книжек «Запорожской старины», Срезневский неожиданно забросил фольклор и занялся экономическими науками. Вскоре он представил Харьковскому университету в качестве докторской диссертации «Опыт о предмете и элементах статистики и политической экономии сравнительно». Специалисты отвергли эту работу, и автору пришлось вернуться к филологии. Неудачи такого рода, конечно, не забываются, но академической карьере Срезневского фиаско на поприще политэкономии не помешало. В 1839 году министерство просвещения отправило его в трёхлетнее научное путешествие по славянским землям. Он побывал в Чехии, Лужице, Крайне, Фриулии, Далмации, Черногории, Хорватии, Сербии; изучил там в монастырях и архивах сотни древних рукописей, завязал прочные научные сношения с ведущими славистами.
И дальше всё шло у него хорошо, жизнь текла ровно и размеренно по традиционному руслу. На родине тридцатилетнего ученого ждала профессорская кафедра в Харькове. Через шесть лет его пригласили в столицу, где с 1848 года и до конца своих дней он вел основные филологические курсы в университете. Некоторое время был его ректором. В 1851 году тридцати девяти лет стал академиком.
Это внешние официальные успехи. Существеннее подлинные достижения – результаты упорного творческого труда. В списке работ Срезневского, опубликованном ещё при его жизни, около четырехсот названий. Многое было издано посмертно и прежде всего «Материалы для словаря древнерусского языка» – три громадных тома, 285 печатных листов. Свыше 130 000 выписок из источников учтено в этом справочнике. Более семисот манускриптов Срезневский скопировал собственноручно. Но и объём проделанной работы, почти невероятный для одного человека, – в данном случае не главное. Главная ценность – в научных наблюдениях и заключениях, вытекающих из этих наблюдений. Насколько богаты тем и другим книги Срезневского, показывает переиздание их чуть ли не через сто лет, уже в наши дни: речи «Мысли об изучении языка» – в 1959 году и «Словаря» – в 1958 и 1989 годах.
Прибавим к печатной продукции плеяду серьезных историков языка и литературы, воспитанных Срезневским в Петербургском университете. Словом, заслуги его перед наукой очевидны, общепризнанны и очень значительны.
Но при всём том на безупречной репутации профессора и академика появилось со временем одно тёмное пятно, и с ним он и сошёл в могилу. Это была та самая «Запорожская старина», с которой началась его по видимости успешная научная деятельность.
После 1838 года изучение фольклора и истории Украины продолжалось во всё возрастающих масштабах. И вот обнаружилось, что большинство дум, записанных от бандуристов Срезневским и его помощниками, ни разу никому не удалось вновь услышать из уст сказителей. Не менее настораживало и противоречие ряда дум из «Запорожской старины» и сопровождавших их статей и комментариев фактам, зафиксированным в надежных исторических источниках. По мере ознакомления с украинским фольклором всё более книжным, чуждым по отношению к устным произведениям этого жанра выглядел и стиль «повестей бандуристов». Неминуемо поднялся вопрос: а бесспорен ли этот материал, не представляют ли собой сборники Срезневского вовсе не публикации подлинных украинских дум, а сочинения современных авторов, подделывавшихся к фольклору и выдававших свои стилизации за творчество бандуристов?[4]
Ничего неправдоподобного в таком предположении не было. В XIX веке фольклористика как наука едва зарождалась. Об идеально точной записи произведений народной поэзии ещё не думали. Люди, интересовавшиеся ею, считали самым важным «овладеть ее духом» и второ– или даже третьестепенным, – как будут переданы соответствующие тексты в печати. Вполне допустимым находили создавать всяческие вариации на народные темы, соединяя куски разных песен и былин, очищая их от «грубых» выражений, добавляя собственные строки «для красоты». Скажем, такой специалист по русскому фольклору, как Иван Петрович Сахаров, грешил этим на каждом шагу. Он объявил, например, что ему в руки попала «тетрадь купца Вельского», сохранившая уникальные песни, сказки и былины. Материалы этой «тетради» он публиковал уже после «Запорожской старины» – в 1840-х годах. Сказка об Анкудине из этой серии, между прочим, очень нравилась Белинскому. Впоследствии выяснилось, что ни Вельского, ни «рукописи Вельского» не существовало в природе, а всё это или упражнения самого Сахарова («Анкудин»), или в лучшем случае компиляции, склеенные из отрывков, заимствованных из ранее вышедших сборников[5].
Такое случалось не только в России. Уже во второй половине XIX века серб Милош Милоевич и болгарин Стефан Веркович выпускали целые книгинародных песен, оказавшихся при проверке неумелыми стилизациями. Незадолго перед тем увидели свет пресловутые «Краледворская рукопись» и «Гузла» Проспера Мериме, вдохновившая А.С. Пушкина на «Песни западных славян». Поэтому признание того, что в «Запорожскую старину» были некогда включены сочинения молодого Срезневского или кого-либо из его друзей, не удивило бы филологов.
Первым намекнул на сомнительность этого издания в 1857 году историк Украины Н.И. Костомаров: «Нельзя, однако, не заметить недоказанности многих рассказов в «Запорожской старине» о событиях казацкой истории, противоречащих всем до сих пор известным источникам… Срезневский оказал бы услугу науке, если б теперь вспомнил о своей «Запорожской старине» и сделал общеизвестными те таинственные источники, которыми пользовался при составлении исторической части своего труда»[6].
Прошло еще полтора десятка лет. Подозрения касательно «Запорожской старины» увеличивались. Покинувший университет и поселившийся на Михайловой горе над Днепром, дряхлый уже Максимович каялся, что в прошлом, будучи вдали от украинских сёл с их песнями и языком, он поддался на обман и засорил свои книги фальшивками. Лишь вернувшись на родину, он почувствовал, как не похожи на подлинные думы мнимые «сокровища» Срезневского[7]. Из второго и третьего изданий «Богдана Хмельницкого» Костомаров выкидывал материалы, взятые из «Запорожской старины», дабы, по его выражению, «очистить книгу от навоза».
Наконец, в 1874 году слово «подделка» чёрным по белому напечатали во введении к двухтомной антологии украинских песен В.Б. Антонович и М.А. Драгоманов. Подделками были названы и «Дума о Самке Мушкете», и «Дары Батория», и «Смерть Богдана», и «Татарский поход Серпяги», и «Битва Чигиринская», и «Поход на поляков»[8]. Рецензируя это издание, Костомаров высказался о «Запорожской старине» гораздо определеннее, чем в 1857 году: «Были ли эти думы и песни составлены нарочно для того, чтобы морочить любителей народной поэзии, или же они написаны, как и всякое другое поэтическое произведение, вовсе не с целью выдавать их за народные, а собирателиошибочно включили их в число народных, во всяком случае, они долго вводили нас в заблуждение»[9]. И снова промолчал Срезневский.
8 феврале 1880 года Костомаров известил А.А. Корсуна, что Срезневский умирает, и сурово подвел итог его жизни: «Много вреда наделал малорусской истории и этнографии этот человек… Он, конечно, сам сознает грех свой и удаляется не только от повторения его, но даже избегает разговоров и упоминаний о «Запорожской старине», однако мужества и честности у него не хватает, чтоб решиться во имя истины публично сознаться в том, что всё, выдававшееся им за историческую и этнографическую правду, была ложь… Срезневский не только печатал фальшивые стихи, выдавая их за народные песни и думы, но даже подставлял и сообщал фальшивые летописные повествования»[10].
После смерти профессора вышли подробные некрологи, сборники статей его памяти, биографические очерки, обзорные работы с обширными разделами о жизни и деятельности классика отечественной филологии. Надо было что-то сказать и о щекотливом вопросе. Сын Измаила Ивановича – Всеволод и автор «Истории русской этнографии» А.Н. Пыпин в один голос заявили, что учёный, несомненно, задолго до Костомаров, Антоновича и Драгоманова, сам понял, какой ошибкой была его юношеская публикация, и даже указал на это, хотя и мельком, в примечаниях к переписке А.Х. Востокова[11].
С трудом разыскиваем в этой объёмистой книге несколько строк петита. Здесь Срезневский напечатал собственное письмо к знаменитому языковеду, отправленное вместе с «Запорожской стариной», и, сорок лет спустя, снабдил его таким примечанием: «Некоторые из этих песен записаны мной со слов певцов, другие – были мне доставлены приятелями и благоприятелями»[12].
С большой натяжкой можно усмотреть в этой фразе признание недоброкачественности своей первой работы. Скорее тут улавливается желание свалить вину на «благоприятелей»: дескать, не я сочинил и пустил в оборот поддельные украинские думы, а мне их подсунули. В комментариях к «Запорожской старине», действительно, не раз говорится: «Доставлено Н. Лисавицким Н.В. Росковшенковой Г. Дьяковым А.Г. Шпигоцким…», и не исключено, что иные тексты Срезневский получил от кого-то и сперва сам поверил в их подлинность. Но, увы, о заведомых фальшивках, вроде «Даров Батория», «Битвы Чигиринской», «Татарского похода Серпяги», «Похода на поляков» так же сообщено: «Списано мною со слов бандуристов»[13]. Нет, двусмысленное примечание 1873 года нельзя считать серьезным ответом критикам.
А между тем ответить было сравнительно просто. В предисловии к «Запорожской старине» автор с важностью рекомендует книгу читателям как результат семилетних трудов[14]. Значит, он начал ее в 1926 году – в четырнадцатилетнем возрасте. Мало того, что весь сыр-бор загорелся из-за произведения, созданного в период младенчества фольклористики, в дни сказки об Анкудине Сахарова и «Гузлы» Проспера Мериме. Обсуждалось и осуждалось творчество несовершеннолетнего подростка.
Смело мог сказать Срезневский своему главному оппоненту Костомарову: «Врачу, исцелися сам!» Ведь публикация русских песен Саратовской губернии, якобы записанных Николаем Ивановичем в годы ссылки «от холщевика-верхового мужика», оказались при проверке перепечатками из старых сборников с произвольными переделками составителя. На это еще при жизни Срезневского указал П.А. Бессонов[15].
И всё-таки шестидесятилетний академик не нашел в себе сил объяснить, что четырнадцатилетним мальчишкой, в пору, когда фольклористика еще не стала наукой, он сочинил легкомысленную книжку и теперь просит специалистов ею не пользоваться. Вероятно, он думал о том, с каким злорадством встретили бы его покаяние коллеги (а лучше ли они его?), как признание давней ошибки неминуемо сказалось бы на оценке его сегодняшних – методически безукоризненных работ. Сталкиваться и с тем, и с другим предстояло бы до конца дней. По самолюбию первоклассного ученого ежедневно наносились бы удары. И он предпочел отмолчаться. Человеческие слабости возобладали над чувством научного долга.
Вот об этой поучительной истории мне и хотелось напомнить, потому что в той или иной мере сходные нравственные проблемы мучат многих учёных, и наука от этого немало теряет. Но рассказываемая история ещё не исчерпана.
Помимо вреда, нанесённого науке, Срезневский и самому себе изрядно напортил. Может быть, он пострадал даже больше всех. Пусть и с опозданием, но историки и фольклористы разобрались, что к чему, и не пользовались уже сомнительными источниками. Жизнь же Срезневского оказалась отравлена.
Первый симптом того мне видится в неожиданной попытке, бросив фольклор, заняться политэкономией почти сразу же после издания и успеха «Запорожской старины». Попытка не удалась – политэкономические темы в николаевские времена находились под запретом. Должно быть, теми же колебаниями вызвано желание отсрочить выпуск следующих книжек «Запорожской старины». Гоголь дал Срезневскому плохой совет – пренебречь мнением рецензентов. Вернее, совет, пригодный для писателя, а не для учёного. Как ни слабо были развиты гуманитарные знания в 1830-х годах, всё же известный ориенталист О.И. Сенковский в своем журнале «Библиотека для чтения» точно определил недостатки «Запорожской старины»: «Автор хочет воссоздать летописи народа, которых не имеет…, и руководствуется своим вкусом в выборе авторитетов…, заставляет говорить местные предания и народные песни… Труд его… не имеет учёной формы»[16]. От составителя сборника Сенковский резонно требовал научного анализа материала, профессиональной критики источников. Но советы запоздали. Издание было уже завершено.
Сознавая его недостатки, вынужденный вернуться к филологии Срезневский в дальнейшем совершенно отошел от фольклористики и обратился к более надежным памятникам древнерусской литературы, зафиксированным письменно, на пергаменте и бумаге, подлинность которых твёрдо доказана. На изыскания фольклористов он смотрел отныне с сугубой подозрительностью. Когда вышел из печати первый том олонецких былин П.Н. Рыбникова, тех самых былин, что входят сейчас в каждую школьную хрестоматию, Срезневский опубликовал крайне кислую рецензию. В ней он упирал на своё «впечатление, ведущее за собой нерешимость простодушно доверять, что собранные песни суть действительно произведения народные, а не подражания им. Сомнение зарождается и укрепляется тем естественнее, чем менее противопоставлено ему преград, а при издании сборника господина Рыбникова не сделано в этом отношении почти ничего»[17]. Обжегшись на молоке, рецензент дул на воду. В 1866 году он обмолвился в письме к А.А. Котляревскому: «Сержусь на тех, которые в молодости увлекаются так же, как и я увлекался, и будут досадовать на себя, как и я досадовал и досадую на себя. Не могу поправить своего прошлого»[18].
Но так было не только с былинами и думами. Любопытна в этой связи статья Д.И. Писарева «Наша университетская наука». Писарев, как и Чернышевский, и Добролюбов, слушал лекции Срезневского в Петербургском университете, работал в его семинариях. Измаилу Ивановичу было тогда пятьдесят лет, и он находился в расцвете таланта. Преисполненный отвращения к университетской системе преподавания, беспощадный к профессорам-рутинерам, Писарев не мог не выделить в лучшую сторону Срезневского, фигурирующего в статье под именем Сварожича[19]. И в то же время он почувствовал какой-то внутренний надлом, какую-то червоточину, отражавшиеся на всей деятельности ученого.
Писарева поразил мощный критический ум, всеразлагающий, всеразрушающий, способный всё развенчать, но не собрать воедино, не творить. Ему бросилось в глаза, что профессор всячески избегает обобщений и выдает на лекциях студентам лишь сырой материал, притом почти всегда добытый им самим, не веря опубликованному коллегами. «Сварожич», по словам Писарева, «как человек умный понимал неестественность своего положения, но по всей вероятности он начал понимать её уже тогда, когда дорога была выбрана, когда первые и самые трудные шаги были пройдены и когда, следовательно, поворотить назад и пойти по другой дороге было уже неудобно и тяжело. Он, конечно, никогда не говорил о том, что ему не нравится предмет его занятий… Но всякий мало-мальски внимательный наблюдатель мог заметить, что Сварожич глубоко равнодушен к своей науке и даже невольно относится к ней с легким оттенком скептического презрения»[20].
Может быть, Писарев – сторонник реальных знаний, третировавший гуманитарные науки как «болтовню», в чём-то сгустил краски, приписав учителю собственное восприятие филологии. Но и в воспоминаниях других учеников нарисован образ, во многом похожий на тот, что набросан Писаревым. Так, в мемуарах П.Н. Полевого отмечены огромная «алчность к работе» Срезневского, его колоссальная эрудиция, и наряду с этим – скептицизм, мнительность, недоверчивость к самому себе, мешавшие ему творить свободно. Полевой утверждает, что в частной беседе Срезневский иногда увлекался и излагал какие-нибудь свои интереснейшие концепции, но никогда не публиковал их. Итог таков: для того, чтобы стать великим учёным, у него было всё, но ему «не хватил о бодрости духа»[21]. Всеволод Срезневский в биографии отца прямо называет причиной его всеразъедающего скептицизма неудачное начало с «Запорожской стариной». Опрометчивый поступок романтически настроенного юноши исказил весь жизненный путь на редкость одаренного и трудолюбивого учёного.
В годы первых триумфов дарвиновских идей молодой голландец задался целью найти теоретически предсказанного Эрнстом Геккелем питекантропа. Решить эту задачу было неимоверно сложно. Где добыть средства на исследования? В каком уголке Земного шара, в каких географических и геологических условиях залегают костные останки наших древнейших предков? Всё было неясно. Дюбуа начал с того, что поступил врачом в голландскую колониальную армию и в 1887 году отправился на Суматру. Тем самым он обеспечил себе «оплату проезда» к месту раскопок и наметил район исследований. Три года копал он пещеры на острове и всюду безрезультатно. У другого давно опустились бы руки, но Дюбуа не сдавался. В 1890 году он перенёс раскопки на Яву и здесь с тем же упорством вел работы еще три года. Тут на реке Соло у Триниля его ждал успех: были найдены черепная крышка, бедренная кость и три зуба примитивного человекоподобного существа. В 1894 году он напечатал книгу об этой находке, но этим завершился лишь первый этап в судьбе открытия и начался второй, наиболее ответственный, – борьба за его признание.
Речь идет об Измаиле Ивановиче Срезневском – виднейшем историке русского языка и древнерусской литературы, филологе, палеографе, славяноведе, авторе капитальных трудов и бесчисленных статей и заметок.
Жизнь его сложилась, в общем, весьма счастливо. Он родился в 1812 г. в семье профессора Харьковского университета и рос в среде местной интеллигенции, очень увлекавшейся самобытной украинской культурой. Девятнадцатилетним юношей он издал альманах со своими стихотворениями, а пару лет спустя приступил к публикации сборников «Запорожская старина». Это была характерная для периода романтизма попытка рассказать об истории страны устами её народа. В хронологической последовательности событий здесь помещены песни и думы, частью печатавшиеся и раньше, но в значительной мере новые для читателей; записанные, как разъяснялось в предисловии и примечаниях, издателем и его друзьями, непосредственно от народных певцов-бандуристов.
Книга вызвала широкий резонанс. Н.В. Гоголь восхищался «сокровищами», открытыми Срезневским, и писал ему: «Где нашли Вы столько сокровищ? Все думы и особенно повести бандуристов ослепительно хороши. Из них только пять были мне известны»[1]
С продолжением «Запорожской старины» составитель хотел подождать до отзывов в журналах. Но Гоголь торопил его, уверяя, что ничего дельного из критики Срезневский не почерпнет[2]. Впрочем, отклики оказались благоприятными. В статьях о народной поэзии В.Г. Белинский неоднократно цитировал «Думу о Самке Мушкете». Другими текстами из издания Срезневского дополнил свои сборники украинских песен их авторитетнейший знаток М.А. Максимович[3]. Ф.И. Буслаев, О.М. Бодянский, Н.И. Костомаров использовали материалы «Запорожской старины» и как образцы народной словесности, и как исторический источник, содержащий сведения о событиях, не отраженных в хрониках и грамотах.
Выпустив в свет в 1833–1838 годах шесть книжек «Запорожской старины», Срезневский неожиданно забросил фольклор и занялся экономическими науками. Вскоре он представил Харьковскому университету в качестве докторской диссертации «Опыт о предмете и элементах статистики и политической экономии сравнительно». Специалисты отвергли эту работу, и автору пришлось вернуться к филологии. Неудачи такого рода, конечно, не забываются, но академической карьере Срезневского фиаско на поприще политэкономии не помешало. В 1839 году министерство просвещения отправило его в трёхлетнее научное путешествие по славянским землям. Он побывал в Чехии, Лужице, Крайне, Фриулии, Далмации, Черногории, Хорватии, Сербии; изучил там в монастырях и архивах сотни древних рукописей, завязал прочные научные сношения с ведущими славистами.
И дальше всё шло у него хорошо, жизнь текла ровно и размеренно по традиционному руслу. На родине тридцатилетнего ученого ждала профессорская кафедра в Харькове. Через шесть лет его пригласили в столицу, где с 1848 года и до конца своих дней он вел основные филологические курсы в университете. Некоторое время был его ректором. В 1851 году тридцати девяти лет стал академиком.
Это внешние официальные успехи. Существеннее подлинные достижения – результаты упорного творческого труда. В списке работ Срезневского, опубликованном ещё при его жизни, около четырехсот названий. Многое было издано посмертно и прежде всего «Материалы для словаря древнерусского языка» – три громадных тома, 285 печатных листов. Свыше 130 000 выписок из источников учтено в этом справочнике. Более семисот манускриптов Срезневский скопировал собственноручно. Но и объём проделанной работы, почти невероятный для одного человека, – в данном случае не главное. Главная ценность – в научных наблюдениях и заключениях, вытекающих из этих наблюдений. Насколько богаты тем и другим книги Срезневского, показывает переиздание их чуть ли не через сто лет, уже в наши дни: речи «Мысли об изучении языка» – в 1959 году и «Словаря» – в 1958 и 1989 годах.
Прибавим к печатной продукции плеяду серьезных историков языка и литературы, воспитанных Срезневским в Петербургском университете. Словом, заслуги его перед наукой очевидны, общепризнанны и очень значительны.
Но при всём том на безупречной репутации профессора и академика появилось со временем одно тёмное пятно, и с ним он и сошёл в могилу. Это была та самая «Запорожская старина», с которой началась его по видимости успешная научная деятельность.
После 1838 года изучение фольклора и истории Украины продолжалось во всё возрастающих масштабах. И вот обнаружилось, что большинство дум, записанных от бандуристов Срезневским и его помощниками, ни разу никому не удалось вновь услышать из уст сказителей. Не менее настораживало и противоречие ряда дум из «Запорожской старины» и сопровождавших их статей и комментариев фактам, зафиксированным в надежных исторических источниках. По мере ознакомления с украинским фольклором всё более книжным, чуждым по отношению к устным произведениям этого жанра выглядел и стиль «повестей бандуристов». Неминуемо поднялся вопрос: а бесспорен ли этот материал, не представляют ли собой сборники Срезневского вовсе не публикации подлинных украинских дум, а сочинения современных авторов, подделывавшихся к фольклору и выдававших свои стилизации за творчество бандуристов?[4]
Ничего неправдоподобного в таком предположении не было. В XIX веке фольклористика как наука едва зарождалась. Об идеально точной записи произведений народной поэзии ещё не думали. Люди, интересовавшиеся ею, считали самым важным «овладеть ее духом» и второ– или даже третьестепенным, – как будут переданы соответствующие тексты в печати. Вполне допустимым находили создавать всяческие вариации на народные темы, соединяя куски разных песен и былин, очищая их от «грубых» выражений, добавляя собственные строки «для красоты». Скажем, такой специалист по русскому фольклору, как Иван Петрович Сахаров, грешил этим на каждом шагу. Он объявил, например, что ему в руки попала «тетрадь купца Вельского», сохранившая уникальные песни, сказки и былины. Материалы этой «тетради» он публиковал уже после «Запорожской старины» – в 1840-х годах. Сказка об Анкудине из этой серии, между прочим, очень нравилась Белинскому. Впоследствии выяснилось, что ни Вельского, ни «рукописи Вельского» не существовало в природе, а всё это или упражнения самого Сахарова («Анкудин»), или в лучшем случае компиляции, склеенные из отрывков, заимствованных из ранее вышедших сборников[5].
Такое случалось не только в России. Уже во второй половине XIX века серб Милош Милоевич и болгарин Стефан Веркович выпускали целые книгинародных песен, оказавшихся при проверке неумелыми стилизациями. Незадолго перед тем увидели свет пресловутые «Краледворская рукопись» и «Гузла» Проспера Мериме, вдохновившая А.С. Пушкина на «Песни западных славян». Поэтому признание того, что в «Запорожскую старину» были некогда включены сочинения молодого Срезневского или кого-либо из его друзей, не удивило бы филологов.
Первым намекнул на сомнительность этого издания в 1857 году историк Украины Н.И. Костомаров: «Нельзя, однако, не заметить недоказанности многих рассказов в «Запорожской старине» о событиях казацкой истории, противоречащих всем до сих пор известным источникам… Срезневский оказал бы услугу науке, если б теперь вспомнил о своей «Запорожской старине» и сделал общеизвестными те таинственные источники, которыми пользовался при составлении исторической части своего труда»[6].
Прошло еще полтора десятка лет. Подозрения касательно «Запорожской старины» увеличивались. Покинувший университет и поселившийся на Михайловой горе над Днепром, дряхлый уже Максимович каялся, что в прошлом, будучи вдали от украинских сёл с их песнями и языком, он поддался на обман и засорил свои книги фальшивками. Лишь вернувшись на родину, он почувствовал, как не похожи на подлинные думы мнимые «сокровища» Срезневского[7]. Из второго и третьего изданий «Богдана Хмельницкого» Костомаров выкидывал материалы, взятые из «Запорожской старины», дабы, по его выражению, «очистить книгу от навоза».
Наконец, в 1874 году слово «подделка» чёрным по белому напечатали во введении к двухтомной антологии украинских песен В.Б. Антонович и М.А. Драгоманов. Подделками были названы и «Дума о Самке Мушкете», и «Дары Батория», и «Смерть Богдана», и «Татарский поход Серпяги», и «Битва Чигиринская», и «Поход на поляков»[8]. Рецензируя это издание, Костомаров высказался о «Запорожской старине» гораздо определеннее, чем в 1857 году: «Были ли эти думы и песни составлены нарочно для того, чтобы морочить любителей народной поэзии, или же они написаны, как и всякое другое поэтическое произведение, вовсе не с целью выдавать их за народные, а собирателиошибочно включили их в число народных, во всяком случае, они долго вводили нас в заблуждение»[9]. И снова промолчал Срезневский.
8 феврале 1880 года Костомаров известил А.А. Корсуна, что Срезневский умирает, и сурово подвел итог его жизни: «Много вреда наделал малорусской истории и этнографии этот человек… Он, конечно, сам сознает грех свой и удаляется не только от повторения его, но даже избегает разговоров и упоминаний о «Запорожской старине», однако мужества и честности у него не хватает, чтоб решиться во имя истины публично сознаться в том, что всё, выдававшееся им за историческую и этнографическую правду, была ложь… Срезневский не только печатал фальшивые стихи, выдавая их за народные песни и думы, но даже подставлял и сообщал фальшивые летописные повествования»[10].
После смерти профессора вышли подробные некрологи, сборники статей его памяти, биографические очерки, обзорные работы с обширными разделами о жизни и деятельности классика отечественной филологии. Надо было что-то сказать и о щекотливом вопросе. Сын Измаила Ивановича – Всеволод и автор «Истории русской этнографии» А.Н. Пыпин в один голос заявили, что учёный, несомненно, задолго до Костомаров, Антоновича и Драгоманова, сам понял, какой ошибкой была его юношеская публикация, и даже указал на это, хотя и мельком, в примечаниях к переписке А.Х. Востокова[11].
С трудом разыскиваем в этой объёмистой книге несколько строк петита. Здесь Срезневский напечатал собственное письмо к знаменитому языковеду, отправленное вместе с «Запорожской стариной», и, сорок лет спустя, снабдил его таким примечанием: «Некоторые из этих песен записаны мной со слов певцов, другие – были мне доставлены приятелями и благоприятелями»[12].
С большой натяжкой можно усмотреть в этой фразе признание недоброкачественности своей первой работы. Скорее тут улавливается желание свалить вину на «благоприятелей»: дескать, не я сочинил и пустил в оборот поддельные украинские думы, а мне их подсунули. В комментариях к «Запорожской старине», действительно, не раз говорится: «Доставлено Н. Лисавицким Н.В. Росковшенковой Г. Дьяковым А.Г. Шпигоцким…», и не исключено, что иные тексты Срезневский получил от кого-то и сперва сам поверил в их подлинность. Но, увы, о заведомых фальшивках, вроде «Даров Батория», «Битвы Чигиринской», «Татарского похода Серпяги», «Похода на поляков» так же сообщено: «Списано мною со слов бандуристов»[13]. Нет, двусмысленное примечание 1873 года нельзя считать серьезным ответом критикам.
А между тем ответить было сравнительно просто. В предисловии к «Запорожской старине» автор с важностью рекомендует книгу читателям как результат семилетних трудов[14]. Значит, он начал ее в 1926 году – в четырнадцатилетнем возрасте. Мало того, что весь сыр-бор загорелся из-за произведения, созданного в период младенчества фольклористики, в дни сказки об Анкудине Сахарова и «Гузлы» Проспера Мериме. Обсуждалось и осуждалось творчество несовершеннолетнего подростка.
Смело мог сказать Срезневский своему главному оппоненту Костомарову: «Врачу, исцелися сам!» Ведь публикация русских песен Саратовской губернии, якобы записанных Николаем Ивановичем в годы ссылки «от холщевика-верхового мужика», оказались при проверке перепечатками из старых сборников с произвольными переделками составителя. На это еще при жизни Срезневского указал П.А. Бессонов[15].
И всё-таки шестидесятилетний академик не нашел в себе сил объяснить, что четырнадцатилетним мальчишкой, в пору, когда фольклористика еще не стала наукой, он сочинил легкомысленную книжку и теперь просит специалистов ею не пользоваться. Вероятно, он думал о том, с каким злорадством встретили бы его покаяние коллеги (а лучше ли они его?), как признание давней ошибки неминуемо сказалось бы на оценке его сегодняшних – методически безукоризненных работ. Сталкиваться и с тем, и с другим предстояло бы до конца дней. По самолюбию первоклассного ученого ежедневно наносились бы удары. И он предпочел отмолчаться. Человеческие слабости возобладали над чувством научного долга.
Вот об этой поучительной истории мне и хотелось напомнить, потому что в той или иной мере сходные нравственные проблемы мучат многих учёных, и наука от этого немало теряет. Но рассказываемая история ещё не исчерпана.
Помимо вреда, нанесённого науке, Срезневский и самому себе изрядно напортил. Может быть, он пострадал даже больше всех. Пусть и с опозданием, но историки и фольклористы разобрались, что к чему, и не пользовались уже сомнительными источниками. Жизнь же Срезневского оказалась отравлена.
Первый симптом того мне видится в неожиданной попытке, бросив фольклор, заняться политэкономией почти сразу же после издания и успеха «Запорожской старины». Попытка не удалась – политэкономические темы в николаевские времена находились под запретом. Должно быть, теми же колебаниями вызвано желание отсрочить выпуск следующих книжек «Запорожской старины». Гоголь дал Срезневскому плохой совет – пренебречь мнением рецензентов. Вернее, совет, пригодный для писателя, а не для учёного. Как ни слабо были развиты гуманитарные знания в 1830-х годах, всё же известный ориенталист О.И. Сенковский в своем журнале «Библиотека для чтения» точно определил недостатки «Запорожской старины»: «Автор хочет воссоздать летописи народа, которых не имеет…, и руководствуется своим вкусом в выборе авторитетов…, заставляет говорить местные предания и народные песни… Труд его… не имеет учёной формы»[16]. От составителя сборника Сенковский резонно требовал научного анализа материала, профессиональной критики источников. Но советы запоздали. Издание было уже завершено.
Сознавая его недостатки, вынужденный вернуться к филологии Срезневский в дальнейшем совершенно отошел от фольклористики и обратился к более надежным памятникам древнерусской литературы, зафиксированным письменно, на пергаменте и бумаге, подлинность которых твёрдо доказана. На изыскания фольклористов он смотрел отныне с сугубой подозрительностью. Когда вышел из печати первый том олонецких былин П.Н. Рыбникова, тех самых былин, что входят сейчас в каждую школьную хрестоматию, Срезневский опубликовал крайне кислую рецензию. В ней он упирал на своё «впечатление, ведущее за собой нерешимость простодушно доверять, что собранные песни суть действительно произведения народные, а не подражания им. Сомнение зарождается и укрепляется тем естественнее, чем менее противопоставлено ему преград, а при издании сборника господина Рыбникова не сделано в этом отношении почти ничего»[17]. Обжегшись на молоке, рецензент дул на воду. В 1866 году он обмолвился в письме к А.А. Котляревскому: «Сержусь на тех, которые в молодости увлекаются так же, как и я увлекался, и будут досадовать на себя, как и я досадовал и досадую на себя. Не могу поправить своего прошлого»[18].
Но так было не только с былинами и думами. Любопытна в этой связи статья Д.И. Писарева «Наша университетская наука». Писарев, как и Чернышевский, и Добролюбов, слушал лекции Срезневского в Петербургском университете, работал в его семинариях. Измаилу Ивановичу было тогда пятьдесят лет, и он находился в расцвете таланта. Преисполненный отвращения к университетской системе преподавания, беспощадный к профессорам-рутинерам, Писарев не мог не выделить в лучшую сторону Срезневского, фигурирующего в статье под именем Сварожича[19]. И в то же время он почувствовал какой-то внутренний надлом, какую-то червоточину, отражавшиеся на всей деятельности ученого.
Писарева поразил мощный критический ум, всеразлагающий, всеразрушающий, способный всё развенчать, но не собрать воедино, не творить. Ему бросилось в глаза, что профессор всячески избегает обобщений и выдает на лекциях студентам лишь сырой материал, притом почти всегда добытый им самим, не веря опубликованному коллегами. «Сварожич», по словам Писарева, «как человек умный понимал неестественность своего положения, но по всей вероятности он начал понимать её уже тогда, когда дорога была выбрана, когда первые и самые трудные шаги были пройдены и когда, следовательно, поворотить назад и пойти по другой дороге было уже неудобно и тяжело. Он, конечно, никогда не говорил о том, что ему не нравится предмет его занятий… Но всякий мало-мальски внимательный наблюдатель мог заметить, что Сварожич глубоко равнодушен к своей науке и даже невольно относится к ней с легким оттенком скептического презрения»[20].
Может быть, Писарев – сторонник реальных знаний, третировавший гуманитарные науки как «болтовню», в чём-то сгустил краски, приписав учителю собственное восприятие филологии. Но и в воспоминаниях других учеников нарисован образ, во многом похожий на тот, что набросан Писаревым. Так, в мемуарах П.Н. Полевого отмечены огромная «алчность к работе» Срезневского, его колоссальная эрудиция, и наряду с этим – скептицизм, мнительность, недоверчивость к самому себе, мешавшие ему творить свободно. Полевой утверждает, что в частной беседе Срезневский иногда увлекался и излагал какие-нибудь свои интереснейшие концепции, но никогда не публиковал их. Итог таков: для того, чтобы стать великим учёным, у него было всё, но ему «не хватил о бодрости духа»[21]. Всеволод Срезневский в биографии отца прямо называет причиной его всеразъедающего скептицизма неудачное начало с «Запорожской стариной». Опрометчивый поступок романтически настроенного юноши исказил весь жизненный путь на редкость одаренного и трудолюбивого учёного.
* * *
Что же, спрашивается, человеческому самолюбию всегда суждено побеждать научную совесть? Нет, это не так. Можно привести случаи, прямо противоположные только что рассказанному, но от этого не менее удивительные. Вот один из них. В школьных учебниках любой страны – будь то Россия, США, Франция или Индия – упоминается имя Евгения Дюбуа (1858–1940) – биолога, отыскавшего недостающее звено между обезьяной и человеком – питекантропа. Громадно по значению само открытие, необычна и его история.В годы первых триумфов дарвиновских идей молодой голландец задался целью найти теоретически предсказанного Эрнстом Геккелем питекантропа. Решить эту задачу было неимоверно сложно. Где добыть средства на исследования? В каком уголке Земного шара, в каких географических и геологических условиях залегают костные останки наших древнейших предков? Всё было неясно. Дюбуа начал с того, что поступил врачом в голландскую колониальную армию и в 1887 году отправился на Суматру. Тем самым он обеспечил себе «оплату проезда» к месту раскопок и наметил район исследований. Три года копал он пещеры на острове и всюду безрезультатно. У другого давно опустились бы руки, но Дюбуа не сдавался. В 1890 году он перенёс раскопки на Яву и здесь с тем же упорством вел работы еще три года. Тут на реке Соло у Триниля его ждал успех: были найдены черепная крышка, бедренная кость и три зуба примитивного человекоподобного существа. В 1894 году он напечатал книгу об этой находке, но этим завершился лишь первый этап в судьбе открытия и начался второй, наиболее ответственный, – борьба за его признание.
