Страница:
Татьяна Алферова
Лестница Ламарка
©Алферова Т., текст, 2012.
©«Геликон Плюс», макет, 2012.
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
©«Геликон Плюс», макет, 2012.
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.
О. Мандельштам «Ламарк»
Творческие люди
Рассказы о творческих людях, их женах, любовницах и друзьях
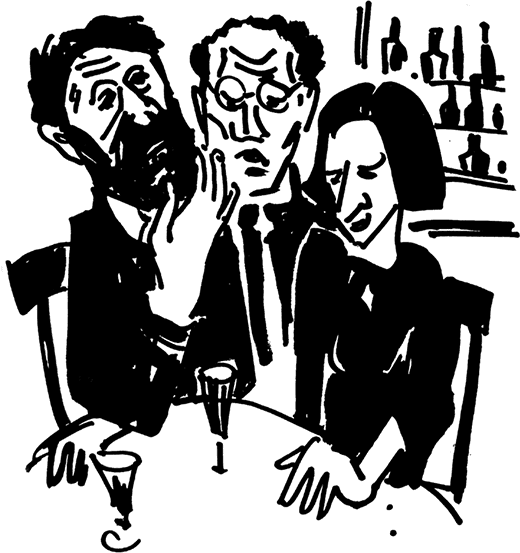
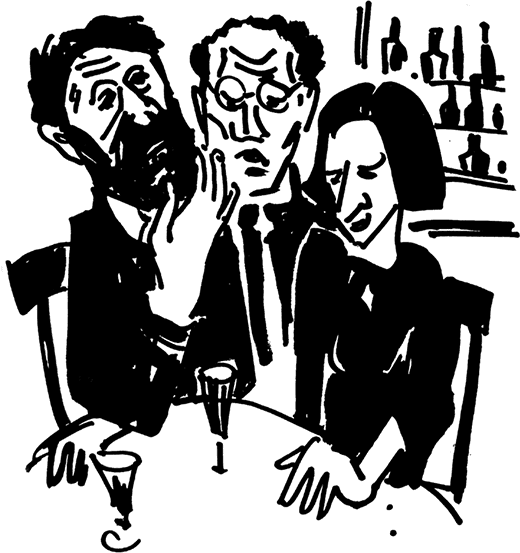
Грегор
Грегор – нивх. Нет-нет, не подумайте, что по происхождению. Грегор нивх по духу.
Собственно, нивхом он стал не сразу, а лишь когда приехал в Ленинград и устроился на фабрику, отстегивающую работникам вместе с зарплатой лимитную прописку в общежитии. Или позже, когда записался в самодеятельный театр и увлекся оккультизмом, догоняя увлеченную уже труппу. Гадание на картах Таро, купание нагишом в лесном озере, общие медитации перед репетициями – поневоле самый распоследний тюфяк станет нивхом, а тут – Грегор. Он же умеет есть ростки папоротника, он ухитряется в гостях покусать хозяйскую собаку. Он может такое! А еще – прямо за обеденным столом снять носки при скоплении народа. И то, что истинное значение тех самых карт Таро он не знает, ровным счетом ничего не доказывает, гадать-то все равно умеет.
Черт его знает, почему у людей так получается, что, когда женишься, пусть даже на коллеге по театру пантомимы, все равно в итоге рождается ребенок. А у ребенка появляется бабушка, появляется как-то сразу и навязчиво. Хуже того, ребенку не позволяют ходить босиком, кутают в дурацкие шерстяные платки, в то время когда надо все силы бросить на закаливание и поедание проросшей пшеницы. Об общей косности и страхе перед уринотерапией лучше вообще умолчать, и так грех один. Нет, с первой женой у людей не складывается, даже если ты приехал из Хабаровска и по-настоящему моешь полы, а не два раза в год: на Пасху и Покров. Короче, первую жену следует сразу же зачеркивать как незначащий факт биографии.
Вторые жены, обычно, оказываются тоньше. Они занимаются не только пантомимой, но и актерским мастерством не брезгуют. С ними можно поговорить об энергии ци, а колокольчику, подаренному на Восьмое марта, они радуются, как дети. Дети, конечно, опять появляются, иногда даже несколько. Но это же нормальные дети. Их нормально воспитывают ходить по полу босиком и принимать позу льва. С бабушками тяжелее. У бабушек случаются, вместо родных дедушек, вторые, в свою очередь, мужья, которые иногда больно дерутся. Тогда жены хватают чайники и разливают бойцов горячей водой, вот тут-то и достается бабушкам – ну не с женой же разбираться, ей-богу. А потом вроде бы все нормально, но жена в самый неподходящий момент примется рыдать рыбкой-белугой и заявит: «А зачем ты мою маму сковородкой ударил?» И припомнит привод в милицию, помрежа Свету и еще много всякого разного, но неинтересного. В смысле обсуждения с женой неинтересного, а как факты биографии – очень даже.
В крайних случаях можно просить политического убежища у боевых подруг, но это чревато мужьями, вернувшимися из командировки, а если мужей нет в принципе, то и куда как душными разговорчиками: «Ты на мне никогда не женишься, ты ко мне потребительски относишься». Беда с подругами!
Но однажды наступает день, когда, с утра покидав лопатой снег, вместо жены, временно работающей дворником, днем другой лопатой помесив бетон на заводе, на тоже временной, но уже своей работе, вечером разнеся тиражик рекламной газетки для приработка, встречаешься наконец с боевой подругой. Слушаешь ее такие высокие-высокие рассуждения о собственном избранничестве, о каналах с космосом, а нос у нее все равно пористый, и волосы жидковаты, и вдруг забирается в голову некая мыслишка, что ведь все равно надо идти домой, а дома Васька и Манька по лавкам, и жена будет ругаться, а про бабушку и говорить нечего, любой урле понятно, что скажет бабушка, вдруг… Вдруг понимаешь, как здорово, как замечательно, что есть эти сопливые, в пятнах зеленки Васька и Манька, что, в общем-то, никого, кроме второй жены, и нет из близких и родных, да не так уж она и растолстела, если присмотреться. А вечер на диво тихий, хоть и морозный, и понятно же, понятно, что вот оно – сатори!
Собственно, нивхом он стал не сразу, а лишь когда приехал в Ленинград и устроился на фабрику, отстегивающую работникам вместе с зарплатой лимитную прописку в общежитии. Или позже, когда записался в самодеятельный театр и увлекся оккультизмом, догоняя увлеченную уже труппу. Гадание на картах Таро, купание нагишом в лесном озере, общие медитации перед репетициями – поневоле самый распоследний тюфяк станет нивхом, а тут – Грегор. Он же умеет есть ростки папоротника, он ухитряется в гостях покусать хозяйскую собаку. Он может такое! А еще – прямо за обеденным столом снять носки при скоплении народа. И то, что истинное значение тех самых карт Таро он не знает, ровным счетом ничего не доказывает, гадать-то все равно умеет.
Черт его знает, почему у людей так получается, что, когда женишься, пусть даже на коллеге по театру пантомимы, все равно в итоге рождается ребенок. А у ребенка появляется бабушка, появляется как-то сразу и навязчиво. Хуже того, ребенку не позволяют ходить босиком, кутают в дурацкие шерстяные платки, в то время когда надо все силы бросить на закаливание и поедание проросшей пшеницы. Об общей косности и страхе перед уринотерапией лучше вообще умолчать, и так грех один. Нет, с первой женой у людей не складывается, даже если ты приехал из Хабаровска и по-настоящему моешь полы, а не два раза в год: на Пасху и Покров. Короче, первую жену следует сразу же зачеркивать как незначащий факт биографии.
Вторые жены, обычно, оказываются тоньше. Они занимаются не только пантомимой, но и актерским мастерством не брезгуют. С ними можно поговорить об энергии ци, а колокольчику, подаренному на Восьмое марта, они радуются, как дети. Дети, конечно, опять появляются, иногда даже несколько. Но это же нормальные дети. Их нормально воспитывают ходить по полу босиком и принимать позу льва. С бабушками тяжелее. У бабушек случаются, вместо родных дедушек, вторые, в свою очередь, мужья, которые иногда больно дерутся. Тогда жены хватают чайники и разливают бойцов горячей водой, вот тут-то и достается бабушкам – ну не с женой же разбираться, ей-богу. А потом вроде бы все нормально, но жена в самый неподходящий момент примется рыдать рыбкой-белугой и заявит: «А зачем ты мою маму сковородкой ударил?» И припомнит привод в милицию, помрежа Свету и еще много всякого разного, но неинтересного. В смысле обсуждения с женой неинтересного, а как факты биографии – очень даже.
В крайних случаях можно просить политического убежища у боевых подруг, но это чревато мужьями, вернувшимися из командировки, а если мужей нет в принципе, то и куда как душными разговорчиками: «Ты на мне никогда не женишься, ты ко мне потребительски относишься». Беда с подругами!
Но однажды наступает день, когда, с утра покидав лопатой снег, вместо жены, временно работающей дворником, днем другой лопатой помесив бетон на заводе, на тоже временной, но уже своей работе, вечером разнеся тиражик рекламной газетки для приработка, встречаешься наконец с боевой подругой. Слушаешь ее такие высокие-высокие рассуждения о собственном избранничестве, о каналах с космосом, а нос у нее все равно пористый, и волосы жидковаты, и вдруг забирается в голову некая мыслишка, что ведь все равно надо идти домой, а дома Васька и Манька по лавкам, и жена будет ругаться, а про бабушку и говорить нечего, любой урле понятно, что скажет бабушка, вдруг… Вдруг понимаешь, как здорово, как замечательно, что есть эти сопливые, в пятнах зеленки Васька и Манька, что, в общем-то, никого, кроме второй жены, и нет из близких и родных, да не так уж она и растолстела, если присмотреться. А вечер на диво тихий, хоть и морозный, и понятно же, понятно, что вот оно – сатори!
Митрич
– Виктор Александрович, – сказала Алевтина приятелю своего мужа, подымаясь из-за стола, – я хочу, чтобы хоть раз в жизни вы испытали от меня малую толику тех неприятностей, что я претерпела по вашей милости, – и вылила полстакана водки за шиворот гостя.
Виктор склонился, поцеловал недрогнувшую ручку хозяйки, после чего гости дружно ретировались на тридцатиградусный мороз, благо до метро «Лесная» идти недалеко.
Так проходили «приемы» у Митрича. Кто думал, что Митрич не бьет жену, тот не ошибался. С топориком по квартире за Алевтиной бегал, это да, гранату грозился подложить – тоже, но это еще когда они нормально жили. Потом Аля устроилась работать проводником на Октябрьскую железную дорогу, что дало Митричу полное право в минуты душевной невзгоды и особенно на период конфликта смотреть стеклянными глазами мимо жены и орать: «Проводница, чаю!
Глаза у Митрича стеклянные не всегда, и щетина у него не всегда. Он похож на сову, только раз в сто восемьдесят пять крупнее. Начиналось-то как у всех: самодеятельные выставки живописи, копии с репродукций Дали (редких по тем временам), дешевый кубинский ром и неочищенная конопля. Социальная адаптация цвела пышным цветом, выражаясь в работе (в конструкторском бюро), халтурах, картинках маслом, маленьком аквариуме. О халтурах следует сказать особо: Митрич за умеренную плату брался делать любой курсовой проект и даже диплом, то есть практически по любой технической специальности.
Но – Проводница, чаю! – двое детенышей подрастали вместе с набирающей силу перестройкой и прочими нестихийными бедствиями. Митрич, уволенный из КБ за прогулы, намастрячился торговать аквариумными рыбками. Вместо одного маленького завел несколько больших аквариумов, мотался в Москву за редкой в Питере цихлазомой, растил, кормил, завел место на Кондратьевском рынке. Иногда во время очередного запоя ему случалось „положить рыбу“, и новый выводок дружно плавал кверху лимонным брюхом. Обычно после подобного эксцесса Митрич завязывал, бывало, что и на год, тщательно высчитывая по календарику количество дней до развязки: ритуал. Между рыбой ему случалось лить свечи, сторожить, приторговывать мелким товаром и прочее, прочее.
Митрич грузнел, казалось, становился еще выше, темнел и сам себе вязал жилетки. На большом празднике, Дне радио у Михалыча, засыпал на кухонном полу перед плитой, и не слишком кроткая жена Михалыча спотыкалась об него, ставя чайник. Не менял музыкальных и литературных пристрастий десятилетней давности, безуспешно соблазнял жен друзей и успешно – соседок, почти утратил рвотный рефлекс, и много еще всего с ним случилось, но так, по мелочи, не судьбоносно. Жена Алевтина покрасила волосы в радикально черный цвет, жизнь утратила строгие очертания, и сорок лет уже остались за могучей растолстевшей Митричевой спиной.
Но! Стоит человеку расслабиться и начать принимать действительность такой, какая есть, не протестуя против мироздания, найдя определенную гармонию в разрушении и прозябании, тут-то его и берут тепленьким. Алевтина. Переставь буквы, добавь „н“ – неизвестное, и вот уж Валентина, любовь большая и горячая, как Митрич после пробега по лестнице на пятый этаж.
Вернулось все, даже желание бриться. Митрич мотался к Валентине в Сестрорецк на последней электричке, чтобы ее взрослый сын ничего не заподозрил, счастливо проводил бессонную ночь и уезжал на рассвете. Надо и малька покормить, и на рынок успеть, рыба терпеть не будет. От подобного образа жизни Митрич похудел на десять лет. Глаза его приобрели иной, далеко не стеклянный блеск. Соседок соблазнять более не требовалось – приходили сами, но впустую. Даже с выпивкой завязывать пока не было необходимости, ибо последняя работала на увеличение в крови Митрича радости, а не лигрыла (литроградуса на рыло, по общей терминологии). Дети выросли почти окончательно, вот-вот можно было что-то решать, что-то менять в жизни.
Неужели, правда, любовь – двухлетнее растение? Потому что даже раньше, чем истекли два года, ни о какой Валентине уже не было и речи. Вода в Сестрорецке совершенно не подходила для разведения цихлазом.
Виктор склонился, поцеловал недрогнувшую ручку хозяйки, после чего гости дружно ретировались на тридцатиградусный мороз, благо до метро «Лесная» идти недалеко.
Так проходили «приемы» у Митрича. Кто думал, что Митрич не бьет жену, тот не ошибался. С топориком по квартире за Алевтиной бегал, это да, гранату грозился подложить – тоже, но это еще когда они нормально жили. Потом Аля устроилась работать проводником на Октябрьскую железную дорогу, что дало Митричу полное право в минуты душевной невзгоды и особенно на период конфликта смотреть стеклянными глазами мимо жены и орать: «Проводница, чаю!
Глаза у Митрича стеклянные не всегда, и щетина у него не всегда. Он похож на сову, только раз в сто восемьдесят пять крупнее. Начиналось-то как у всех: самодеятельные выставки живописи, копии с репродукций Дали (редких по тем временам), дешевый кубинский ром и неочищенная конопля. Социальная адаптация цвела пышным цветом, выражаясь в работе (в конструкторском бюро), халтурах, картинках маслом, маленьком аквариуме. О халтурах следует сказать особо: Митрич за умеренную плату брался делать любой курсовой проект и даже диплом, то есть практически по любой технической специальности.
Но – Проводница, чаю! – двое детенышей подрастали вместе с набирающей силу перестройкой и прочими нестихийными бедствиями. Митрич, уволенный из КБ за прогулы, намастрячился торговать аквариумными рыбками. Вместо одного маленького завел несколько больших аквариумов, мотался в Москву за редкой в Питере цихлазомой, растил, кормил, завел место на Кондратьевском рынке. Иногда во время очередного запоя ему случалось „положить рыбу“, и новый выводок дружно плавал кверху лимонным брюхом. Обычно после подобного эксцесса Митрич завязывал, бывало, что и на год, тщательно высчитывая по календарику количество дней до развязки: ритуал. Между рыбой ему случалось лить свечи, сторожить, приторговывать мелким товаром и прочее, прочее.
Митрич грузнел, казалось, становился еще выше, темнел и сам себе вязал жилетки. На большом празднике, Дне радио у Михалыча, засыпал на кухонном полу перед плитой, и не слишком кроткая жена Михалыча спотыкалась об него, ставя чайник. Не менял музыкальных и литературных пристрастий десятилетней давности, безуспешно соблазнял жен друзей и успешно – соседок, почти утратил рвотный рефлекс, и много еще всего с ним случилось, но так, по мелочи, не судьбоносно. Жена Алевтина покрасила волосы в радикально черный цвет, жизнь утратила строгие очертания, и сорок лет уже остались за могучей растолстевшей Митричевой спиной.
Но! Стоит человеку расслабиться и начать принимать действительность такой, какая есть, не протестуя против мироздания, найдя определенную гармонию в разрушении и прозябании, тут-то его и берут тепленьким. Алевтина. Переставь буквы, добавь „н“ – неизвестное, и вот уж Валентина, любовь большая и горячая, как Митрич после пробега по лестнице на пятый этаж.
Вернулось все, даже желание бриться. Митрич мотался к Валентине в Сестрорецк на последней электричке, чтобы ее взрослый сын ничего не заподозрил, счастливо проводил бессонную ночь и уезжал на рассвете. Надо и малька покормить, и на рынок успеть, рыба терпеть не будет. От подобного образа жизни Митрич похудел на десять лет. Глаза его приобрели иной, далеко не стеклянный блеск. Соседок соблазнять более не требовалось – приходили сами, но впустую. Даже с выпивкой завязывать пока не было необходимости, ибо последняя работала на увеличение в крови Митрича радости, а не лигрыла (литроградуса на рыло, по общей терминологии). Дети выросли почти окончательно, вот-вот можно было что-то решать, что-то менять в жизни.
Неужели, правда, любовь – двухлетнее растение? Потому что даже раньше, чем истекли два года, ни о какой Валентине уже не было и речи. Вода в Сестрорецке совершенно не подходила для разведения цихлазом.
Михалыч
Если у вас есть муж, имеющий привычку отмечать День радио у Михалыча, не стоит нервничать, когда он не придет ночевать. А позвонив Михалычу за полночь и услышав, что муж давным-давно уехал, оставить в покое валокардин, телефоны милиции, больниц, моргов и две пачки облегченных сигарет, лениво выпить горячего молока с медом и спокойно лечь спать. Муж наверняка остался у Михалыча. Потому что в противном случае хозяин подтвердил бы его присутствие, отказываясь передать трубку. Не любит Михалыч проверок, хоть ты тресни. А людей следует принимать такими, какие есть. Это Михалыч охотно подтвердит. Крупицы народной мудрости, пословицы, цитаты из кинофильмов советского времени, "гарики" Губермана оккупируют половину его речевой деятельности, вторая половина отведена радиолюбительским (как говорит сам носитель – "радиогубительским") терминам.
Узнать Михалыча легко: как правило, он водится на территории рынка, где продают тиристоры, транзисторы и всякие динамики; штаны на нем, независимо от материала и фасона, округлой формы с вытянутыми коленками, он плотный, невысокий, с богатыми усами. Но самое главное, он всегда и везде выглядит как абсолютно счастливый человек. Вот по этому-то качеству его и можно отличить от прочих. За это его и любят все, кроме непосредственных начальников на работе, и спускают то, за что другого лупили бы с утра до вечера. Ведь Михалыч как устроен в общении? Придя в дом повешенного, он не только заговорит о веревке, но и принесет с собой образцы, и расскажет соответствующие случаи. Но вдова, оскорбившись поначалу, через полчаса начнет есть из его рук и позволять гладить себя по коленке, хотя никаких комплиментов, кроме одного, не услышит. Единственный комплимент, употребляемый соблазнителем всегда и часто: "Люблю я выпукло-вогнутых гражданок". И он, конечно, соблазнит вдову, хотя бы и против ее воли – ведь женщины любят, когда против воли. Впрочем, когда Михалыч впадает в любовную ярость, он может и не посмотреть на пол объекта, это – частности. А он видит мир в целом. Как любой абсолютно счастливый человек, хотя других счастливых как-то не попадалось. Разве Леонардо? Из такого видения проистекает призвание Михалыча – изобретатель. Им запатентовано внушительное количество изобретений в области радиодела и телефонии, но самые удачные находки осели по квартирам знакомых в доморощенном исполнении. Позже они появлялись массовыми тиражами и в промышленных масштабах, но Михалыч был уже ни при чем. Он утверждает, что на Западе стал бы миллионером со своими изобретениями, коих у него появляется не меньше десятка в неделю. Вряд ли. При всей своей гипертрофированной рачительности вместо поиска менеджера или какого спонсора Михалыч продолжал бы выпиливать лобзиком деталь синхрофазотрона, будь то в Гарварде, Урюпинске или Токио.
Он приехал в Питер, отслужив положенное на подводной лодке, устроился электромонтером на радиоузле завода, выпускавшего галоши, и поселился в коммуналке. Коврик для ног лежал перед дверью внутри комнаты, чтобы не носить грязь в общественный коридор, на восемь метров жилья иногда приходилось более десятка гостей. При этом отношения с соседями были прекрасными, можно сказать, родственными. Подруг у Михалыча наблюдалось изрядное количество, но предпочтение отдавалось корпулентным "выпукло-вогнутым" гражданкам независимо от статуса. Щи ему варили одинаково старательно и кладовщицы, и начальницы профсоюза. Он о них по-своему заботился. В те годы, когда сахарный песок продавался по талонам, мог позаимствовать сахар у коллеги, матери-одиночки с двумя детьми, и отдать подруге. Объяснял просто: подруга – барышня одинокая, даже детей нет, кто еще о ней позаботится?
Когда Михалыч женился, самым серьезным изменением стал переезд коврика по другую сторону двери. Неизвестно, какой характер у жены Люси был прежде, но рядом с Михалычем она проявила себя сущим ангелом, суровым, как то ангелу и положено. Гости продолжали кучковаться в крохотной комнатушке и так же оставались ночевать, но теперь уж не вповалку, а ровными рядами и кучками. Посуда мылась регулярно, бодро булькали щи, и сахарного песка оказывалось вдоволь. Лишь Михалычевы штаны оставались вытянутыми на коленях, как и прежде. Штаны как часть хозяина трансформации не поддавались. Михалыч не звал жену по имени, но гражданка, или Родная – именно так, с большой буквы, обращение было перенято друзьями и соседями и звучало гораздо привычнее, чем Люся или Люда. "Пошли ко мне в гости, – уговаривал Михалыч случайно встреченного знакомого, – сегодня Родная пироги напекла".
Атрибут абсолютного счастья Михалыч перенес на свой брак и, соответственно, на жену. Никто и никогда не слышал, чтобы тот или другая жаловались на жизнь, ныли, переживали, хотя бы сетовали. А жили в точно такое же время, что и прочие, так же болели, сидели без работы и денег. И если Михалыч хватался за сердце, то потому, что ночь напролет просидел над очередным изобретением или новой пластинкой и выкурил пачку сигарет. К переживаниям не относится и борьба Михалыча за справедливость. Он обожал с пафосом выступить на собрании рабочего коллектива и открыть общественные глаза на злоупотребления начальства. Далее события развивались по принятой во всем мире практике: начальство злоупотреблять продолжало с еще большими основаниями, а Михалыч искал новую работу. Находил быстро. Ведь пока не столкнешься с его атмосферой счастья, вечного праздника и приключения, так и будешь думать, что перед тобой человек взрослый, умудренный годами и опытом.
Судьба, как любая гражданка, нервничает, когда ею пренебрегают. Утомившись испытывать Михалыча, лишать его работы, ломать руки, толкать под машины, устраивать перебои в сердце, она осыпала неподдающегося подарками, то есть одним подарком, но крупным. В год развала и тотальной приватизации судьба преподнесла ему на последнем блюдечке заводского сервиза шикарную государственную квартиру в две большие комнаты. Но Михалыч не дрогнул. Большую комнату немедленно завалил транзисторами и тиристорами, завесил окна черными бумажными шторами, чтоб солнце не мешало работать, стремительно перезнакомился с соседями по площадке, завел к себе на кухню и устроил подобие приснопамятной коммуналки. В маленькой комнате Родная разместила все остальное, подселив еще племянницу с дочкой. Так у Михалыча, обожавшего детей, но не имевшего своих, появилась готовенькая внучка. Они прекрасно ладят, ведь девочка еще маленькая, и, как обычно, счастливы.
Узнать Михалыча легко: как правило, он водится на территории рынка, где продают тиристоры, транзисторы и всякие динамики; штаны на нем, независимо от материала и фасона, округлой формы с вытянутыми коленками, он плотный, невысокий, с богатыми усами. Но самое главное, он всегда и везде выглядит как абсолютно счастливый человек. Вот по этому-то качеству его и можно отличить от прочих. За это его и любят все, кроме непосредственных начальников на работе, и спускают то, за что другого лупили бы с утра до вечера. Ведь Михалыч как устроен в общении? Придя в дом повешенного, он не только заговорит о веревке, но и принесет с собой образцы, и расскажет соответствующие случаи. Но вдова, оскорбившись поначалу, через полчаса начнет есть из его рук и позволять гладить себя по коленке, хотя никаких комплиментов, кроме одного, не услышит. Единственный комплимент, употребляемый соблазнителем всегда и часто: "Люблю я выпукло-вогнутых гражданок". И он, конечно, соблазнит вдову, хотя бы и против ее воли – ведь женщины любят, когда против воли. Впрочем, когда Михалыч впадает в любовную ярость, он может и не посмотреть на пол объекта, это – частности. А он видит мир в целом. Как любой абсолютно счастливый человек, хотя других счастливых как-то не попадалось. Разве Леонардо? Из такого видения проистекает призвание Михалыча – изобретатель. Им запатентовано внушительное количество изобретений в области радиодела и телефонии, но самые удачные находки осели по квартирам знакомых в доморощенном исполнении. Позже они появлялись массовыми тиражами и в промышленных масштабах, но Михалыч был уже ни при чем. Он утверждает, что на Западе стал бы миллионером со своими изобретениями, коих у него появляется не меньше десятка в неделю. Вряд ли. При всей своей гипертрофированной рачительности вместо поиска менеджера или какого спонсора Михалыч продолжал бы выпиливать лобзиком деталь синхрофазотрона, будь то в Гарварде, Урюпинске или Токио.
Он приехал в Питер, отслужив положенное на подводной лодке, устроился электромонтером на радиоузле завода, выпускавшего галоши, и поселился в коммуналке. Коврик для ног лежал перед дверью внутри комнаты, чтобы не носить грязь в общественный коридор, на восемь метров жилья иногда приходилось более десятка гостей. При этом отношения с соседями были прекрасными, можно сказать, родственными. Подруг у Михалыча наблюдалось изрядное количество, но предпочтение отдавалось корпулентным "выпукло-вогнутым" гражданкам независимо от статуса. Щи ему варили одинаково старательно и кладовщицы, и начальницы профсоюза. Он о них по-своему заботился. В те годы, когда сахарный песок продавался по талонам, мог позаимствовать сахар у коллеги, матери-одиночки с двумя детьми, и отдать подруге. Объяснял просто: подруга – барышня одинокая, даже детей нет, кто еще о ней позаботится?
Когда Михалыч женился, самым серьезным изменением стал переезд коврика по другую сторону двери. Неизвестно, какой характер у жены Люси был прежде, но рядом с Михалычем она проявила себя сущим ангелом, суровым, как то ангелу и положено. Гости продолжали кучковаться в крохотной комнатушке и так же оставались ночевать, но теперь уж не вповалку, а ровными рядами и кучками. Посуда мылась регулярно, бодро булькали щи, и сахарного песка оказывалось вдоволь. Лишь Михалычевы штаны оставались вытянутыми на коленях, как и прежде. Штаны как часть хозяина трансформации не поддавались. Михалыч не звал жену по имени, но гражданка, или Родная – именно так, с большой буквы, обращение было перенято друзьями и соседями и звучало гораздо привычнее, чем Люся или Люда. "Пошли ко мне в гости, – уговаривал Михалыч случайно встреченного знакомого, – сегодня Родная пироги напекла".
Атрибут абсолютного счастья Михалыч перенес на свой брак и, соответственно, на жену. Никто и никогда не слышал, чтобы тот или другая жаловались на жизнь, ныли, переживали, хотя бы сетовали. А жили в точно такое же время, что и прочие, так же болели, сидели без работы и денег. И если Михалыч хватался за сердце, то потому, что ночь напролет просидел над очередным изобретением или новой пластинкой и выкурил пачку сигарет. К переживаниям не относится и борьба Михалыча за справедливость. Он обожал с пафосом выступить на собрании рабочего коллектива и открыть общественные глаза на злоупотребления начальства. Далее события развивались по принятой во всем мире практике: начальство злоупотреблять продолжало с еще большими основаниями, а Михалыч искал новую работу. Находил быстро. Ведь пока не столкнешься с его атмосферой счастья, вечного праздника и приключения, так и будешь думать, что перед тобой человек взрослый, умудренный годами и опытом.
Судьба, как любая гражданка, нервничает, когда ею пренебрегают. Утомившись испытывать Михалыча, лишать его работы, ломать руки, толкать под машины, устраивать перебои в сердце, она осыпала неподдающегося подарками, то есть одним подарком, но крупным. В год развала и тотальной приватизации судьба преподнесла ему на последнем блюдечке заводского сервиза шикарную государственную квартиру в две большие комнаты. Но Михалыч не дрогнул. Большую комнату немедленно завалил транзисторами и тиристорами, завесил окна черными бумажными шторами, чтоб солнце не мешало работать, стремительно перезнакомился с соседями по площадке, завел к себе на кухню и устроил подобие приснопамятной коммуналки. В маленькой комнате Родная разместила все остальное, подселив еще племянницу с дочкой. Так у Михалыча, обожавшего детей, но не имевшего своих, появилась готовенькая внучка. Они прекрасно ладят, ведь девочка еще маленькая, и, как обычно, счастливы.
Коля-Балбес
Коля-Балбес был красивый. Ну, во-первых, он рыжий. Во-вторых – этого "во-первых" достаточно. И жена у него была довольно красивая, насколько может быть красивой блондинка. И дети, похоже, были. Еще в той жизни, в молодости то есть. В той жизни выпивали практически все, кроме детей. Дети если и пили, то исключительно по недосмотру молодых взрослых. Но взрослые взяли и перестали быть молодыми, и та жизнь кончилась. Совсем. Жена ушла, про детей – так и непонятно, были они, или нет.
Следующая жизнь – солидная, в ней покупают машины и квартиры, женятся по второму-третьему разу, готовят детей к поступлению в институт-университет, большинство, правда, готовит не детей, а деньги на поступление, но меньшинство тоже имеет право на солидную жизнь. В этой жизни большинство не пьет, а если пьет, то тоже солидно или в рамках, по крайней мере, на службе. Вот даже Михалыч в этой жизни пьет гораздо меньше, он как-то больше по закускам или по дамам. А упрямое меньшинство, ну то, которое имеет право, продолжает тянуть старые привычки, как Митрич. Балбес примкнул к меньшинству, пил, в общем-то, солидно, но солидность относилась именно к объему потребляемого. А что ему – жена ушла еще в той жизни. Квартира у него уже была, машину покупать и не собирался. А деньги тратить надо, в этой жизни денег у всех больше, чем в той. Работает Коля не абы как, на постоянной работе работает, что в солидной жизни для пьющего человека непросто.
Наконец случается у Балбеса юбилей. Первый. Солидный. Пятьдесят лет. В ресторан Коля не хочет принципиально, что он в ресторанах не видел? Все видел. Ведь в той жизни, еще в советские времена, служил на Лермонтовском проспекте в гостинице "Советская" как раз в ресторане – халдеем. Так это тогда называлось.
Готовится к юбилею, друзей зовет: Митрича с Михалычем. Митрич к этому времени со своей женой очередной раз сошелся, похоже, насовсем, Михалыч так и не развелся, ну женился-то поздно. Но идут на празднование без жен, друзья – они тем и хороши, что без предупреждения знают, куда с женами идти, куда без. К тому же с женами они не ходят никуда.
У Коли на столе раздолье: водка, виски, еще водка, несколько бутылок. И скумбрия холодного копчения – одна. Без хлеба. Выпили по первой за юбиляра, Балбес прилег на диван отдохнуть, а проснуться никак не получается. Потому что это только гости по первой, а Коля очень даже по очередной. Выпили по второй без Балбеса, то есть без Балбесова участия, сам-то он вот, рядом на диване, похрапывает, по третьей, и так до конца бутылки. Закусить хочется, скумбрия давно кончилась, вечер начинается совсем поздний. Хлеба все нет. Митрич говорит: "Так, – это он часто так говорит. – Поеду я домой, пока метро возит, у Алевтины суп сегодня. Жрать что-то сегодня очень хочется".
Чтобы Митрич от стола, полного бутылок, ушел – это редкость. Но, как оказалось, случается. Такой у него пафос был в этот вечер, почти поздний, – оставить праздничный стол и вернуться домой супу поесть. Мало ли у людей какие фантазии. А Балбес все спит на диване, не рыжий уже, седой наполовину. Михалыч с Митричем согласился, что есть хочется, – с легким сердцем согласился, тем более Михалыч всегда насчет закусок не дурак. Но друга оставлять в день юбилея нехорошо.
Объективно говоря, они оба – романтики, что Митрич, что Михалыч, потому удивительно, что Митрич к юбилею друга отнесся без трепета: выпил бутылку и ушел суп есть. Не то Михалыч. Согласиться-то он с Митричем согласился, встал, оделся, на улицу вышел. Но не домой отправился, где у жены, по семейному прозвищу "Родная", не только суп, а и второе, и пироги, салаты и винегреты, и даже компот бывает – не только по праздникам. Еще надо учесть, что пироги и пиццы Родная сама стряпает, а не покупает в "Пятерочке" замороженные полуфабрикаты, и пиццы у нее до того духовитые получаются, что на лестничной площадке у лифта слышно: Люся ужин готовит, с ветчиной и грибами сегодня. Или с сыром, яйцом и оливками. Много на свете разных начинок, Люся знает все. Так вот, отправился Михалыч прямиком в магазин, где купил кусок мяса, пару луковиц и хлеб. Вернулся. Балбес спит на диване. Встал Михалыч к плите, пожарил мясо с луком, хлеб нарезал. Балбес на запах проснулся немного. Поели, еще выпили, Балбес уснул. Началась ночь. Рано утром Михалыч уехал, хозяина будить не стал. Разве можно человека после юбилея будить!
К вечеру Балбес позвонил Митричу с некоторой обидой. А у Митрича очередной пафос: правду с плеча рубить, хотя бы и по телефону. Так он и заявил, что сильно жрать хотелось, а скумбрии на всех не хватило.
– Митрич! – с упреком сказал Балбес. – Я же волновался! Я две недели готовился! Я с утра на стакане был!
Митрич поборол стыд и повторил, что всякую выпивку рекомендуется перемежать закуской.
– А я про что? – возмутился Балбес. – Не могли холодильник открыть, да? У меня же на полк жратвы приготовлено. Сейчас вот с горя все на помойку снес, вместе с рыбой.
Рыбу Балбес замечательно готовит, и не только рыбу.
Следующая жизнь – солидная, в ней покупают машины и квартиры, женятся по второму-третьему разу, готовят детей к поступлению в институт-университет, большинство, правда, готовит не детей, а деньги на поступление, но меньшинство тоже имеет право на солидную жизнь. В этой жизни большинство не пьет, а если пьет, то тоже солидно или в рамках, по крайней мере, на службе. Вот даже Михалыч в этой жизни пьет гораздо меньше, он как-то больше по закускам или по дамам. А упрямое меньшинство, ну то, которое имеет право, продолжает тянуть старые привычки, как Митрич. Балбес примкнул к меньшинству, пил, в общем-то, солидно, но солидность относилась именно к объему потребляемого. А что ему – жена ушла еще в той жизни. Квартира у него уже была, машину покупать и не собирался. А деньги тратить надо, в этой жизни денег у всех больше, чем в той. Работает Коля не абы как, на постоянной работе работает, что в солидной жизни для пьющего человека непросто.
Наконец случается у Балбеса юбилей. Первый. Солидный. Пятьдесят лет. В ресторан Коля не хочет принципиально, что он в ресторанах не видел? Все видел. Ведь в той жизни, еще в советские времена, служил на Лермонтовском проспекте в гостинице "Советская" как раз в ресторане – халдеем. Так это тогда называлось.
Готовится к юбилею, друзей зовет: Митрича с Михалычем. Митрич к этому времени со своей женой очередной раз сошелся, похоже, насовсем, Михалыч так и не развелся, ну женился-то поздно. Но идут на празднование без жен, друзья – они тем и хороши, что без предупреждения знают, куда с женами идти, куда без. К тому же с женами они не ходят никуда.
У Коли на столе раздолье: водка, виски, еще водка, несколько бутылок. И скумбрия холодного копчения – одна. Без хлеба. Выпили по первой за юбиляра, Балбес прилег на диван отдохнуть, а проснуться никак не получается. Потому что это только гости по первой, а Коля очень даже по очередной. Выпили по второй без Балбеса, то есть без Балбесова участия, сам-то он вот, рядом на диване, похрапывает, по третьей, и так до конца бутылки. Закусить хочется, скумбрия давно кончилась, вечер начинается совсем поздний. Хлеба все нет. Митрич говорит: "Так, – это он часто так говорит. – Поеду я домой, пока метро возит, у Алевтины суп сегодня. Жрать что-то сегодня очень хочется".
Чтобы Митрич от стола, полного бутылок, ушел – это редкость. Но, как оказалось, случается. Такой у него пафос был в этот вечер, почти поздний, – оставить праздничный стол и вернуться домой супу поесть. Мало ли у людей какие фантазии. А Балбес все спит на диване, не рыжий уже, седой наполовину. Михалыч с Митричем согласился, что есть хочется, – с легким сердцем согласился, тем более Михалыч всегда насчет закусок не дурак. Но друга оставлять в день юбилея нехорошо.
Объективно говоря, они оба – романтики, что Митрич, что Михалыч, потому удивительно, что Митрич к юбилею друга отнесся без трепета: выпил бутылку и ушел суп есть. Не то Михалыч. Согласиться-то он с Митричем согласился, встал, оделся, на улицу вышел. Но не домой отправился, где у жены, по семейному прозвищу "Родная", не только суп, а и второе, и пироги, салаты и винегреты, и даже компот бывает – не только по праздникам. Еще надо учесть, что пироги и пиццы Родная сама стряпает, а не покупает в "Пятерочке" замороженные полуфабрикаты, и пиццы у нее до того духовитые получаются, что на лестничной площадке у лифта слышно: Люся ужин готовит, с ветчиной и грибами сегодня. Или с сыром, яйцом и оливками. Много на свете разных начинок, Люся знает все. Так вот, отправился Михалыч прямиком в магазин, где купил кусок мяса, пару луковиц и хлеб. Вернулся. Балбес спит на диване. Встал Михалыч к плите, пожарил мясо с луком, хлеб нарезал. Балбес на запах проснулся немного. Поели, еще выпили, Балбес уснул. Началась ночь. Рано утром Михалыч уехал, хозяина будить не стал. Разве можно человека после юбилея будить!
К вечеру Балбес позвонил Митричу с некоторой обидой. А у Митрича очередной пафос: правду с плеча рубить, хотя бы и по телефону. Так он и заявил, что сильно жрать хотелось, а скумбрии на всех не хватило.
– Митрич! – с упреком сказал Балбес. – Я же волновался! Я две недели готовился! Я с утра на стакане был!
Митрич поборол стыд и повторил, что всякую выпивку рекомендуется перемежать закуской.
– А я про что? – возмутился Балбес. – Не могли холодильник открыть, да? У меня же на полк жратвы приготовлено. Сейчас вот с горя все на помойку снес, вместе с рыбой.
Рыбу Балбес замечательно готовит, и не только рыбу.
Потапкин
Стихи-то Алеша порой писал хорошие, замечательные стихи. И если взялся бы их перечитывать да доводить до ума, не сложилось бы из него творческого человека, закончил бы очередным заурядным членом Союза писателей, каких и без того уж полтысячи в городе. Но Алеша Потапкин предпочитал работать над собой, неутомимо расчищая место под солнцем то в котельной, то на продаже элитных семян, то в ботаническом саду где-то в Крыму. В котельной собирались поэты, печатающиеся в многотиражке под названием "Текстиль", обсуждали будущие выступления, запивая портвейном Алешину картошку в мундире. Ругали Алешу и под настроение учили его писать правильно. В иные вечера разных "правильно" набиралось до четырех, больше никогда. После четырех начиналась конфронтация между самими гуру, об Алеше забывали. Шопенгауэр сменялся Кастанедой, Хайдеггер выживал Сведенборга, дзен обрастал языческими славянскими обрядами, Ницше оказывался особенно близок, что и говорить, легче всего до конца прочесть именно "Заратустру". Если придет такая фантазия. Дзен-буддизм еще не полностью исчерпал себя, когда котельная дала дуба всеми своими манометрами. Сперва закрыли бассейн, потом потекли трубы и перестали давать зарплату. Потапкин от зарплаты не зависел, он страдал, переживая трагедию любви. Объект был невысок, полноват, черняв и занимался росписью по керамическим тарелочкам. Алеша таскал сумки с тарелочками туда-сюда, рассуждал о низком проценте продаж, о закате искусства и живописи вообще, страдания были сладостны и продуктивны, но на одной из остановок между туда и сюда нарисовался бывший муж объекта и активно включился в движение. Места для Потапкина не стало. Он уволился из котельной и зарекся иметь дело с художниками.
Поэты, те тоньше и ближе. Новый объект, томный и изящный, как положено поэту, жил в двух часах от города, если на электричке. Вместе с метро и трамваем получалось все три. Алеша продавал семена в электричках по дороге обратно. По дороге туда, дороге любви, он сочинял стихи. Однажды он опоздал на последнюю электричку и ночевал на вокзале. Было восемнадцать градусов мороза, карандаш выпадал из пальцев, потому что перчатки Алеша забыл на подоконнике в парадной объекта. Вернуться за перчатками он не мог, там бродил постоянно действующий муж. Собственно, объект любви никогда не делал из мужа секрета, муж как муж, и Потапкина не скрывал по той простой причине, что скрывать было нечего. Алеша так и не переступил порога заветной квартиры, его любовь протекала на свежем воздухе. Но зимой романы протекают трудно, семена продаются плохо. Алеша сильно простудился и загремел в больницу. А когда вышел, место на свежем воздухе оказалось занято, хотя, кажется, улицы в городке не такие узкие. До весны он перемогся и повез свою хандру в Крым, сторожить сад, относящийся к Никитскому ботаническому. Кроме хандры он вез собаку, сторожей без собак не брали. Пса Алеша получил в приюте для бездомных животных за гроши, ухитрился оформить на того справку для самолета, все шло замечательно, но в полете у песика приключился понос от обилия впечатлений. В тот период Алеша увлекся прикладной магией, толкованием снов, совпадений и прочего, потому сразу сообразил, что дерьмо – к деньгам. За сезон в Никитском саду он на самом деле хорошо заработал, но вместо денег выдали продукцией, а именно, сколько-то яблок, немного персиков – испортятся ведь, а в основном миндалем. Потапкин проявил чудеса деловитости, договорился с машиной и сумел переправить в Питер все мешки. Миндаль был нечищеный, в зеленых кожурках, под которыми скрывался продолговатый и твердый орех. Кожурки гнили, заражая оболочку; чистить, раскладывать по ящикам, сушить миндаль оказалось трудней, чем найти машину из Крыма в Питер. Спину ломило от непрерывного сидения над ящиком, кожа на руках потемнела и потрескалась. Чищенные орехи Алеша сбывал на рынке бабкам, те брали плохо, больше всего взяли в каком-то кафе, целых десять килограммов. На ближайшие годы орехов хватало.
Одна любовь сменяла другую, страдания не кончались. Не все объекты были замужем, более того, не все догадывались о Потапкиной страсти, но общая черта неизменно и жирно обводила все романы Алеши – приверженность объекта Эвтерпе или Эрато. Алеша любил только поэтов. Слово "поэтесса" объекты не признавали, они числили себя поэтами, пусть непризнанными. Пока. Так бы все и шло, к общему удовольствию, только самые ленивые и нетрезвые из друзей не упражнялись в остроумии за потапкинский счет, только самые отчаянные из филантропов не учили его жизни, но… Алеша женился. И как-то так получилось, что жена не сочиняла стихов, а совсем наоборот, сочиняла музыку. Причем профессионально, более того, ей же еще за это и платили, чем не могут похвастаться 999 поэтов из тысячи, пусть и признанных. И еще получилось, что Алеша бросил семена, котельные, ботанические сады и устроился на постоянную работу, как последний филистер. Стихи он пишет по-прежнему, наверное, не хуже, чем раньше, никто не знает. Больше Потапкин стихов не показывает.
Поэты, те тоньше и ближе. Новый объект, томный и изящный, как положено поэту, жил в двух часах от города, если на электричке. Вместе с метро и трамваем получалось все три. Алеша продавал семена в электричках по дороге обратно. По дороге туда, дороге любви, он сочинял стихи. Однажды он опоздал на последнюю электричку и ночевал на вокзале. Было восемнадцать градусов мороза, карандаш выпадал из пальцев, потому что перчатки Алеша забыл на подоконнике в парадной объекта. Вернуться за перчатками он не мог, там бродил постоянно действующий муж. Собственно, объект любви никогда не делал из мужа секрета, муж как муж, и Потапкина не скрывал по той простой причине, что скрывать было нечего. Алеша так и не переступил порога заветной квартиры, его любовь протекала на свежем воздухе. Но зимой романы протекают трудно, семена продаются плохо. Алеша сильно простудился и загремел в больницу. А когда вышел, место на свежем воздухе оказалось занято, хотя, кажется, улицы в городке не такие узкие. До весны он перемогся и повез свою хандру в Крым, сторожить сад, относящийся к Никитскому ботаническому. Кроме хандры он вез собаку, сторожей без собак не брали. Пса Алеша получил в приюте для бездомных животных за гроши, ухитрился оформить на того справку для самолета, все шло замечательно, но в полете у песика приключился понос от обилия впечатлений. В тот период Алеша увлекся прикладной магией, толкованием снов, совпадений и прочего, потому сразу сообразил, что дерьмо – к деньгам. За сезон в Никитском саду он на самом деле хорошо заработал, но вместо денег выдали продукцией, а именно, сколько-то яблок, немного персиков – испортятся ведь, а в основном миндалем. Потапкин проявил чудеса деловитости, договорился с машиной и сумел переправить в Питер все мешки. Миндаль был нечищеный, в зеленых кожурках, под которыми скрывался продолговатый и твердый орех. Кожурки гнили, заражая оболочку; чистить, раскладывать по ящикам, сушить миндаль оказалось трудней, чем найти машину из Крыма в Питер. Спину ломило от непрерывного сидения над ящиком, кожа на руках потемнела и потрескалась. Чищенные орехи Алеша сбывал на рынке бабкам, те брали плохо, больше всего взяли в каком-то кафе, целых десять килограммов. На ближайшие годы орехов хватало.
Одна любовь сменяла другую, страдания не кончались. Не все объекты были замужем, более того, не все догадывались о Потапкиной страсти, но общая черта неизменно и жирно обводила все романы Алеши – приверженность объекта Эвтерпе или Эрато. Алеша любил только поэтов. Слово "поэтесса" объекты не признавали, они числили себя поэтами, пусть непризнанными. Пока. Так бы все и шло, к общему удовольствию, только самые ленивые и нетрезвые из друзей не упражнялись в остроумии за потапкинский счет, только самые отчаянные из филантропов не учили его жизни, но… Алеша женился. И как-то так получилось, что жена не сочиняла стихов, а совсем наоборот, сочиняла музыку. Причем профессионально, более того, ей же еще за это и платили, чем не могут похвастаться 999 поэтов из тысячи, пусть и признанных. И еще получилось, что Алеша бросил семена, котельные, ботанические сады и устроился на постоянную работу, как последний филистер. Стихи он пишет по-прежнему, наверное, не хуже, чем раньше, никто не знает. Больше Потапкин стихов не показывает.
