Страница:
– Не помню… – сказала она холодно и вполне искренне; эти изменчивые, вечно рискующие натуры живут сегодняшним днем своей любви. Они не помнят прошлого, они не боятся будущего.
Каудаль, напротив, был весь в прошлом; под действием сотерна он перебирал в памяти похождения своей неутомимой молодости: похождения любовные, кутежи, поездки за город, балы в Опере, труды в мастерской, битвы и победы. Но, вскинув на влюбленных глаза, в которых горел отсвет тех костров, которые он сейчас разворошил в душе, он заметил, что они его не слушают: они перекладывали друг другу изо рта в рот виноградинки.
– Должно быть, все это очень скучно, что я рассказываю!.. Да, да, я вам надоел… А, черт побери!.. Скверная штука – старость…
Он встал, бросил салфетку на стол.
– Запишите за мной завтрак, папаша Ланглуа!.. – крикнул он ресторатору и, словно подтачиваемый неизлечимым недугом, пошел, уныло волоча ноги.
Влюбленные долго провожали взглядом его высокую фигуру, порой нагибавшуюся, чтобы ее не задели ветви с пожелтевшими листьями.
– Бедный Каудаль!.. Он, правда, здорово сдал… – с непритворным сочувствием прошептала Фанни.
Госсен выразил возмущение тем, что Мария, девчонка, натурщица, посмела надругаться над чувством Каудаля и предпочесть великому скульптору – кого?.. Моратера, бездарного мазилку, у которого есть только одно преимущество – молодость, но Фанни в ответ засмеялась:
– Ах ты, дитя, дитя!..
Она схватила обеими руками его голову, положила к себе на колени и прильнула губами к его глазам, волосам, как бы втягивая, как бы вдыхая его особенный запах, словно это был букет цветов.
В тот вечер Жан впервые остался ночевать у своей возлюбленной, хотя она приставала к нему с этим уже три месяца:
– Ну почему ты не хочешь?
– Не знаю… Я стесняюсь.
– Да тебе же говорят, что я свободна, что я одна!..
Сегодня сказалась усталость после поездки за город, и Фанни удалось затащить его на улицу Аркад, благо это было недалеко от вокзала. На антресолях мещанского дома – с виду почтенного и богатого – старая служанка в крестьянском чепце отворила им с угрюмым видом дверь.
– Это Машом… Здравствуй, Машом!.. – сказала Фанни и прыгнула ей на шею. – А это мой любимый, мой повелитель… Я его привела… Поскорей зажги все, что только можно, сделай так, чтобы в доме было красиво…
Жан остался один в маленькой гостиной с низкими сводчатыми окнами, на которых висели банальные занавески такого же синего шелку, что и чехлы на диванах и прочей мебели из лакированного дерева. На стенах три-четыре пейзажа оживляли обои и вливали в гостиную свежую струю. На всех картинах были дарственные надписи: «Фанни Легран…», «Дорогой Фанни…».
На камине – мраморная, в половину человеческого роста, статуя Сафо работы Каудаля; ее отливки из бронзы были очень распространены – один из таких отливков Госсен еще в раннем детстве видел в кабинете у отца. При свете единственной свечи, стоявшей у подножия статуи, он уловил сходство Сафо с его возлюбленной, сходство, при котором натура выступала облагороженной и как бы помолодевшей. Профиль, линия стана под драпировкой, ниспадающая округлость рук, переплетенных вокруг коленей, – все это было ему близко знакомо. Восхищение искусством ваятеля сливалось с воспоминаниями об ощущениях интимных.
Фанни, застав его за созерцанием мрамора, непринужденно заговорила:
– Есть в ней что-то мое, правда?.. Натурщица Каудаля была похожа на меня…
И сейчас же увела Госсена в свою комнату – там Машом с недовольным видом уже расставляла на круглом столике два прибора. Были зажжены подсвечники, зажжены бра у зеркального шкафа, в камине, за экраном, пылал яркий огонь, веселый, как первый огонь на земле, – казалось, будто здесь дама собирается на бал.
– Мне хотелось поужинать в моей комнате… – сказала со смехом Фанни. – Так мы скорей будем в постели.
Жан никогда еще не видел такого кокетливого убранства. Обитая штофом спальня Людовика XVI, обитые светлым муслином спальни его матери и сестер ничем не напоминали это устланное пухом теплое гнездышко, где панель прикрывал мягкий атлас, где кровать заменял один из диванов, более широкий, стоявший в глубине на разостланной белой шкуре.
Эта ласка света, тепла, голубых бликов, удлинявшихся в граненых зеркалах, была особенно приятна после ходьбы по полям, по грязи проселочных дорог, под проливным дождем, на закате дня. Единственно, что мешало Госсену с провинциальным смаком наслаждаться комфортом, каким было обставлено их свидание, это угрюмость служанки, ее взгляд, устремленный на него, до того подозрительный, что Фанни наконец не выдержала и мигом услала ее:
– Оставь нас, Машом… Мы сами за собой поухаживаем…
Крестьянка хлопнула дверью.
– Не обращай внимания, – сказала Фанни. – Она ревнует меня к тебе… Говорит, что я себя гублю… Эти деревенские такой цепкий народ!.. Но готовит она превосходно, из-за одного этого стоит ее держать… Вот попробуй паштет из зайца!
Она резала паштет, откупоривала бутылку с шампанским, ухаживала за ним и забывала о себе, и при каждом ее движении поднимались до плеч рукава алжирской гандуры из мягкой белой шерсти, – она всегда носила ее дома. Сейчас, в гандуре, она напоминала ему ту Фанни, которую он встретил на бале-маскараде у Дешелета. Сидя в одном кресле, плотно прижавшись друг к другу, они ели с одной тарелки и говорили об этом вечере.
– Я с первого взгляда почувствовала к тебе влечение!.. – призналась она. – Мне хотелось схватить тебя за руку и сейчас же увести, чтобы на тебя не посягнули другие… А что подумал ты, когда меня увидел?..
Сначала он боялся ее, а потом страх сменился полным доверием и неожиданным ощущением близости.
– И ведь я же тебя ни о чем не спрашивал… – добавил он. – За что ты на меня рассердилась? За две строчки из Ла Гурнери?..
Она сдвинула брови точно так же, как тогда, на балу, затем тряхнула головой:
– Пустяки!.. Не будем больше об этом говорить… – И обвила ему шею руками. – Я ведь тоже поначалу побаивалась тебя… Я пыталась спрятаться от тебя, вовремя отступить… Но у меня не хватило сил, и теперь уже не хватит до конца жизни…
– Ну уж до конца жизни!
– Вот увидишь.
Он ответил ей улыбкой, скептической в меру своего возраста, и пропустил мимо ушей страстно, почти угрожающе звучавшие слова: «Вот увидишь…» Но обнимала она его так кротко, так покорно! Госсен был твердо уверен, что из такого объятия он может высвободиться одним рывком…
А для чего, собственно, высвобождаться? Ему было так хорошо в этой дышавшей негою комнате, сладко дурманило ласковое дыхание его возлюбленной, которое он ощущал на слипавшихся глазах, а перед глазами все еще летучими видениями мелькали ржавые леса, луга, мельничные жернова под струей зерна, весь нынешний проведенный на лоне природы, наполненный любовью день.
Утром его разбудил голос Машом, – она, не стесняясь, кричала, стоя у самой кровати:
– Он пришел!.. Ему нужно с вами поговорить!..
– То есть как поговорить?.. Меня же нет дома!.. Зачем ты его впустила?..
Не помня себя от бешенства, Фанни вскочила с постели и, полураздетая, в расстегнутом капоте, выбежала из комнаты, успев сказать Госсену:
– Лежи, лежи, дружочек!.. Я сейчас…
Но он не стал ее дожидаться и почувствовал себя уверенно, только когда поднялся, оделся и сунул в ботинки свои сильные ноги.
Собирая вещи, разбросанные по всей этой темной комнате, в которой ночничок освещал остатки холодного ужина, он прислушивался к заглушаемому обоями гостиной крупному разговору. Мужской голос, вначале злобный, потом умоляющий, раскаты которого перешли в рыдания, в слезливую расслабленность, сменялся другим, и Жан узнал его не сразу: грубый, хриплый, он звучал ненавистью и произносил мерзкие слова, какими осыпают друг друга девицы в пивных.
Слова оскверняли ту любовную роскошь, с какой была обставлена эта комната, забрызгивали грязью ее чистый шелк. И сама женщина тоже запачкалась, стала в его глазах на одну доску с теми, к которым он всегда относился с презрением.
Фанни вошла, тяжело дыша, красивым жестом подбирая распущенные волосы.
– Что может быть глупее плачущего мужчины?.. – воскликнула она, но, увидев, что он стоит одетый, в исступлении крикнула: – Ты встал?.. Ложись!.. Сейчас же ложись!.. Я тебе приказываю!..
Затем она так же внезапно смягчилась и, притягивая его к себе и рукою и звуком голоса, проговорила:
– Нет, нет!.. Не уходи!.. Я не могу тебя так отпустить!.. Во-первых, я убеждена, что ты ко мне не вернешься…
– Конечно, вернусь… Что это тебе пришло в голову?..
– Поклянись, что ты на меня не рассердился, что ты вернешься… Я же тебя знаю!
Он дал слово, но в постель так и не лег, несмотря на ее мольбы и настойчивые уверения, что она у себя дома, что она свободна и никому отчетом в своих поступках не обязана. В конце концов она, видимо, примирилась с тем, что ему нужно идти, проводила его до дверей, и сейчас в ней уже ничего не осталось от разъяренной менады, напротив, вид у нее был приниженный и виноватый.
Долгий и проникновенный прощальный поцелуй задержал их в передней.
– Ну так… когда же?.. – спросила она, стараясь заглянуть в самую глубину его глаз.
Он хотел было что-то ответить, конечно, солгать, лишь бы скорее уйти, но тут вдруг раздался звонок. Из кухни вышла Машом, но Фанни знаком остановила ее:
– Не надо!.. Не отворяй!..
И они, все трое, стояли молча, не шевелясь.
Послышался приглушенный вздох, затем шорох подсовываемого под дверь письма и медленно удаляющиеся шаги.
– Я же тебе говорила, что я свободна!.. На, прочти!..
Фанни передала своему возлюбленному только что распечатанное ею письмо, жалкое любовное послание, недостойное, малодушное, нацарапанное карандашом за столиком в кафе, письмо, в котором несчастный просил прощения за недавнюю дикую выходку, признавал, что у него нет на нее никаких прав, кроме того, которое она сама соизволит ему предоставить, на коленях молил не прогонять его, обещал принять все условия, покориться во всем… только бы не потерять ее навсегда! Господи, только бы не потерять ее!..
– Убедился?.. – спросила она с недобрым смехом, и этот смех преградил ей дорогу к его сердцу. Госсен мысленно упрекнул ее в бесчеловечности. Он не знал, что в душе любящей женщины есть место только для любимого человека, что все живущие в ней силы милосердия, доброты, отзывчивости, самоотвержения поглощает кто-нибудь один, единственное существо на земле.
– Зачем ты над ним издеваешься?.. Он написал тебе такое пламенное, душераздирающее письмо!.. – сказал Госсен и, протянув к ней руки, тихо и совершенно серьезно спросил: – Послушай, за что ты его прогоняешь?..
– Он мне не нужен… Я его не люблю.
– Но ведь он же твой любовник!.. Он окружил тебя всей этой роскошью, в которой ты живешь, в которой ты жила и раньше, без которой ты не можешь обойтись.
– Дружочек! – начала она знакомым ему задушевным тоном. – До тебя мне все здесь очень нравилось… А теперь я от всего этого устала, мне стыдно, меня тошнит… О, я знаю, что ты скажешь: ты – это несерьезно, ты меня не любишь… Но это уж мое дело… Хочешь не хочешь, а ты меня полюбишь.
Он ничего ей не ответил, назначил свидание на завтра и, сунув Машом в награду за паштет из зайца несколько луидоров, составлявших содержимое его студенческого кошелька, поспешил удалиться. Для него все здесь было кончено… Какое он имеет право нарушать привычный уклад жизни этой женщины и что может он предложить ей взамен того, что она из-за него потеряет?
Обо всем этом он написал ей в тот же день по возможности мягко, по возможности чистосердечно, не сознаваясь, однако, в том, что порвать с нею связь, отказаться от мимолетной и отрадной причуды его мгновенно заставило то бездушное, то нечистоплотное, чему он явился свидетелем: едва лишь минула ночь любви, как за стеной послышались рыдания обманутого любовника, а она в ответ хохотала и ругалась, как прачка.
В этом юнце, выросшем вдали от Парижа, в провансальской глуши, было что-то от отцовской жесткости, уживавшейся с крайней деликатностью, с крайней душевной восприимчивостью матери, и внешне он был ее живым портретом. Пример дяди Жана со стороны отца также долженствовал уберечь его от пагубных увлечений: беспорядочная жизнь и чудачества дядюшки почти разорили всю семью и чуть было не погубили ее честь.
Дядя Сезер! Достаточно было назвать Жану это имя и вызвать в его памяти семейную драму, и Жан пожертвовал бы и чем-либо несравненно более ему дорогим, нежели маленький роман с Фанни, которому он с самого начала не придавал никакого значения. Однако расстаться с ней оказалось совсем не так просто.
Получив формальную отставку, она все же вновь появилась на его горизонте, – ее не обескуражили ни его нежелание с ней встречаться, ни запертая дверь, ни неумолимые ответы. «У меня совсем нет самолюбия…» – писала она ему. Она подстерегала его на пути в ресторан, ждала его у кафе, где он читал газеты. И при всем том ни одной слезы, ни единого укора. Если он был в компании, она довольствовалась тем, что шла за ним следом до тех пор, пока он не расставался со спутниками.
– Хочешь, проведем вместе вечер?.. Нет?.. Ну, хорошо, как-нибудь в другой раз.
И она уходила с покорной грустью фокусника, у которого фокус не удался, а Госсен упрекал себя в черствости и испытывал унизительное чувство оттого, что каждый раз лепетал ей неправду: экзамены на носу… совсем нет свободного времени… как-нибудь потом, если только она в состоянии ждать… На самом деле он рассчитывал, сдав экзамены, отдохнуть месяц на юге – авось она его за это время забудет.
К несчастью, после экзаменов Жан заболел. Прохаживаясь по коридорам министерства, он подхватил ангину, сначала не обратил на нее внимания – и разболелся не на шутку. В Париже он никого не знал, за исключением нескольких студентов, своих земляков, но и тех отдалила и рассеяла поглощавшая его страсть. Впрочем, теперь он нуждался в совершенно особой преданности, вот почему в первый же вечер у его кровати оказалась Фанни Легран, а затем в течение десяти суток она, ловкая, как опытная сиделка, не отходила от него ни на шаг, ухаживала за ним, не ощущая ни усталости, ни брезгливости, и осыпала нежными ласками, которые в часы сильного жара отбрасывали его к поре тяжелого заболевания, перенесенного им в детстве, заставляли его звать «тетю Дивонну» и говорить: «Спасибо, Дивонна!» – когда рука Фанни касалась его влажного лба.
– Это не Дивонна… Это я… Я – с тобой…
Она избавляла его от платных забот, от прижиганий, сделанных неловкими руками, от полосканий, приготовляемых в швейцарской, и Жан выздоровел благодаря ее расторопности, изобретательности, благодаря проворству ее осторожных и сладострастных рук. Спала она – не более двух часов – на диване, на студенческом диване, мягком, как тюремные нары.
– Милая Фанни! Что же ты не съездишь домой?.. – спросил он однажды. – Мне лучше… А то Машом, наверно, беспокоится.
Фанни засмеялась… Уплыла от нее Машом, и весь дом уплыл. Все продано – обстановка, носильные вещи, все, вплоть до постельных принадлежностей. Осталось только платье, то, что на ней, и немного дорогого белья, которое удалось припрятать ее служанке… Так что если он теперь ее выгонит, то она на улице.

III
Каудаль, напротив, был весь в прошлом; под действием сотерна он перебирал в памяти похождения своей неутомимой молодости: похождения любовные, кутежи, поездки за город, балы в Опере, труды в мастерской, битвы и победы. Но, вскинув на влюбленных глаза, в которых горел отсвет тех костров, которые он сейчас разворошил в душе, он заметил, что они его не слушают: они перекладывали друг другу изо рта в рот виноградинки.
– Должно быть, все это очень скучно, что я рассказываю!.. Да, да, я вам надоел… А, черт побери!.. Скверная штука – старость…
Он встал, бросил салфетку на стол.
– Запишите за мной завтрак, папаша Ланглуа!.. – крикнул он ресторатору и, словно подтачиваемый неизлечимым недугом, пошел, уныло волоча ноги.
Влюбленные долго провожали взглядом его высокую фигуру, порой нагибавшуюся, чтобы ее не задели ветви с пожелтевшими листьями.
– Бедный Каудаль!.. Он, правда, здорово сдал… – с непритворным сочувствием прошептала Фанни.
Госсен выразил возмущение тем, что Мария, девчонка, натурщица, посмела надругаться над чувством Каудаля и предпочесть великому скульптору – кого?.. Моратера, бездарного мазилку, у которого есть только одно преимущество – молодость, но Фанни в ответ засмеялась:
– Ах ты, дитя, дитя!..
Она схватила обеими руками его голову, положила к себе на колени и прильнула губами к его глазам, волосам, как бы втягивая, как бы вдыхая его особенный запах, словно это был букет цветов.
В тот вечер Жан впервые остался ночевать у своей возлюбленной, хотя она приставала к нему с этим уже три месяца:
– Ну почему ты не хочешь?
– Не знаю… Я стесняюсь.
– Да тебе же говорят, что я свободна, что я одна!..
Сегодня сказалась усталость после поездки за город, и Фанни удалось затащить его на улицу Аркад, благо это было недалеко от вокзала. На антресолях мещанского дома – с виду почтенного и богатого – старая служанка в крестьянском чепце отворила им с угрюмым видом дверь.
– Это Машом… Здравствуй, Машом!.. – сказала Фанни и прыгнула ей на шею. – А это мой любимый, мой повелитель… Я его привела… Поскорей зажги все, что только можно, сделай так, чтобы в доме было красиво…
Жан остался один в маленькой гостиной с низкими сводчатыми окнами, на которых висели банальные занавески такого же синего шелку, что и чехлы на диванах и прочей мебели из лакированного дерева. На стенах три-четыре пейзажа оживляли обои и вливали в гостиную свежую струю. На всех картинах были дарственные надписи: «Фанни Легран…», «Дорогой Фанни…».
На камине – мраморная, в половину человеческого роста, статуя Сафо работы Каудаля; ее отливки из бронзы были очень распространены – один из таких отливков Госсен еще в раннем детстве видел в кабинете у отца. При свете единственной свечи, стоявшей у подножия статуи, он уловил сходство Сафо с его возлюбленной, сходство, при котором натура выступала облагороженной и как бы помолодевшей. Профиль, линия стана под драпировкой, ниспадающая округлость рук, переплетенных вокруг коленей, – все это было ему близко знакомо. Восхищение искусством ваятеля сливалось с воспоминаниями об ощущениях интимных.
Фанни, застав его за созерцанием мрамора, непринужденно заговорила:
– Есть в ней что-то мое, правда?.. Натурщица Каудаля была похожа на меня…
И сейчас же увела Госсена в свою комнату – там Машом с недовольным видом уже расставляла на круглом столике два прибора. Были зажжены подсвечники, зажжены бра у зеркального шкафа, в камине, за экраном, пылал яркий огонь, веселый, как первый огонь на земле, – казалось, будто здесь дама собирается на бал.
– Мне хотелось поужинать в моей комнате… – сказала со смехом Фанни. – Так мы скорей будем в постели.
Жан никогда еще не видел такого кокетливого убранства. Обитая штофом спальня Людовика XVI, обитые светлым муслином спальни его матери и сестер ничем не напоминали это устланное пухом теплое гнездышко, где панель прикрывал мягкий атлас, где кровать заменял один из диванов, более широкий, стоявший в глубине на разостланной белой шкуре.
Эта ласка света, тепла, голубых бликов, удлинявшихся в граненых зеркалах, была особенно приятна после ходьбы по полям, по грязи проселочных дорог, под проливным дождем, на закате дня. Единственно, что мешало Госсену с провинциальным смаком наслаждаться комфортом, каким было обставлено их свидание, это угрюмость служанки, ее взгляд, устремленный на него, до того подозрительный, что Фанни наконец не выдержала и мигом услала ее:
– Оставь нас, Машом… Мы сами за собой поухаживаем…
Крестьянка хлопнула дверью.
– Не обращай внимания, – сказала Фанни. – Она ревнует меня к тебе… Говорит, что я себя гублю… Эти деревенские такой цепкий народ!.. Но готовит она превосходно, из-за одного этого стоит ее держать… Вот попробуй паштет из зайца!
Она резала паштет, откупоривала бутылку с шампанским, ухаживала за ним и забывала о себе, и при каждом ее движении поднимались до плеч рукава алжирской гандуры из мягкой белой шерсти, – она всегда носила ее дома. Сейчас, в гандуре, она напоминала ему ту Фанни, которую он встретил на бале-маскараде у Дешелета. Сидя в одном кресле, плотно прижавшись друг к другу, они ели с одной тарелки и говорили об этом вечере.
– Я с первого взгляда почувствовала к тебе влечение!.. – призналась она. – Мне хотелось схватить тебя за руку и сейчас же увести, чтобы на тебя не посягнули другие… А что подумал ты, когда меня увидел?..
Сначала он боялся ее, а потом страх сменился полным доверием и неожиданным ощущением близости.
– И ведь я же тебя ни о чем не спрашивал… – добавил он. – За что ты на меня рассердилась? За две строчки из Ла Гурнери?..
Она сдвинула брови точно так же, как тогда, на балу, затем тряхнула головой:
– Пустяки!.. Не будем больше об этом говорить… – И обвила ему шею руками. – Я ведь тоже поначалу побаивалась тебя… Я пыталась спрятаться от тебя, вовремя отступить… Но у меня не хватило сил, и теперь уже не хватит до конца жизни…
– Ну уж до конца жизни!
– Вот увидишь.
Он ответил ей улыбкой, скептической в меру своего возраста, и пропустил мимо ушей страстно, почти угрожающе звучавшие слова: «Вот увидишь…» Но обнимала она его так кротко, так покорно! Госсен был твердо уверен, что из такого объятия он может высвободиться одним рывком…
А для чего, собственно, высвобождаться? Ему было так хорошо в этой дышавшей негою комнате, сладко дурманило ласковое дыхание его возлюбленной, которое он ощущал на слипавшихся глазах, а перед глазами все еще летучими видениями мелькали ржавые леса, луга, мельничные жернова под струей зерна, весь нынешний проведенный на лоне природы, наполненный любовью день.
Утром его разбудил голос Машом, – она, не стесняясь, кричала, стоя у самой кровати:
– Он пришел!.. Ему нужно с вами поговорить!..
– То есть как поговорить?.. Меня же нет дома!.. Зачем ты его впустила?..
Не помня себя от бешенства, Фанни вскочила с постели и, полураздетая, в расстегнутом капоте, выбежала из комнаты, успев сказать Госсену:
– Лежи, лежи, дружочек!.. Я сейчас…
Но он не стал ее дожидаться и почувствовал себя уверенно, только когда поднялся, оделся и сунул в ботинки свои сильные ноги.
Собирая вещи, разбросанные по всей этой темной комнате, в которой ночничок освещал остатки холодного ужина, он прислушивался к заглушаемому обоями гостиной крупному разговору. Мужской голос, вначале злобный, потом умоляющий, раскаты которого перешли в рыдания, в слезливую расслабленность, сменялся другим, и Жан узнал его не сразу: грубый, хриплый, он звучал ненавистью и произносил мерзкие слова, какими осыпают друг друга девицы в пивных.
Слова оскверняли ту любовную роскошь, с какой была обставлена эта комната, забрызгивали грязью ее чистый шелк. И сама женщина тоже запачкалась, стала в его глазах на одну доску с теми, к которым он всегда относился с презрением.
Фанни вошла, тяжело дыша, красивым жестом подбирая распущенные волосы.
– Что может быть глупее плачущего мужчины?.. – воскликнула она, но, увидев, что он стоит одетый, в исступлении крикнула: – Ты встал?.. Ложись!.. Сейчас же ложись!.. Я тебе приказываю!..
Затем она так же внезапно смягчилась и, притягивая его к себе и рукою и звуком голоса, проговорила:
– Нет, нет!.. Не уходи!.. Я не могу тебя так отпустить!.. Во-первых, я убеждена, что ты ко мне не вернешься…
– Конечно, вернусь… Что это тебе пришло в голову?..
– Поклянись, что ты на меня не рассердился, что ты вернешься… Я же тебя знаю!
Он дал слово, но в постель так и не лег, несмотря на ее мольбы и настойчивые уверения, что она у себя дома, что она свободна и никому отчетом в своих поступках не обязана. В конце концов она, видимо, примирилась с тем, что ему нужно идти, проводила его до дверей, и сейчас в ней уже ничего не осталось от разъяренной менады, напротив, вид у нее был приниженный и виноватый.
Долгий и проникновенный прощальный поцелуй задержал их в передней.
– Ну так… когда же?.. – спросила она, стараясь заглянуть в самую глубину его глаз.
Он хотел было что-то ответить, конечно, солгать, лишь бы скорее уйти, но тут вдруг раздался звонок. Из кухни вышла Машом, но Фанни знаком остановила ее:
– Не надо!.. Не отворяй!..
И они, все трое, стояли молча, не шевелясь.
Послышался приглушенный вздох, затем шорох подсовываемого под дверь письма и медленно удаляющиеся шаги.
– Я же тебе говорила, что я свободна!.. На, прочти!..
Фанни передала своему возлюбленному только что распечатанное ею письмо, жалкое любовное послание, недостойное, малодушное, нацарапанное карандашом за столиком в кафе, письмо, в котором несчастный просил прощения за недавнюю дикую выходку, признавал, что у него нет на нее никаких прав, кроме того, которое она сама соизволит ему предоставить, на коленях молил не прогонять его, обещал принять все условия, покориться во всем… только бы не потерять ее навсегда! Господи, только бы не потерять ее!..
– Убедился?.. – спросила она с недобрым смехом, и этот смех преградил ей дорогу к его сердцу. Госсен мысленно упрекнул ее в бесчеловечности. Он не знал, что в душе любящей женщины есть место только для любимого человека, что все живущие в ней силы милосердия, доброты, отзывчивости, самоотвержения поглощает кто-нибудь один, единственное существо на земле.
– Зачем ты над ним издеваешься?.. Он написал тебе такое пламенное, душераздирающее письмо!.. – сказал Госсен и, протянув к ней руки, тихо и совершенно серьезно спросил: – Послушай, за что ты его прогоняешь?..
– Он мне не нужен… Я его не люблю.
– Но ведь он же твой любовник!.. Он окружил тебя всей этой роскошью, в которой ты живешь, в которой ты жила и раньше, без которой ты не можешь обойтись.
– Дружочек! – начала она знакомым ему задушевным тоном. – До тебя мне все здесь очень нравилось… А теперь я от всего этого устала, мне стыдно, меня тошнит… О, я знаю, что ты скажешь: ты – это несерьезно, ты меня не любишь… Но это уж мое дело… Хочешь не хочешь, а ты меня полюбишь.
Он ничего ей не ответил, назначил свидание на завтра и, сунув Машом в награду за паштет из зайца несколько луидоров, составлявших содержимое его студенческого кошелька, поспешил удалиться. Для него все здесь было кончено… Какое он имеет право нарушать привычный уклад жизни этой женщины и что может он предложить ей взамен того, что она из-за него потеряет?
Обо всем этом он написал ей в тот же день по возможности мягко, по возможности чистосердечно, не сознаваясь, однако, в том, что порвать с нею связь, отказаться от мимолетной и отрадной причуды его мгновенно заставило то бездушное, то нечистоплотное, чему он явился свидетелем: едва лишь минула ночь любви, как за стеной послышались рыдания обманутого любовника, а она в ответ хохотала и ругалась, как прачка.
В этом юнце, выросшем вдали от Парижа, в провансальской глуши, было что-то от отцовской жесткости, уживавшейся с крайней деликатностью, с крайней душевной восприимчивостью матери, и внешне он был ее живым портретом. Пример дяди Жана со стороны отца также долженствовал уберечь его от пагубных увлечений: беспорядочная жизнь и чудачества дядюшки почти разорили всю семью и чуть было не погубили ее честь.
Дядя Сезер! Достаточно было назвать Жану это имя и вызвать в его памяти семейную драму, и Жан пожертвовал бы и чем-либо несравненно более ему дорогим, нежели маленький роман с Фанни, которому он с самого начала не придавал никакого значения. Однако расстаться с ней оказалось совсем не так просто.
Получив формальную отставку, она все же вновь появилась на его горизонте, – ее не обескуражили ни его нежелание с ней встречаться, ни запертая дверь, ни неумолимые ответы. «У меня совсем нет самолюбия…» – писала она ему. Она подстерегала его на пути в ресторан, ждала его у кафе, где он читал газеты. И при всем том ни одной слезы, ни единого укора. Если он был в компании, она довольствовалась тем, что шла за ним следом до тех пор, пока он не расставался со спутниками.
– Хочешь, проведем вместе вечер?.. Нет?.. Ну, хорошо, как-нибудь в другой раз.
И она уходила с покорной грустью фокусника, у которого фокус не удался, а Госсен упрекал себя в черствости и испытывал унизительное чувство оттого, что каждый раз лепетал ей неправду: экзамены на носу… совсем нет свободного времени… как-нибудь потом, если только она в состоянии ждать… На самом деле он рассчитывал, сдав экзамены, отдохнуть месяц на юге – авось она его за это время забудет.
К несчастью, после экзаменов Жан заболел. Прохаживаясь по коридорам министерства, он подхватил ангину, сначала не обратил на нее внимания – и разболелся не на шутку. В Париже он никого не знал, за исключением нескольких студентов, своих земляков, но и тех отдалила и рассеяла поглощавшая его страсть. Впрочем, теперь он нуждался в совершенно особой преданности, вот почему в первый же вечер у его кровати оказалась Фанни Легран, а затем в течение десяти суток она, ловкая, как опытная сиделка, не отходила от него ни на шаг, ухаживала за ним, не ощущая ни усталости, ни брезгливости, и осыпала нежными ласками, которые в часы сильного жара отбрасывали его к поре тяжелого заболевания, перенесенного им в детстве, заставляли его звать «тетю Дивонну» и говорить: «Спасибо, Дивонна!» – когда рука Фанни касалась его влажного лба.
– Это не Дивонна… Это я… Я – с тобой…
Она избавляла его от платных забот, от прижиганий, сделанных неловкими руками, от полосканий, приготовляемых в швейцарской, и Жан выздоровел благодаря ее расторопности, изобретательности, благодаря проворству ее осторожных и сладострастных рук. Спала она – не более двух часов – на диване, на студенческом диване, мягком, как тюремные нары.
– Милая Фанни! Что же ты не съездишь домой?.. – спросил он однажды. – Мне лучше… А то Машом, наверно, беспокоится.
Фанни засмеялась… Уплыла от нее Машом, и весь дом уплыл. Все продано – обстановка, носильные вещи, все, вплоть до постельных принадлежностей. Осталось только платье, то, что на ней, и немного дорогого белья, которое удалось припрятать ее служанке… Так что если он теперь ее выгонит, то она на улице.

III
– На сей раз я, кажется, нашла то, что нужно… На Амстердамской, напротив вокзала… Три комнаты с большим балконом… Если хочешь, съездим посмотрим после твоей службы… Это высоко, на шестом этаже… Но ты внесешь меня на руках. Помнишь? Как тогда было хорошо!..
Оживившись от воспоминания, она терлась об его шею то одной щекой, то другой, старалась занять прежнее место в его жизни, когда-то ею завоеванное.
В меблированных комнатах, где царили нравы студенческого квартала, с беспрестанным хождением по лестнице девиц в сетках на голове и в стоптанных туфлях, в комнатах с фанерными перегородками, за которыми шла своя жизнь, со скопищем ключей, подсвечников, башмаков, жизнь вдвоем становилась невыносимой. Разумеется, не для нее. С Жаном она была бы рада ютиться на крыше, в подвале, хоть в водосточной трубе. Но щепетильность Жана пугалась соприкосновений с действительностью, о которых он, будучи холостяком, и не помышлял. Брачные союзы на одну ночь стесняли его, бросали тень на его союз с Фанни, вызывали у него почти такое же горькое и брезгливое чувство, какое он обыкновенно испытывал, стоя в зоологическом саду перед клеткой с обезьянами, передразнивавшими движения и выражения любви человеческой. Надоел ему и ресторан на бульваре Сен-Мишель, куда нужно было ходить два раза в день, надоела обширная зала, битком набитая студентами, учащимися Школы живописи и ваяния, художниками, архитекторами, которые не были с ним знакомы, но которым он за целый год успел примелькаться.
Отворив дверь, он мгновенно краснел, оттого что все взгляды устремлялись на Фанни, и входил, всем своим видом выражая конфузливый вызов, который появляется у молодого человека, когда он идет с женщиной. Кроме того, он опасался встречи с кем-нибудь из министерского начальства или с земляками. Ко всему этому примешивался еще и материальный вопрос.
– Как дорого!.. – сетовала она всякий раз, унося с собой счет за обед. – Если б мы обедали дома, я бы так вела хозяйство, что нам хватило бы этих денег на три дня.
– А кто нам мешает завести свое хозяйство?..
И они стали искать квартиру.
Вот это и есть ловушка. В нее попадаются самые лучшие, самые порядочные, попадаются из чистоплотности, из стремления к «семейному уюту», которое порождают домашнее воспитание и тепло домашнего очага.
Квартиру на Амстердамской они сейчас же сняли и пришли от нее в восторг, несмотря на то, что кухня и столовая выходили окнами на промозглый двор, куда из английского кабачка неслись запахи помоев и хлора, а спальня – на шумную гористую улицу, днем и ночью сотрясавшуюся от стука фургонов, ломовых телег, фиакров, омнибусов, вздрагивавшую от свистков приходящих и уходящих поездов, от слитного шума Западного вокзала, как раз напротив раскинувшего свою стеклянную крышу цвета грязной воды. Преимущество состояло в близости железной дороги, в том, что Сен-Клу, Вилль-д'Авре, Сен-Жермен – все эти зеленые станции на берегах Сены находились словно под их балконом. А балкон у них был поместительный и удобный, сохранивший от размаха прежних жильцов оцинкованный навес, выкрашенный под полосатый тик, – балкон унылый, протекавший в пору неумолчно стучавших по навесу зимних дождей, но где было очень приятно обедать летом – на свежем воздухе, точно в домике где-нибудь среди швейцарских гор.
Квартиру надо было обставить. Жан отчасти посвятил в свои планы родных, и тетя Дивонна, которая исполняла у них в семье обязанности домоправительницы, прислала ему денег, а в письме извещала, что в скором времени прибудут шкаф, комод и большое плетеное кресло, стоявшее до сих пор в так называемой Комнате Ветров.
Эту дальнюю комнату в его родном доме, в Кастле, он представлял себе ясно: испокон веков нежилая, с запертыми на задвижки ставнями, с запертою на засов дверью, по своему положению она была не защищена от порывов мистраля и потрескивала, как трещат стены жилого помещения на маяке. Там складывалось разное старье, все, что вытеснялось новыми приобретениями, которые делало каждое новое поколение.
Ах, если бы Дивонна знала, кто будет отдыхать в плетеном кресле, если б она знала, что в ящиках ампирного комода будут лежать шелковые нижние юбки и кружевные панталоны!.. Но мучившие Госсена угрызения совести потонули во множестве мелких радостей, связанных с новосельем.
Как приятно было в сумерках, после занятий в канцелярии министерства, взяв Фанни под руку, предпринимать походы на окраину, чтобы выбрать обстановку для столовой: буфет, стол и шесть стульев, или же кретоновые занавески с разводами для окна и для полога! Он готов был купить что попало, но Фанни смотрела в оба, пробовала стулья, проверяла, хорошо ли раздвигается стол, умело торговалась.
Она знала, где можно купить по фабричной цене полный набор кухонной утвари для небольшой семьи: четыре железные кастрюли и одну эмалированную для варки шоколада по утрам, но только ничего медного – медную посуду долго чистить; шесть металлических приборов, разливательную ложку и две дюжины тарелок английского фаянса, прочного и веселого. Все это сосчитано, заранее приготовлено и тщательно упаковано, как упаковывают игрушечную посуду. Она знала торговца, представителя крупной фабрики в Рубе, у которого можно было приобрести в рассрочку простыни, салфетки, скатерти, полотенца. Зорко следившая за тем, что выставлялось на витринах, не упускавшая ни одной распродажи обломков крушения, которые Париж вместе с пеной выбрасывает на свои берега, она купила по случаю на бульваре Клиши превосходную, почти совсем новую кровать такой ширины, что на ней можно было уложить в ряд семь дочерей людоеда.
Госсен тоже после службы пытался делать приобретения, но он ничего в этом не смыслил, не умел отказываться, не умел уходить с пустыми руками. Придя в магазин случайных вещей купить подержанный судок, за которым его послала Фанни, он вместо уже проданного судка принес люстру с подвесками, для гостиной, ни на что им не нужную, так как гостиной у них не было.
– Мы ее повесим на балконе… – в утешение ему сказала Фанни.
А какую радость им доставляло производить обмер, спорить из-за того, куда что поставить! А как они шумели, как они дико хохотали, как всплескивали, чуть не до потолка, руками, когда оказывалось, что, несмотря на всю их предусмотрительность, несмотря на то, что у них был составлен полный список необходимых закупок, что-нибудь да они забывали!
Ну вот, например, щипцы для сахара. Как можно обойтись в хозяйстве без щипцов для сахара?..
Но вот все уже куплено, расставлено по местам, занавески развешаны, настольная новенькая лампа заправлена – какой чудный вечер провели они на новоселье, как внимательно осмотрели все три комнаты, прежде чем лечь спать, и как весело смеялась Фанни, когда Жан запирал дверь, а она ему светила:
– Еще раз поверни, еще… Получше запри… Чтобы нам было уютнее!..
Так началась для них новая, упоительная жизнь. После службы он летел домой, мечтая поскорей переобуться и подсесть к камину. В черной уличной слякоти он представлял себе их ярко освещенную теплую комнату, которую оживляла старая провинциальная мебель, – Фанни заочно окрестила ее хламом, а это оказались прелестные старинные вещи, особенно – изящной работы шкаф в стиле Людовика XVI с рисунками, изображавшими провансальские праздники, пастушков в ярких полукафтанах, танцы под свирели и тамбурины. Эти старомодные вещи, к которым Жан привык еще в детстве, напоминали ему отчий дом и освящали его новое жилище, уютом которого он наслаждался.
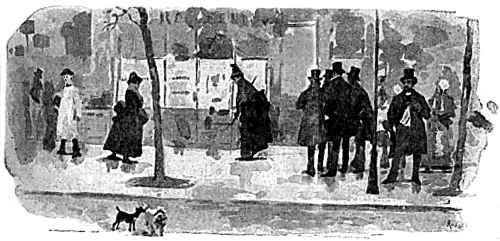 Едва заслышав его звонок, Фанни, чистенькая, кокетливая, выбегала, как она выражалась, «на палубу». На ней было черное шерстяное платье, готовое, но отлично на ней сидевшее, платье женщины, одевающейся скромно, но со вкусом; рукава она засучивала, а сверху надевала широкий белый передник: готовила она сама, прислуга делала только черную работу, от которой трескаются и грубеют руки.
Едва заслышав его звонок, Фанни, чистенькая, кокетливая, выбегала, как она выражалась, «на палубу». На ней было черное шерстяное платье, готовое, но отлично на ней сидевшее, платье женщины, одевающейся скромно, но со вкусом; рукава она засучивала, а сверху надевала широкий белый передник: готовила она сама, прислуга делала только черную работу, от которой трескаются и грубеют руки.
Фанни была отличная стряпуха, знала уйму рецептов северных и южных блюд и так же умела разнообразить меню, как репертуар народных песен, которые она после обеда, повесив передник на кухонную дверь, а дверь притворив, напевала своим надтреснутым страстным контральто.
Внизу текла и гремела улица. Холодный дождь стучал по оцинкованному навесу балкона. Госсен, развалившись в кресле и протянув ноги поближе к огню, видел перед собой окна вокзала, а в окнах – фигуры служащих, склонившихся над столами и писавших при матовом свете ламп с большими рефлекторами.
Ему было хорошо; ему было приятно качаться в кресле. Что же, он был влюблен? Нет. Он был благодарен за ласку, которой его окружали, за всегда ровную нежность. Как он мог так долго лишать себя этого блаженства из боязни, которая теперь казалась ему смешной: из боязни опуститься, связать себя? Разве теперь его жизнь не стала чище, чем когда он, рискуя заразиться, заводил одну случайную связь за другой?
И в будущем он не видел никакой для себя опасности. Через три года он уедет, и разрыв произойдет сам собой, без всяких потрясений. Фанни предупреждена. Они об этом говорили, как говорят о смерти, о далекой, но неотвратимой неизбежности. Смущало Госсена только одно: как огорчатся близкие, когда узнают, что он живет не один, как возмутится его непримиримый и вспыльчивый отец.
А впрочем, откуда они узнают? Жан ни с кем не встречается в Париже. Отца, «консула», как его называли, круглый год удерживали в Кастле надзор за крупным имением, из которого он старался извлечь побольше дохода, и упорная борьба за спасение виноградников. Больная мать без посторонней помощи не могла двинуться, ступить шагу, а потому хозяйство вела Дивонна, и она же воспитывала двух его сестренок-близнецов Марту и Марию; тяжелые эти роды, эта неожиданная двойня поглотили жизненные силы роженицы. Что касается дяди Сезера, мужа Дивонны, то это был большой ребенок, и родные ни за что не отпустили бы его одного.
Оживившись от воспоминания, она терлась об его шею то одной щекой, то другой, старалась занять прежнее место в его жизни, когда-то ею завоеванное.
В меблированных комнатах, где царили нравы студенческого квартала, с беспрестанным хождением по лестнице девиц в сетках на голове и в стоптанных туфлях, в комнатах с фанерными перегородками, за которыми шла своя жизнь, со скопищем ключей, подсвечников, башмаков, жизнь вдвоем становилась невыносимой. Разумеется, не для нее. С Жаном она была бы рада ютиться на крыше, в подвале, хоть в водосточной трубе. Но щепетильность Жана пугалась соприкосновений с действительностью, о которых он, будучи холостяком, и не помышлял. Брачные союзы на одну ночь стесняли его, бросали тень на его союз с Фанни, вызывали у него почти такое же горькое и брезгливое чувство, какое он обыкновенно испытывал, стоя в зоологическом саду перед клеткой с обезьянами, передразнивавшими движения и выражения любви человеческой. Надоел ему и ресторан на бульваре Сен-Мишель, куда нужно было ходить два раза в день, надоела обширная зала, битком набитая студентами, учащимися Школы живописи и ваяния, художниками, архитекторами, которые не были с ним знакомы, но которым он за целый год успел примелькаться.
Отворив дверь, он мгновенно краснел, оттого что все взгляды устремлялись на Фанни, и входил, всем своим видом выражая конфузливый вызов, который появляется у молодого человека, когда он идет с женщиной. Кроме того, он опасался встречи с кем-нибудь из министерского начальства или с земляками. Ко всему этому примешивался еще и материальный вопрос.
– Как дорого!.. – сетовала она всякий раз, унося с собой счет за обед. – Если б мы обедали дома, я бы так вела хозяйство, что нам хватило бы этих денег на три дня.
– А кто нам мешает завести свое хозяйство?..
И они стали искать квартиру.
Вот это и есть ловушка. В нее попадаются самые лучшие, самые порядочные, попадаются из чистоплотности, из стремления к «семейному уюту», которое порождают домашнее воспитание и тепло домашнего очага.
Квартиру на Амстердамской они сейчас же сняли и пришли от нее в восторг, несмотря на то, что кухня и столовая выходили окнами на промозглый двор, куда из английского кабачка неслись запахи помоев и хлора, а спальня – на шумную гористую улицу, днем и ночью сотрясавшуюся от стука фургонов, ломовых телег, фиакров, омнибусов, вздрагивавшую от свистков приходящих и уходящих поездов, от слитного шума Западного вокзала, как раз напротив раскинувшего свою стеклянную крышу цвета грязной воды. Преимущество состояло в близости железной дороги, в том, что Сен-Клу, Вилль-д'Авре, Сен-Жермен – все эти зеленые станции на берегах Сены находились словно под их балконом. А балкон у них был поместительный и удобный, сохранивший от размаха прежних жильцов оцинкованный навес, выкрашенный под полосатый тик, – балкон унылый, протекавший в пору неумолчно стучавших по навесу зимних дождей, но где было очень приятно обедать летом – на свежем воздухе, точно в домике где-нибудь среди швейцарских гор.
Квартиру надо было обставить. Жан отчасти посвятил в свои планы родных, и тетя Дивонна, которая исполняла у них в семье обязанности домоправительницы, прислала ему денег, а в письме извещала, что в скором времени прибудут шкаф, комод и большое плетеное кресло, стоявшее до сих пор в так называемой Комнате Ветров.
Эту дальнюю комнату в его родном доме, в Кастле, он представлял себе ясно: испокон веков нежилая, с запертыми на задвижки ставнями, с запертою на засов дверью, по своему положению она была не защищена от порывов мистраля и потрескивала, как трещат стены жилого помещения на маяке. Там складывалось разное старье, все, что вытеснялось новыми приобретениями, которые делало каждое новое поколение.
Ах, если бы Дивонна знала, кто будет отдыхать в плетеном кресле, если б она знала, что в ящиках ампирного комода будут лежать шелковые нижние юбки и кружевные панталоны!.. Но мучившие Госсена угрызения совести потонули во множестве мелких радостей, связанных с новосельем.
Как приятно было в сумерках, после занятий в канцелярии министерства, взяв Фанни под руку, предпринимать походы на окраину, чтобы выбрать обстановку для столовой: буфет, стол и шесть стульев, или же кретоновые занавески с разводами для окна и для полога! Он готов был купить что попало, но Фанни смотрела в оба, пробовала стулья, проверяла, хорошо ли раздвигается стол, умело торговалась.
Она знала, где можно купить по фабричной цене полный набор кухонной утвари для небольшой семьи: четыре железные кастрюли и одну эмалированную для варки шоколада по утрам, но только ничего медного – медную посуду долго чистить; шесть металлических приборов, разливательную ложку и две дюжины тарелок английского фаянса, прочного и веселого. Все это сосчитано, заранее приготовлено и тщательно упаковано, как упаковывают игрушечную посуду. Она знала торговца, представителя крупной фабрики в Рубе, у которого можно было приобрести в рассрочку простыни, салфетки, скатерти, полотенца. Зорко следившая за тем, что выставлялось на витринах, не упускавшая ни одной распродажи обломков крушения, которые Париж вместе с пеной выбрасывает на свои берега, она купила по случаю на бульваре Клиши превосходную, почти совсем новую кровать такой ширины, что на ней можно было уложить в ряд семь дочерей людоеда.
Госсен тоже после службы пытался делать приобретения, но он ничего в этом не смыслил, не умел отказываться, не умел уходить с пустыми руками. Придя в магазин случайных вещей купить подержанный судок, за которым его послала Фанни, он вместо уже проданного судка принес люстру с подвесками, для гостиной, ни на что им не нужную, так как гостиной у них не было.
– Мы ее повесим на балконе… – в утешение ему сказала Фанни.
А какую радость им доставляло производить обмер, спорить из-за того, куда что поставить! А как они шумели, как они дико хохотали, как всплескивали, чуть не до потолка, руками, когда оказывалось, что, несмотря на всю их предусмотрительность, несмотря на то, что у них был составлен полный список необходимых закупок, что-нибудь да они забывали!
Ну вот, например, щипцы для сахара. Как можно обойтись в хозяйстве без щипцов для сахара?..
Но вот все уже куплено, расставлено по местам, занавески развешаны, настольная новенькая лампа заправлена – какой чудный вечер провели они на новоселье, как внимательно осмотрели все три комнаты, прежде чем лечь спать, и как весело смеялась Фанни, когда Жан запирал дверь, а она ему светила:
– Еще раз поверни, еще… Получше запри… Чтобы нам было уютнее!..
Так началась для них новая, упоительная жизнь. После службы он летел домой, мечтая поскорей переобуться и подсесть к камину. В черной уличной слякоти он представлял себе их ярко освещенную теплую комнату, которую оживляла старая провинциальная мебель, – Фанни заочно окрестила ее хламом, а это оказались прелестные старинные вещи, особенно – изящной работы шкаф в стиле Людовика XVI с рисунками, изображавшими провансальские праздники, пастушков в ярких полукафтанах, танцы под свирели и тамбурины. Эти старомодные вещи, к которым Жан привык еще в детстве, напоминали ему отчий дом и освящали его новое жилище, уютом которого он наслаждался.
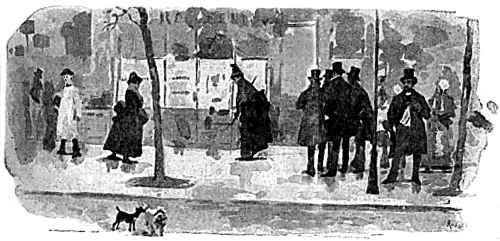
Фанни была отличная стряпуха, знала уйму рецептов северных и южных блюд и так же умела разнообразить меню, как репертуар народных песен, которые она после обеда, повесив передник на кухонную дверь, а дверь притворив, напевала своим надтреснутым страстным контральто.
Внизу текла и гремела улица. Холодный дождь стучал по оцинкованному навесу балкона. Госсен, развалившись в кресле и протянув ноги поближе к огню, видел перед собой окна вокзала, а в окнах – фигуры служащих, склонившихся над столами и писавших при матовом свете ламп с большими рефлекторами.
Ему было хорошо; ему было приятно качаться в кресле. Что же, он был влюблен? Нет. Он был благодарен за ласку, которой его окружали, за всегда ровную нежность. Как он мог так долго лишать себя этого блаженства из боязни, которая теперь казалась ему смешной: из боязни опуститься, связать себя? Разве теперь его жизнь не стала чище, чем когда он, рискуя заразиться, заводил одну случайную связь за другой?
И в будущем он не видел никакой для себя опасности. Через три года он уедет, и разрыв произойдет сам собой, без всяких потрясений. Фанни предупреждена. Они об этом говорили, как говорят о смерти, о далекой, но неотвратимой неизбежности. Смущало Госсена только одно: как огорчатся близкие, когда узнают, что он живет не один, как возмутится его непримиримый и вспыльчивый отец.
А впрочем, откуда они узнают? Жан ни с кем не встречается в Париже. Отца, «консула», как его называли, круглый год удерживали в Кастле надзор за крупным имением, из которого он старался извлечь побольше дохода, и упорная борьба за спасение виноградников. Больная мать без посторонней помощи не могла двинуться, ступить шагу, а потому хозяйство вела Дивонна, и она же воспитывала двух его сестренок-близнецов Марту и Марию; тяжелые эти роды, эта неожиданная двойня поглотили жизненные силы роженицы. Что касается дяди Сезера, мужа Дивонны, то это был большой ребенок, и родные ни за что не отпустили бы его одного.
