Страница:
У всех на памяти случай, когда путешественники возвращались из далёких, никому не ведомых краёв и распространяли всякие небылицы, которым слишком охотно верили. Неужели лондонский Зоологический институт хочет оказаться в положении легковера? Члены комиссии расследования — весьма достойные люди, этого никто не станет отрицать. Но человеческая натура чрезвычайно сложна. Желание выдвинуться может совратить с пути истинного любого профессора. Все мы, словно бабочки, летим на огонёк славы. Охотники за крупной дичью не прочь погрешить против истины в пику своим соперникам, а журналисты так падки на всяческие сенсации, что сплошь и рядом призывают на помощь фактам своё богатое воображение. У каждого из членов комиссии могли оказаться свои мотивы, руководствуясь которыми они раздули результаты экспедиции. («Позор! Стыдитесь!») Он никого не желает оскорблять («Однако оскорбляет!» Шум в зале.)… но доказательства, представленные в подтверждение всех этих чудес, носят чрезвычайно легковесный характер. К чему они сводятся? К нескольким фотографическим снимкам. Но в наше время искусство фальсификации достигло такого высокого уровня, что на одни фотографии полагаться нельзя. Чем же ещё стараются нас убедить? Рассказом о поспешном бегстве и о спуске по канату, что якобы помешало членам экспедиции захватить с собой более крупные образцы фауны этой чудесной страны? Остроумно, но не очень убедительно. Было сказано, что у лорда Джона Рокстона имеется череп фороракоса. Но где он? Любопытно было бы взглянуть на него.
Лорд Джон Рокстон. Этот человек, кажется, обвиняет меня во лжи? (Шум в зале.)
Председатель. Тише! Тише! Доктор Иллингворт, будьте добры сформулировать свою поправку.
Доктор Иллингворт. Я подчиняюсь, хотя мне хотелось бы сказать ещё кое-что. Итак, моё предложение сводится к следующему: поблагодарить профессора Саммерли за его интересный доклад, но сообщённые им факты считать недоказанными и поручить проверку их другой, более авторитетной комиссии.
Трудно описать, какое смятение вызвали в зале эти слова. Большинство присутствующих, возмущённое таким поклёпом на наших путешественников, требовало: «Долой поправку!», «Не голосуйте её!», «Вон его отсюда!» В то же время недовольные, а их было немало, поддерживали доктора Иллингворта и оглушительно кричали: «Это нечестно!», «Председатель! Призовите к порядку!» На задних скамьях, где сидели студенты-медики, началась потасовка, были пущены в ход кулаки. Всеобщую свалку предотвратило только присутствие дам среди публики. И вдруг крики смолкли, в зале наступила полная тишина. На эстраде стоял профессор Челленджер. Внешность и манеры этого человека производят настолько внушительное впечатление, что стоило только ему поднять руку, как все уселись по местам и приготовились слушать его.
— Многие из присутствующих, вероятно, помнят, — начал профессор Челленджер, — что подобные непристойные сцены разыгрались и на первом нашем заседании. В тот раз главным моим обидчиком был профессор Саммерли, и, хотя теперь он исправился и покаялся в грехах, всё же этот инцидент не может быть предан забвению. Сегодня мне пришлось услышать ещё более оскорбительные выпады со стороны лица, только что покинувшего эстраду. Я с величайшим трудом заставляю себя снизойти до интеллектуального уровня данного лица, но это нужно сделать, дабы устранить сомнения, которые, может быть, ещё сохранились у некоторых из здесь присутствующих. (Смех, шум, крики из задних рядов.)
Профессор Саммерли выступал здесь как глава комиссии расследования, но вряд ли нужно напоминать вам, что подлинным вдохновителем всего дела являюсь я и что наша поездка увенчалась успехом главным образом благодаря мне. Я довёл этих троих джентльменов до нужного места и, как вы уже слышали, убедил их в правильности моих утверждений. Мы не рассчитывали, что наши совместные выводы будут оспариваться с тем же невежеством и упорством. Но, наученный горьким опытом, я вооружился на сей раз кое-какими доказательствами, которые смогут убедить всякого здравомыслящего человека. Профессор Саммерли уже говорил здесь, что наши фотокамеры побывали в лапах человекообезьян, разгромивших весь наш лагерь, и что большинство негативов погибло. (Шум, смешки, с задних скамей кто-то кричит: «Расскажите это вашей бабушке!») Кстати, о человекообезьянах. Не могу не отметить, что звуки, которые доходят сейчас до моего слуха, весьма живо напоминают мне наши встречи с этими любопытными существами. (Смех.)
Несмотря на то, что многие ценные негативы были уничтожены, всё же некоторое количество фотографий у нас осталось и по ним вполне можно судить об условиях жизни на плато. Есть ли у кого-нибудь из присутствующих сомнения в их подлинности? (Чей-то голос: «Да! Есть!» Общее волнение, заканчивающееся тем, что нескольких человек выводят из зала.) Негативы предложены вниманию экспертов. Какие же ещё доказательства может представить комиссия? Ей пришлось бежать с плато, и поэтому она не могла обременять себя каким бы то ни было грузом, но профессору Саммерли удалось спасти свою коллекцию бабочек и жуков, а в ней имеется много новых разновидностей. Разве этого недостаточно? (Несколько голосов: „Нет! Нет!“) Кто сказал „нет“?
Доктор Иллингворт (поднимаясь с места). Мы считаем, что коллекцию можно было собрать где угодно, а не обязательно на вашем доисторическом плато. (Аплодисменты.)
Профессор Челленджер. Без сомнения, сэр, слово такого крупного учёного, как вы, для нас закон. Однако оставим фотографии и энтомологическую коллекцию и перейдём к вопросам, которые никогда и никем не освещались. У нас, например, имеются совершенно точные сведения о птеродактилях. Образ жизни этих животных… (Крики: «Вздор!» Шум в зале.) Я говорю, образ жизни этих животных станет вам теперь совершенно ясен. В моём портфеле лежит рисунок, сделанный с натуры, на основании которого…
Доктор Иллингворт. Рисунки нас ни в чём не убедят!
Профессор Челленджер. Вы хотели бы видеть самую натуру?
Доктор Иллингворт. Несомненно!
Профессор Челленджер. И тогда вы поверите мне?
Доктор Иллингворт (со смехом). Тогда? Ну ещё бы!
И тут мы подошли к самому волнующему и драматическому эпизоду вечера — эпизоду, эффект которого навсегда останется непревзойдённым. Профессор Челленджер поднял руку, наш коллега мистер Э. Д. Мелоун тотчас же встал с места и направился в глубь эстрады. Минуту спустя он снова появился в сопровождении негра гигантского роста; они несли вдвоём большой квадратный ящик, по-видимому, очень тяжёлый. Ящик был поставлен у ног профессора. Публика замерла, с напряжением следя за происходящим. Профессор Челленджер снял выдвижную крышку с ящика, заглянул внутрь и, прищёлкнув несколько раз пальцами, сказал умильным голосом (в журналистской ложе были прекрасно слышны его слова): «Ну, выходи, малыш, выходи!» Послышалась какая-то возня, царапанье, и тут же вслед за этим невообразимо страшное, омерзительное существо вылезло из ящика и уселось на его краю. Даже неожиданное падение герцога Дархемского в оркестровую яму не отвлекло внимания поражённой ужасом публики. Хищная голова этого чудовища с маленькими, пылающими, словно угли, глазами невольно заставила вспомнить страшных химер, которые могли зародиться только в воображении средневековых художников. Его полуоткрытый длинный клюв был усажен двумя рядами острых зубов. Вздёрнутые плечи прятались в складках какой-то грязно-серой шали. Словом, это был тот самый дьявол, которым нас пугали в детстве.
Публика пришла в смятение — кто-то вскрикнул, в переднем ряду две дамы упали в обморок, учёные на эстраде проявили явное стремление последовать за председателем в оркестр. Казалось, ещё секунда, и общая паника охватит зал.
Профессор Челленджер поднял руку над головой, стараясь успокоить публику, но это движение испугало сидевшее рядом с ним чудовище. Оно расправило серую шаль, которая оказалась не чем иным, как парой перепончатых крыльев. Профессор ухватил его за ноги, но удержать не смог. Чудовище взвилось с ящика и медленно закружило по залу, с сухим шорохом взмахивая десятифутовыми крыльями и распространяя вокруг себя ужасающее зловоние. Вопли публики на галерее, до смерти перепуганной близостью этих горящих глаз и огромного клюва, привели его в полное смятение. Оно всё быстрее и быстрее металось по залу, натыкаясь на стены и люстры, и, видимо, совсем обезумело от страха. «Окно! Ради всего святого, закройте окно!» — кричал профессор, приплясывая от ужаса и ломая руки. Увы, он спохватился слишком поздно. Чудовище, бившееся о стены, словно огромная бабочка о колпак лампы, поравнялось с окном, протиснуло в него своё уродливое тело… и только мы его и видели. Профессор закрыл лицо руками и упал в кресло, а зал облегчённо охнул, как один человек, убедившись, что опасность миновала.
И тут… Но разве можно описать, что происходило в зале, когда восторг сторонников и смятение недавних противников Челленджера слились воедино и мощная волна ликования прокатилась от задних рядов к оркестровой яме, захлестнула эстраду и подняла наших героев на своём гребне! (Молодец, Мак!) Если до сих пор аудитория была несправедлива к четырём отважным путешественникам, то теперь она постаралась искупить свою вину. Все вскочили с мест. Все двинулись к эстраде, крича, размахивая руками. Героев окружили плотным кольцом. «Качать их! Качать!» — раздались сотни голосов. И вот четверо путешественников взлетели над толпой. Все их попытки высвободиться были тщетны! Да они при всём желании не могли бы опуститься наземь, так как люди стояли на эстраде сплошной стеной.
«На улицу! На улицу!» — кричали кругом.
Толпа пришла в движение, и людской поток медленно двинулся к дверям, унося с собой четырех героев. На улице началось нечто невообразимое. Там собралось не менее ста тысяч человек. Люди стояли плечом к плечу от Ленгем-отеля до Оксфорд-сквер. Как только яркий свет фонарей у подъезда озарил четырех героев, плывущих над головами толпы, воздух дрогнул от приветственных криков. «Процессией по Риджент-стрит!» — дружно требовали все. Запрудив улицу, шеренги двинулись вперёд, по Риджент-стрит, на Пэл-Мэл, Сент-Джеймс-стрит и Пикадилли. Движение в центре Лондона приостановилось. Между демонстрантами, с одной стороны, полицией и шофёрами — с другой, произошёл ряд столкновений. Наконец уже после полуночи толпа отпустила четырех путешественников, доставив их в Олбени, к дверям квартиры лорда Джона Рокстона, спела им на прощание „Наши славные ребята» и завершила программу гимном. Так закончился этот вечер — один из самых замечательных вечеров, которые знал Лондон за многие годы.
Так писал мой друг Макдона, и, несмотря на тяжеловесность его слога, ход событий изложен в этом отчёте довольно точно. Что же касается самой большой сенсации, то она поразила своей неожиданностью только публику, но не нас, участников экспедиции. Читатель, разумеется, не забыл моей встречи с лордом Джоном Рокстоном, когда он, напялив на себя нечто вроде кринолина, отправился добывать «цыплёночка» для профессора Челленджера. Вспомните также намёки на те хлопоты, которые причинял нам багаж Челленджера при спуске с плато. Если бы я вздумал продолжить свой рассказ, то в нём было бы отведено немало места описанию возни с нашим не совсем аппетитным спутником, которого приходилось ублажать тухлой рыбой. Я умолчал о нём, ибо профессор Челленджер опасался, как бы слухи об этом неопровержимом аргументе не просочились в публику раньше той минуты, когда он воспользуется им, чтобы повергнуть в прах своих врагов.
Несколько слов о судьбе лондонского птеродактиля. Ничего определённого тут установить не удалось. Две перепуганные женщины утверждают, будто бы видели его на крыше Куинз-Холла, где он восседал несколько часов подряд, подобно какой-то чудовищной статуе. На следующий день в вечерних газетах появилась короткая заметка следующего содержания: гвардеец Майлз, стоявший на часах у Мальборо-Хауса, покинул свой пост и был за это предан военному суду. На суде Майлз показал, что во время ночного дежурства он случайно посмотрел вверх и увидел чёрта, заслонившего от него луну, после чего бросил винтовку и пустился наутёк по Пэлл-Мэлл. Показания подсудимого не были приняты во внимание, а между тем они могут находиться в прямой связи с интересующим нас вопросом.
Добавлю ещё одно свидетельство, почерпнутое мной из судового журнала парохода американо-голландской линии «Фрисланд». Там записано, что в девять часов утра следующего дня, когда Старт-Пойнт был в десяти милях со штирборта, над судном, держа путь на юго-запад, со страшной быстротой пронеслось нечто среднее между крылатым козлом и огромной летучей мышью. Если инстинкт правильно указал дорогу нашему птеродактилю, то не может быть сомнений, что он встретил свой конец где-нибудь в пучинах Атлантического океана.
А моя Глэдис? Глэдис, чьё имя было дано таинственному озеру, которое отныне будет называться Центральным, ибо теперь я уже не хочу даровать ей бессмертие. Не замечал ли я и раньше признаков чёрствости в натуре этой женщины? Не чувствовал ли, с гордостью повинуясь её велению, что немногого стоит та любовь, которая шлёт человека на верную смерть или заставляет его рисковать жизнью? Не боролся ли с неотвязчивой мыслью, что в этой женщине прекрасен лишь внешний облик, что душу её омрачает тень себялюбия и непостоянства? Почему она так пленялась всем героическим? Не потому ли, что свершение благородного поступка могло отразиться и на ней без всяких усилий, без всяких жертв с её стороны? Или всё это пустые домыслы? Я был сам не свой все эти дни. Полученный удар отравил мою душу.
Но с тех пор прошла неделя, и за это время у нас был один очень важный разговор с лордом Джоном Рокстоном… Мне мало-помалу начинает казаться, что дела обстоят не так уж плохо.
Расскажу в нескольких словах, как всё произошло. В Саутгемптоне на моё имя не было ни письма, ни телеграммы, и, встревоженный этим, я в десять часов вечера того же дня уже стоял у дверей маленькой виллы в Стритеме. Может быть, её нет в живых? Давно ли мне грезились во сне раскрытые объятия, улыбающееся личико, горячие похвалы, без счёта расточаемые герою, рисковавшему жизнью по прихоти своей возлюбленной! Действительность швырнула меня с заоблачных высот на землю. Но мне будет достаточно одного её слова в объяснение, чтобы опять воспарить к облакам. И я опрометью бросился по садовой дорожке, постучал в дверь, услышал голос моей Глэдис, оттолкнул в сторону оторопевшую служанку и влетел в гостиную. Она сидела на диванчике между роялем и высокой стоячей лампой. Я в три шага перебежал комнату и схватил обе её руки в свои.
— Глэдис! — крикнул я. — Глэдис!
Она удивлённо посмотрела на меня. Со времени нашей последней встречи в ней произошла какая-то неуловимая перемена. Холодный взгляд, твёрдо сжатые губы — всё это показалось мне новым. Глэдис высвободила свои руки.
— Что это значит? — спросила она.
— Глэдис! — крикнул я. — Что с вами? Вы же моя Глэдис, моя любимая крошка Глэдис Хангертон!
— Нет, — сказала она. — я Глэдис Поц. Разрешите представить вам моего мужа.
Какая нелепая штука жизнь! Я поймал себя на том, что машинально раскланиваюсь и пожимаю руку маленькому рыжеватому субъекту, удобно устроившемуся в глубоком кресле, которое некогда служило только мне. Мы кивали головой и с глупейшей улыбкой смотрели друг на друга.
— Папа разрешил нам пожить пока здесь. Наш дом ещё не готов, — пояснила Глэдис.
— Вот как! — сказал я.
— Разве вы не получили моего письма в Паре?
— Нет, никакого письма я не получал.
— Какая жалость! Тогда вам всё было бы ясно.
— Мне и так всё ясно, — пробормотал я.
— Я рассказывала о вас Вильяму, — продолжала Глэдис. — У нас нет тайн друг от друга. Мне очень жаль, что так вышло, но ваше чувство было, вероятно, не очень глубоко, если вы могли бросить меня здесь одну и уехать куда-то на край света. Вы на меня не дуетесь?
— Нет, что вы, что вы!… Так я, пожалуй, пойду.
— А не выпить ли нам чаю? — предложил рыжеватый субъект и потом добавил доверительным тоном: — Вот так всегда бывает… А на что другое можно рассчитывать? Из двух соперников побеждает всегда один.
Он залился идиотским смехом, и я счёл за благо уйти.
Дверь гостиной уже закрылась за мной, как вдруг меня словно что-то подтолкнуло, и, повинуясь этому порыву, я вернулся к своему счастливому сопернику, который тотчас же бросил тревожный взгляд на электрический звонок.
— Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос, — сказал я.
— Что же, если он в границах дозволенного…
— Как вы этого добились? Отыскали какой-нибудь клад? Открыли полюс? Были корсаром? Перелетели через Ла-Манш? Что вы сделали? Где она, романтика? Как вам это удалось?
Он уставился на меня во все глаза. Его глуповато-добродушная, ничтожная физиономия выражала полное недоумение.
— Не кажется ли вам, что всё это носит чересчур личный характер? — проговорил он наконец.
— Хорошо. Ещё один вопрос, последний! — крикнул я. — Кто вы? Какая у вас профессия?
— Я работаю письмоводителем в нотариальной конторе Джонсона и Мервилля. Адрес: Ченсери-лейн, дом сорок один.
— Всего хорошего! — крикнул я и, как подобает безутешному герою, исчез во мраке ночи, обуреваемый яростью, горем и… смехом…
Ещё одна короткая сцена — и повествование моё будет закончено.
Вчера вечером мы все собрались у лорда Джона Рокстона и после ужина за сигарой долго вспоминали в дружеской беседе наши недавние приключения. Странно было видеть эти хорошо знакомые мне лица в такой непривычной обстановке. Вот сидит Челленджер — снисходительная улыбка по-прежнему играет на его губах, веки всё так же презрительно сощурены, борода топорщится, он выпячивает грудь, пыжится, поучая Саммерли. А тот попыхивает своей коротенькой трубочкой и трясёт козлиной бородкой, яростно оспаривая каждое слово Челленджера. И, наконец, вот наш хозяин — худое лицо, холодный взгляд голубых, как лёд, орлиных глаз, в глубине которых всегда тлеет весёлый, лукавый огонёк. Такими все трое долго сохранятся у меня в памяти.
После ужина мы перешли в святая святых лорда Джона — в его кабинет, залитый розовым сиянием и увешанный бесчисленными трофеями, — и наш дальнейший разговор происходил там. Хозяин достал из шкафчика старую коробку из-под сигар и поставил её перед собой на стол.
— Пожалуй, мне давно следовало посвятить вас в это дело, — начал он, — но я хотел сначала выяснить всё до конца. Стоит ли пробуждать надежды и потом убеждаться в их неосуществимости? Но сейчас перед нами факты. Вы, наверно, помните тот день, когда мы нашли логово птеродактилей в болоте? Так вот: я смотрел, смотрел на это болото и в конце концов призадумался. Я скажу вам, в чём дело, если вы сами ничего не заметили. Это была вулканическая воронка с синей глиной.
Оба профессора кивнули головой, подтверждая его слова.
— Такую же вулканическую воронку с синей глиной мне пришлось видеть только раз в жизни — на больших алмазных россыпях в Кимберли. Вы понимаете? Алмазы не выходили у меня из головы. Я соорудил нечто вроде корзинки для защиты от этих зловонных гадов и, вооружившись лопаткой, недурно провёл время в их логове. Вот что я извлёк оттуда. Он открыл сигарную коробку, перевернул её кверху дном и высыпал на стол около тридцати или более неотшлифованных алмазов величиной от боба до каштана.
— Вы, пожалуй, скажете, что мне следовало сразу же поделиться с вами моим открытием. Не спорю. Но неопытный человек может здорово нарваться на этих камешках. Ведь их ценность зависит не столько от размера, сколько от консистенции и чистоты воды. Словом, я привёз их сюда, в первый же день отправился к Спинку и попросил его отшлифовать и оценить мне один камень.
Лорд Джон вынул из кармана небольшую коробочку из-под пилюль и показал нам великолепно играющий бриллиант, равного которому по красоте я, пожалуй, никогда не видел.
— Вот результаты моих трудов, — сказал он. — Ювелир оценил эту кучку самое меньшее в двести тысяч фунтов. Разумеется, мы поделимся поровну. Ни на что другое я не соглашусь. Ну, Челленджер, что вы сделаете на свои пятьдесят тысяч?
— Если вы действительно настаиваете на столь великодушном решении, — сказал профессор, — то я потрачу все деньги на оборудование частного музея, о чём давно мечтаю.
— А вы, Саммерли?
— Я брошу преподавание и посвящу всё своё время окончательной классификации моего собрания ископаемых мелового периода.
— А я, — сказал лорд Джон Рокстон, — истрачу всю свою долю на снаряжение экспедиции и погляжу ещё разок на любезное нашему сердцу плато. Что же касается вас, юноша, то вам деньги тоже нужны. Ведь вы женитесь?
— Да нет, пока не собираюсь, — ответил я со скорбной улыбкой. — Пожалуй, если вы не возражаете, я присоединяюсь к вам.
Лорд Рокстон посмотрел на меня и молча протянул мне свою крепкую загорелую руку.
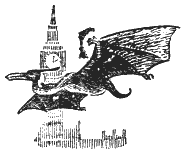


Артур Конан Дойл

Артур Игнатиус Конан Дойл родился 22 мая 1859 года в столице Шотландии г. Эдинбурге на Пикарди-плейс в семье художника и архитектора. Его отец Чарльз Алтамонт Дойл женился в возрасте двадцати двух лет на Мэри Фоли, молодой женщине семнадцати лет, в 1855 году. Мэри Дойл имела страсть к книгам и являлась главным рассказчиком в семье, наверное именно поэтому, в последствии Артур очень трогательно вспоминал о ней. К сожалению, отец Артура был хронический алкоголик, и поэтому семья иногда бедствовала, хотя он и был, по словам своего сына, очень талантливым художником. В детстве Артур много читал, имея совершенно разносторонние интересы. Его любимым автором был Майн Рид, а любимой книгой — «Охотники за скальпами».
После того, как Артур достиг девяти лет, богатые члены семейства Дойл предложили оплачивать его обучение. В течение семи лет он должен был ходить в школу-интернат иезуитов в Англии в Ходдер — подготовительная школа для Стоунихерста (большая закрытая католическая школа в Ланкашире). Спустя два года из Ходдера Артур он перебрался в Стоунихерст. Там преподавали семь предметов: азбуку, счёт, основные правила, грамматику, синтаксис, поэзию, риторику. Питание там было достаточно скудное и не имело большого разнообразия, которое, тем не менее, не сказывалось на здоровье. Телесные наказания были суровыми. Артур в то время часто подвергался им. Орудием наказания служил кусок резины, размером и формой напоминавший толстую галошу, которым били по кистям рук.
Именно в течение этих трудных лет в школе-интернате, Артур понял, что обладает талантом к сочинительству историй, поэтому он был часто окружён собранием из восхищённых молодых студентов, слушающих удивительные истории, которые он составлял, чтобы развлечь их. В одни из Рождественских каникул, в 1874 году, он на три недели, по приглашению своих родственников, едет в Лондон. Там он посещает: театр, зоопарк, цирк, Музей восковых фигур мадам Тюссо. Он остаётся очень доволен этой поездкой и тепло отзывается о своей тётушке Аннет, сестре отца, а также дядюшке Дике, с которым, в последствии, будет находиться, в мягко сказать, не в дружеских отношениях в связи с несовпадением взглядов на его, Артура, место в медицине, в частности, должен ли он будет стать католическим врачом… Но это ещё далёкое будущее, ещё предстоит закончить университет… На последнем годе обучения он издаёт журнал колледжа и пишет стихи. Кроме того, он занимался спортом, главным образом крикетом, в котором достиг неплохих результатов. Он отправляется в Германию в Фельдкирх учить немецкий язык, где продолжает с увлечением заниматься спортом: футбол, футбол на ходулях, катание на санках. Летом 1876 года Дойл едет домой, но по дороге заезжает в Париж, где живёт несколько недель у своего дяди. Таким образом, в 1876 году он получил образование и был готов к встрече с миром, а также желал восполнить некоторые из недостатков его отца, который к тому времени стал сумасшедшим.
Традиции семейства Дойл диктовали следовать артистической карьере, но всё же Артур решил заняться медициной. Это решение было принято под влиянием доктора Брайена Чарльза, степенного, молодого квартиранта, которого мать Артура взяла, чтобы сводить концы с концами. Доктор Валлер получил образование в Университете Эдинбурга, и поэтому Артур решил учиться там же. В октябре 1876 года Артур становится студентом медицинского университета, перед этим столкнувшись ещё с одной проблемой — не получением заслуженной им стипендии, которая так была нужна ему и его семье. Учась, Артур встречался со многими будущими известными авторами, такими как, Джеймс Барри и Роберт Луи Стивенсон, которые также посещали университет. Но наибольшее влияние на него оказал один из его преподавателей доктор Джозеф Белл, который был мастером наблюдательности, логики, выводов и обнаружения ошибок. В будущем он послужил прототипом Шерлока Холмса.
Учась, Дойл старался помочь своей семье, которая состояла из семи детей: Аннет, Констанции, Каролины, Иды, Иннеса и Артура, который и зарабатывал деньги в свободное от учёбы время, которое выкраивал путём ускоренного изучения дисциплин. Он работал и аптекарем, и помощником различных докторов… В частности, в начале лета 1878 года Артур нанимается учеником и фармацевтом к доктору из беднейшего квартала Шеффилда. Но уже через три недели доктор Ричадсон, так его звали, расстаётся с ним. Артур не оставляет попыток подзаработать пока имеется возможность, идут летние каникулы, и через некоторое время попадает к доктору Эллиоту Хору из деревни Рейтон из Шроншира. Эта попытка оказалась более успешная, в этот раз он проработал 4 месяца до октября 1878 года, когда необходимо было приступать к занятиям. Этот доктор хорошо отнёсся к Артуру, и поэтому следующее лето он вновь провёл у него, работая ассистентом.
Лорд Джон Рокстон. Этот человек, кажется, обвиняет меня во лжи? (Шум в зале.)
Председатель. Тише! Тише! Доктор Иллингворт, будьте добры сформулировать свою поправку.
Доктор Иллингворт. Я подчиняюсь, хотя мне хотелось бы сказать ещё кое-что. Итак, моё предложение сводится к следующему: поблагодарить профессора Саммерли за его интересный доклад, но сообщённые им факты считать недоказанными и поручить проверку их другой, более авторитетной комиссии.
Трудно описать, какое смятение вызвали в зале эти слова. Большинство присутствующих, возмущённое таким поклёпом на наших путешественников, требовало: «Долой поправку!», «Не голосуйте её!», «Вон его отсюда!» В то же время недовольные, а их было немало, поддерживали доктора Иллингворта и оглушительно кричали: «Это нечестно!», «Председатель! Призовите к порядку!» На задних скамьях, где сидели студенты-медики, началась потасовка, были пущены в ход кулаки. Всеобщую свалку предотвратило только присутствие дам среди публики. И вдруг крики смолкли, в зале наступила полная тишина. На эстраде стоял профессор Челленджер. Внешность и манеры этого человека производят настолько внушительное впечатление, что стоило только ему поднять руку, как все уселись по местам и приготовились слушать его.
— Многие из присутствующих, вероятно, помнят, — начал профессор Челленджер, — что подобные непристойные сцены разыгрались и на первом нашем заседании. В тот раз главным моим обидчиком был профессор Саммерли, и, хотя теперь он исправился и покаялся в грехах, всё же этот инцидент не может быть предан забвению. Сегодня мне пришлось услышать ещё более оскорбительные выпады со стороны лица, только что покинувшего эстраду. Я с величайшим трудом заставляю себя снизойти до интеллектуального уровня данного лица, но это нужно сделать, дабы устранить сомнения, которые, может быть, ещё сохранились у некоторых из здесь присутствующих. (Смех, шум, крики из задних рядов.)
Профессор Саммерли выступал здесь как глава комиссии расследования, но вряд ли нужно напоминать вам, что подлинным вдохновителем всего дела являюсь я и что наша поездка увенчалась успехом главным образом благодаря мне. Я довёл этих троих джентльменов до нужного места и, как вы уже слышали, убедил их в правильности моих утверждений. Мы не рассчитывали, что наши совместные выводы будут оспариваться с тем же невежеством и упорством. Но, наученный горьким опытом, я вооружился на сей раз кое-какими доказательствами, которые смогут убедить всякого здравомыслящего человека. Профессор Саммерли уже говорил здесь, что наши фотокамеры побывали в лапах человекообезьян, разгромивших весь наш лагерь, и что большинство негативов погибло. (Шум, смешки, с задних скамей кто-то кричит: «Расскажите это вашей бабушке!») Кстати, о человекообезьянах. Не могу не отметить, что звуки, которые доходят сейчас до моего слуха, весьма живо напоминают мне наши встречи с этими любопытными существами. (Смех.)
Несмотря на то, что многие ценные негативы были уничтожены, всё же некоторое количество фотографий у нас осталось и по ним вполне можно судить об условиях жизни на плато. Есть ли у кого-нибудь из присутствующих сомнения в их подлинности? (Чей-то голос: «Да! Есть!» Общее волнение, заканчивающееся тем, что нескольких человек выводят из зала.) Негативы предложены вниманию экспертов. Какие же ещё доказательства может представить комиссия? Ей пришлось бежать с плато, и поэтому она не могла обременять себя каким бы то ни было грузом, но профессору Саммерли удалось спасти свою коллекцию бабочек и жуков, а в ней имеется много новых разновидностей. Разве этого недостаточно? (Несколько голосов: „Нет! Нет!“) Кто сказал „нет“?
Доктор Иллингворт (поднимаясь с места). Мы считаем, что коллекцию можно было собрать где угодно, а не обязательно на вашем доисторическом плато. (Аплодисменты.)
Профессор Челленджер. Без сомнения, сэр, слово такого крупного учёного, как вы, для нас закон. Однако оставим фотографии и энтомологическую коллекцию и перейдём к вопросам, которые никогда и никем не освещались. У нас, например, имеются совершенно точные сведения о птеродактилях. Образ жизни этих животных… (Крики: «Вздор!» Шум в зале.) Я говорю, образ жизни этих животных станет вам теперь совершенно ясен. В моём портфеле лежит рисунок, сделанный с натуры, на основании которого…
Доктор Иллингворт. Рисунки нас ни в чём не убедят!
Профессор Челленджер. Вы хотели бы видеть самую натуру?
Доктор Иллингворт. Несомненно!
Профессор Челленджер. И тогда вы поверите мне?
Доктор Иллингворт (со смехом). Тогда? Ну ещё бы!
И тут мы подошли к самому волнующему и драматическому эпизоду вечера — эпизоду, эффект которого навсегда останется непревзойдённым. Профессор Челленджер поднял руку, наш коллега мистер Э. Д. Мелоун тотчас же встал с места и направился в глубь эстрады. Минуту спустя он снова появился в сопровождении негра гигантского роста; они несли вдвоём большой квадратный ящик, по-видимому, очень тяжёлый. Ящик был поставлен у ног профессора. Публика замерла, с напряжением следя за происходящим. Профессор Челленджер снял выдвижную крышку с ящика, заглянул внутрь и, прищёлкнув несколько раз пальцами, сказал умильным голосом (в журналистской ложе были прекрасно слышны его слова): «Ну, выходи, малыш, выходи!» Послышалась какая-то возня, царапанье, и тут же вслед за этим невообразимо страшное, омерзительное существо вылезло из ящика и уселось на его краю. Даже неожиданное падение герцога Дархемского в оркестровую яму не отвлекло внимания поражённой ужасом публики. Хищная голова этого чудовища с маленькими, пылающими, словно угли, глазами невольно заставила вспомнить страшных химер, которые могли зародиться только в воображении средневековых художников. Его полуоткрытый длинный клюв был усажен двумя рядами острых зубов. Вздёрнутые плечи прятались в складках какой-то грязно-серой шали. Словом, это был тот самый дьявол, которым нас пугали в детстве.
Публика пришла в смятение — кто-то вскрикнул, в переднем ряду две дамы упали в обморок, учёные на эстраде проявили явное стремление последовать за председателем в оркестр. Казалось, ещё секунда, и общая паника охватит зал.
Профессор Челленджер поднял руку над головой, стараясь успокоить публику, но это движение испугало сидевшее рядом с ним чудовище. Оно расправило серую шаль, которая оказалась не чем иным, как парой перепончатых крыльев. Профессор ухватил его за ноги, но удержать не смог. Чудовище взвилось с ящика и медленно закружило по залу, с сухим шорохом взмахивая десятифутовыми крыльями и распространяя вокруг себя ужасающее зловоние. Вопли публики на галерее, до смерти перепуганной близостью этих горящих глаз и огромного клюва, привели его в полное смятение. Оно всё быстрее и быстрее металось по залу, натыкаясь на стены и люстры, и, видимо, совсем обезумело от страха. «Окно! Ради всего святого, закройте окно!» — кричал профессор, приплясывая от ужаса и ломая руки. Увы, он спохватился слишком поздно. Чудовище, бившееся о стены, словно огромная бабочка о колпак лампы, поравнялось с окном, протиснуло в него своё уродливое тело… и только мы его и видели. Профессор закрыл лицо руками и упал в кресло, а зал облегчённо охнул, как один человек, убедившись, что опасность миновала.
И тут… Но разве можно описать, что происходило в зале, когда восторг сторонников и смятение недавних противников Челленджера слились воедино и мощная волна ликования прокатилась от задних рядов к оркестровой яме, захлестнула эстраду и подняла наших героев на своём гребне! (Молодец, Мак!) Если до сих пор аудитория была несправедлива к четырём отважным путешественникам, то теперь она постаралась искупить свою вину. Все вскочили с мест. Все двинулись к эстраде, крича, размахивая руками. Героев окружили плотным кольцом. «Качать их! Качать!» — раздались сотни голосов. И вот четверо путешественников взлетели над толпой. Все их попытки высвободиться были тщетны! Да они при всём желании не могли бы опуститься наземь, так как люди стояли на эстраде сплошной стеной.
«На улицу! На улицу!» — кричали кругом.
Толпа пришла в движение, и людской поток медленно двинулся к дверям, унося с собой четырех героев. На улице началось нечто невообразимое. Там собралось не менее ста тысяч человек. Люди стояли плечом к плечу от Ленгем-отеля до Оксфорд-сквер. Как только яркий свет фонарей у подъезда озарил четырех героев, плывущих над головами толпы, воздух дрогнул от приветственных криков. «Процессией по Риджент-стрит!» — дружно требовали все. Запрудив улицу, шеренги двинулись вперёд, по Риджент-стрит, на Пэл-Мэл, Сент-Джеймс-стрит и Пикадилли. Движение в центре Лондона приостановилось. Между демонстрантами, с одной стороны, полицией и шофёрами — с другой, произошёл ряд столкновений. Наконец уже после полуночи толпа отпустила четырех путешественников, доставив их в Олбени, к дверям квартиры лорда Джона Рокстона, спела им на прощание „Наши славные ребята» и завершила программу гимном. Так закончился этот вечер — один из самых замечательных вечеров, которые знал Лондон за многие годы.
Так писал мой друг Макдона, и, несмотря на тяжеловесность его слога, ход событий изложен в этом отчёте довольно точно. Что же касается самой большой сенсации, то она поразила своей неожиданностью только публику, но не нас, участников экспедиции. Читатель, разумеется, не забыл моей встречи с лордом Джоном Рокстоном, когда он, напялив на себя нечто вроде кринолина, отправился добывать «цыплёночка» для профессора Челленджера. Вспомните также намёки на те хлопоты, которые причинял нам багаж Челленджера при спуске с плато. Если бы я вздумал продолжить свой рассказ, то в нём было бы отведено немало места описанию возни с нашим не совсем аппетитным спутником, которого приходилось ублажать тухлой рыбой. Я умолчал о нём, ибо профессор Челленджер опасался, как бы слухи об этом неопровержимом аргументе не просочились в публику раньше той минуты, когда он воспользуется им, чтобы повергнуть в прах своих врагов.
Несколько слов о судьбе лондонского птеродактиля. Ничего определённого тут установить не удалось. Две перепуганные женщины утверждают, будто бы видели его на крыше Куинз-Холла, где он восседал несколько часов подряд, подобно какой-то чудовищной статуе. На следующий день в вечерних газетах появилась короткая заметка следующего содержания: гвардеец Майлз, стоявший на часах у Мальборо-Хауса, покинул свой пост и был за это предан военному суду. На суде Майлз показал, что во время ночного дежурства он случайно посмотрел вверх и увидел чёрта, заслонившего от него луну, после чего бросил винтовку и пустился наутёк по Пэлл-Мэлл. Показания подсудимого не были приняты во внимание, а между тем они могут находиться в прямой связи с интересующим нас вопросом.
Добавлю ещё одно свидетельство, почерпнутое мной из судового журнала парохода американо-голландской линии «Фрисланд». Там записано, что в девять часов утра следующего дня, когда Старт-Пойнт был в десяти милях со штирборта, над судном, держа путь на юго-запад, со страшной быстротой пронеслось нечто среднее между крылатым козлом и огромной летучей мышью. Если инстинкт правильно указал дорогу нашему птеродактилю, то не может быть сомнений, что он встретил свой конец где-нибудь в пучинах Атлантического океана.
А моя Глэдис? Глэдис, чьё имя было дано таинственному озеру, которое отныне будет называться Центральным, ибо теперь я уже не хочу даровать ей бессмертие. Не замечал ли я и раньше признаков чёрствости в натуре этой женщины? Не чувствовал ли, с гордостью повинуясь её велению, что немногого стоит та любовь, которая шлёт человека на верную смерть или заставляет его рисковать жизнью? Не боролся ли с неотвязчивой мыслью, что в этой женщине прекрасен лишь внешний облик, что душу её омрачает тень себялюбия и непостоянства? Почему она так пленялась всем героическим? Не потому ли, что свершение благородного поступка могло отразиться и на ней без всяких усилий, без всяких жертв с её стороны? Или всё это пустые домыслы? Я был сам не свой все эти дни. Полученный удар отравил мою душу.
Но с тех пор прошла неделя, и за это время у нас был один очень важный разговор с лордом Джоном Рокстоном… Мне мало-помалу начинает казаться, что дела обстоят не так уж плохо.
Расскажу в нескольких словах, как всё произошло. В Саутгемптоне на моё имя не было ни письма, ни телеграммы, и, встревоженный этим, я в десять часов вечера того же дня уже стоял у дверей маленькой виллы в Стритеме. Может быть, её нет в живых? Давно ли мне грезились во сне раскрытые объятия, улыбающееся личико, горячие похвалы, без счёта расточаемые герою, рисковавшему жизнью по прихоти своей возлюбленной! Действительность швырнула меня с заоблачных высот на землю. Но мне будет достаточно одного её слова в объяснение, чтобы опять воспарить к облакам. И я опрометью бросился по садовой дорожке, постучал в дверь, услышал голос моей Глэдис, оттолкнул в сторону оторопевшую служанку и влетел в гостиную. Она сидела на диванчике между роялем и высокой стоячей лампой. Я в три шага перебежал комнату и схватил обе её руки в свои.
— Глэдис! — крикнул я. — Глэдис!
Она удивлённо посмотрела на меня. Со времени нашей последней встречи в ней произошла какая-то неуловимая перемена. Холодный взгляд, твёрдо сжатые губы — всё это показалось мне новым. Глэдис высвободила свои руки.
— Что это значит? — спросила она.
— Глэдис! — крикнул я. — Что с вами? Вы же моя Глэдис, моя любимая крошка Глэдис Хангертон!
— Нет, — сказала она. — я Глэдис Поц. Разрешите представить вам моего мужа.
Какая нелепая штука жизнь! Я поймал себя на том, что машинально раскланиваюсь и пожимаю руку маленькому рыжеватому субъекту, удобно устроившемуся в глубоком кресле, которое некогда служило только мне. Мы кивали головой и с глупейшей улыбкой смотрели друг на друга.
— Папа разрешил нам пожить пока здесь. Наш дом ещё не готов, — пояснила Глэдис.
— Вот как! — сказал я.
— Разве вы не получили моего письма в Паре?
— Нет, никакого письма я не получал.
— Какая жалость! Тогда вам всё было бы ясно.
— Мне и так всё ясно, — пробормотал я.
— Я рассказывала о вас Вильяму, — продолжала Глэдис. — У нас нет тайн друг от друга. Мне очень жаль, что так вышло, но ваше чувство было, вероятно, не очень глубоко, если вы могли бросить меня здесь одну и уехать куда-то на край света. Вы на меня не дуетесь?
— Нет, что вы, что вы!… Так я, пожалуй, пойду.
— А не выпить ли нам чаю? — предложил рыжеватый субъект и потом добавил доверительным тоном: — Вот так всегда бывает… А на что другое можно рассчитывать? Из двух соперников побеждает всегда один.
Он залился идиотским смехом, и я счёл за благо уйти.
Дверь гостиной уже закрылась за мной, как вдруг меня словно что-то подтолкнуло, и, повинуясь этому порыву, я вернулся к своему счастливому сопернику, который тотчас же бросил тревожный взгляд на электрический звонок.
— Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос, — сказал я.
— Что же, если он в границах дозволенного…
— Как вы этого добились? Отыскали какой-нибудь клад? Открыли полюс? Были корсаром? Перелетели через Ла-Манш? Что вы сделали? Где она, романтика? Как вам это удалось?
Он уставился на меня во все глаза. Его глуповато-добродушная, ничтожная физиономия выражала полное недоумение.
— Не кажется ли вам, что всё это носит чересчур личный характер? — проговорил он наконец.
— Хорошо. Ещё один вопрос, последний! — крикнул я. — Кто вы? Какая у вас профессия?
— Я работаю письмоводителем в нотариальной конторе Джонсона и Мервилля. Адрес: Ченсери-лейн, дом сорок один.
— Всего хорошего! — крикнул я и, как подобает безутешному герою, исчез во мраке ночи, обуреваемый яростью, горем и… смехом…
Ещё одна короткая сцена — и повествование моё будет закончено.
Вчера вечером мы все собрались у лорда Джона Рокстона и после ужина за сигарой долго вспоминали в дружеской беседе наши недавние приключения. Странно было видеть эти хорошо знакомые мне лица в такой непривычной обстановке. Вот сидит Челленджер — снисходительная улыбка по-прежнему играет на его губах, веки всё так же презрительно сощурены, борода топорщится, он выпячивает грудь, пыжится, поучая Саммерли. А тот попыхивает своей коротенькой трубочкой и трясёт козлиной бородкой, яростно оспаривая каждое слово Челленджера. И, наконец, вот наш хозяин — худое лицо, холодный взгляд голубых, как лёд, орлиных глаз, в глубине которых всегда тлеет весёлый, лукавый огонёк. Такими все трое долго сохранятся у меня в памяти.
После ужина мы перешли в святая святых лорда Джона — в его кабинет, залитый розовым сиянием и увешанный бесчисленными трофеями, — и наш дальнейший разговор происходил там. Хозяин достал из шкафчика старую коробку из-под сигар и поставил её перед собой на стол.
— Пожалуй, мне давно следовало посвятить вас в это дело, — начал он, — но я хотел сначала выяснить всё до конца. Стоит ли пробуждать надежды и потом убеждаться в их неосуществимости? Но сейчас перед нами факты. Вы, наверно, помните тот день, когда мы нашли логово птеродактилей в болоте? Так вот: я смотрел, смотрел на это болото и в конце концов призадумался. Я скажу вам, в чём дело, если вы сами ничего не заметили. Это была вулканическая воронка с синей глиной.
Оба профессора кивнули головой, подтверждая его слова.
— Такую же вулканическую воронку с синей глиной мне пришлось видеть только раз в жизни — на больших алмазных россыпях в Кимберли. Вы понимаете? Алмазы не выходили у меня из головы. Я соорудил нечто вроде корзинки для защиты от этих зловонных гадов и, вооружившись лопаткой, недурно провёл время в их логове. Вот что я извлёк оттуда. Он открыл сигарную коробку, перевернул её кверху дном и высыпал на стол около тридцати или более неотшлифованных алмазов величиной от боба до каштана.
— Вы, пожалуй, скажете, что мне следовало сразу же поделиться с вами моим открытием. Не спорю. Но неопытный человек может здорово нарваться на этих камешках. Ведь их ценность зависит не столько от размера, сколько от консистенции и чистоты воды. Словом, я привёз их сюда, в первый же день отправился к Спинку и попросил его отшлифовать и оценить мне один камень.
Лорд Джон вынул из кармана небольшую коробочку из-под пилюль и показал нам великолепно играющий бриллиант, равного которому по красоте я, пожалуй, никогда не видел.
— Вот результаты моих трудов, — сказал он. — Ювелир оценил эту кучку самое меньшее в двести тысяч фунтов. Разумеется, мы поделимся поровну. Ни на что другое я не соглашусь. Ну, Челленджер, что вы сделаете на свои пятьдесят тысяч?
— Если вы действительно настаиваете на столь великодушном решении, — сказал профессор, — то я потрачу все деньги на оборудование частного музея, о чём давно мечтаю.
— А вы, Саммерли?
— Я брошу преподавание и посвящу всё своё время окончательной классификации моего собрания ископаемых мелового периода.
— А я, — сказал лорд Джон Рокстон, — истрачу всю свою долю на снаряжение экспедиции и погляжу ещё разок на любезное нашему сердцу плато. Что же касается вас, юноша, то вам деньги тоже нужны. Ведь вы женитесь?
— Да нет, пока не собираюсь, — ответил я со скорбной улыбкой. — Пожалуй, если вы не возражаете, я присоединяюсь к вам.
Лорд Рокстон посмотрел на меня и молча протянул мне свою крепкую загорелую руку.
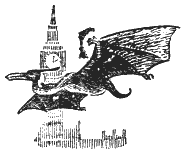


Автор
Артур Конан Дойл

Артур Игнатиус Конан Дойл родился 22 мая 1859 года в столице Шотландии г. Эдинбурге на Пикарди-плейс в семье художника и архитектора. Его отец Чарльз Алтамонт Дойл женился в возрасте двадцати двух лет на Мэри Фоли, молодой женщине семнадцати лет, в 1855 году. Мэри Дойл имела страсть к книгам и являлась главным рассказчиком в семье, наверное именно поэтому, в последствии Артур очень трогательно вспоминал о ней. К сожалению, отец Артура был хронический алкоголик, и поэтому семья иногда бедствовала, хотя он и был, по словам своего сына, очень талантливым художником. В детстве Артур много читал, имея совершенно разносторонние интересы. Его любимым автором был Майн Рид, а любимой книгой — «Охотники за скальпами».
После того, как Артур достиг девяти лет, богатые члены семейства Дойл предложили оплачивать его обучение. В течение семи лет он должен был ходить в школу-интернат иезуитов в Англии в Ходдер — подготовительная школа для Стоунихерста (большая закрытая католическая школа в Ланкашире). Спустя два года из Ходдера Артур он перебрался в Стоунихерст. Там преподавали семь предметов: азбуку, счёт, основные правила, грамматику, синтаксис, поэзию, риторику. Питание там было достаточно скудное и не имело большого разнообразия, которое, тем не менее, не сказывалось на здоровье. Телесные наказания были суровыми. Артур в то время часто подвергался им. Орудием наказания служил кусок резины, размером и формой напоминавший толстую галошу, которым били по кистям рук.
Именно в течение этих трудных лет в школе-интернате, Артур понял, что обладает талантом к сочинительству историй, поэтому он был часто окружён собранием из восхищённых молодых студентов, слушающих удивительные истории, которые он составлял, чтобы развлечь их. В одни из Рождественских каникул, в 1874 году, он на три недели, по приглашению своих родственников, едет в Лондон. Там он посещает: театр, зоопарк, цирк, Музей восковых фигур мадам Тюссо. Он остаётся очень доволен этой поездкой и тепло отзывается о своей тётушке Аннет, сестре отца, а также дядюшке Дике, с которым, в последствии, будет находиться, в мягко сказать, не в дружеских отношениях в связи с несовпадением взглядов на его, Артура, место в медицине, в частности, должен ли он будет стать католическим врачом… Но это ещё далёкое будущее, ещё предстоит закончить университет… На последнем годе обучения он издаёт журнал колледжа и пишет стихи. Кроме того, он занимался спортом, главным образом крикетом, в котором достиг неплохих результатов. Он отправляется в Германию в Фельдкирх учить немецкий язык, где продолжает с увлечением заниматься спортом: футбол, футбол на ходулях, катание на санках. Летом 1876 года Дойл едет домой, но по дороге заезжает в Париж, где живёт несколько недель у своего дяди. Таким образом, в 1876 году он получил образование и был готов к встрече с миром, а также желал восполнить некоторые из недостатков его отца, который к тому времени стал сумасшедшим.
Традиции семейства Дойл диктовали следовать артистической карьере, но всё же Артур решил заняться медициной. Это решение было принято под влиянием доктора Брайена Чарльза, степенного, молодого квартиранта, которого мать Артура взяла, чтобы сводить концы с концами. Доктор Валлер получил образование в Университете Эдинбурга, и поэтому Артур решил учиться там же. В октябре 1876 года Артур становится студентом медицинского университета, перед этим столкнувшись ещё с одной проблемой — не получением заслуженной им стипендии, которая так была нужна ему и его семье. Учась, Артур встречался со многими будущими известными авторами, такими как, Джеймс Барри и Роберт Луи Стивенсон, которые также посещали университет. Но наибольшее влияние на него оказал один из его преподавателей доктор Джозеф Белл, который был мастером наблюдательности, логики, выводов и обнаружения ошибок. В будущем он послужил прототипом Шерлока Холмса.
Учась, Дойл старался помочь своей семье, которая состояла из семи детей: Аннет, Констанции, Каролины, Иды, Иннеса и Артура, который и зарабатывал деньги в свободное от учёбы время, которое выкраивал путём ускоренного изучения дисциплин. Он работал и аптекарем, и помощником различных докторов… В частности, в начале лета 1878 года Артур нанимается учеником и фармацевтом к доктору из беднейшего квартала Шеффилда. Но уже через три недели доктор Ричадсон, так его звали, расстаётся с ним. Артур не оставляет попыток подзаработать пока имеется возможность, идут летние каникулы, и через некоторое время попадает к доктору Эллиоту Хору из деревни Рейтон из Шроншира. Эта попытка оказалась более успешная, в этот раз он проработал 4 месяца до октября 1878 года, когда необходимо было приступать к занятиям. Этот доктор хорошо отнёсся к Артуру, и поэтому следующее лето он вновь провёл у него, работая ассистентом.
