Страница:
Геба Джонс ушла с работы пораньше по причине головной боли, и к тому времени, когда она вернулась в Тауэр, дождь прекратился. Но небо упорно сохраняло цвет воды, в которой кто-то помылся, и было готово в любой момент снова окатить всех грязной жижей. Геба кивнула йомену Гаолеру, заместителю главного стража, который сидел в черной будке при входе в Тауэр и грел ноги возле электрического обогревателя из трех секций. Когда он спросил ее о визите посланника из дворца, Геба Джонс ответила, что все это выдумки, ничего подобного не было, иначе муж уже позвонил бы ей и рассказал. Однако бифитер сообщил, что визитера видели еще девять человек, и назвал каждого по имени, отгибая один толстый палец за другим.
— Не жни там, где не сеял, — бросила Геба, проходя в ворота.
Путь ей преградила плотная толпа туристов, глазеющих на дома с террасами на улице Монетного двора, где жили бифитеры. Ощущая сильнее обычного тяжесть пакетов с покупками в обеих руках, она протиснулась сквозь толпу, мечтая, чтобы все эти люди тешили свою нездоровую страсть к британской истории в каком-нибудь другом месте. Когда она проходила мимо Колыбельной башни, ее больно ударил в грудь рюкзак туриста, который развернулся, чтобы заглянуть в окно, откуда в шестнадцатом веке сбежали по натянутой надо рвом веревке два узника. Отдышавшись, она продолжила путь, не видя уже ничего, кроме греческого домика из своих грез.
Добравшись до Соляной башни, она попыталась нашарить ключ, слишком большой для кармана, и обнаружила, что он прорвал подкладку в новой сумочке. Повернув ключ в замке — задача, для исполнения которой потребовались обе ее кукольные ручки, — она поднялась наверх, оставив внизу половину своих покупок, потому что узкая винтовая лестница не позволяла взять всё. Когда она спускалась за второй частью пакетов, хватаясь за засаленный канат, натянутый вместо перил еще в те времена, когда по этой лестнице ходили заключенные, она по обыкновению подумала, многие ли из узников сумели сохранить голову на плечах.
Геба отставила в сторону покупки и принялась перемывать тарелки, оставшиеся от завтрака, вспоминая, как повздорила поутру с мужем. Потеряв Милона, они, вместо того чтобы держаться друг друга, как это было всегда в трудные минуты на протяжении их супружества, вдруг обнаружили, что плывут в разных направлениях, в одиночку барахтаясь, чтобы выжить. Когда одному было необходимо выговориться, другой вдруг остро нуждался в тишине. В конце концов они выбрались на разные берега и там рухнули без сил, окруженные плотным туманом горя, продолжая метать друг в друга молнии гнева из-за утраты единственного сына.
Намывая тарелки, Геба Джонс поглядывала на рисунок на стене над раковиной, где неумелыми карандашными линиями была изображена Соляная башня, раскрашенная фломастерами. Художник очень старался, хотя не всегда успешно, не выходить за контуры рисунка. Рядом с башней стояли три улыбающихся человека, двое высоких и один маленький. Только родители художника знали, что пятно рядом с ними — это самая старая на свете черепаха, которая тоже улыбалась. Борясь с отчаянием, Геба Джонс всматривалась в краски, уже начавшие выцветать.
И тут она вдруг услышала, как хлопнула дверь. Через несколько секунд в кухне появился муж, который молча вручил ей плоскую картонную коробку, крышка которой была еще теплой. Геба Джонс, не в силах признать, что по-прежнему терпеть не может пиццу, накрыла на стол и вывесила белый флаг, откусывая от угощения по маленькому, застревавшему в горле кусочку. Весь остаток вечера в Соляной башне сохранялась напряженная атмосфера, и они переговаривались друг с другом так, будто башня была полна трепещущих бабочек, которых они оба боялись спугнуть.
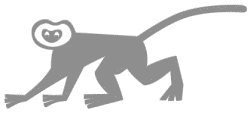
Глава третья
Стоя у ящика, в котором лежало сто пятьдесят семь пар вставных челюстей, Геба Джонс расстегивала пальто. Этот ритуал она совершала каждое утро, приходя в бюро находок Лондонского метрополитена, даже летом, поскольку ни капельки не доверяла погоде в Англии. Она повесила пальто на вешалку рядом с надувной куклой в натуральную величину, за которой ее владелец так и не отважился прийти. Завернув за угол, она остановилась перед подлинным викторианским прилавком, ставень над которым пока еще был закрыт, и просмотрела один из гроссбухов, чтобы вспомнить, какие находки принесли накануне. Помимо обычного набора из нескольких дюжин зонтиков и бестселлеров — в некоторых книжках закладки торчали драматично близко к последним страницам, — вчерашняя жатва принесла одну газонокосилку, печатную машинку с русскими буквами и шестнадцать банок консервированного имбиря. Последним в списке значилось очередное брошенное инвалидное кресло, увеличившее коллекцию бюро до внушительной цифры — тридцать девять. Яркое доказательство (по крайней мере, для персонала) того, что лондонская подземка творит чудеса.
Геба Джонс включила электрический чайник, стоявший на сейфе, который никто так и не смог открыть с тех пор, как его обнаружили на Кольцевой линии пять лет назад. Заглянула в холодильник, служивший вечным предметом споров (чья очередь его мыть), достала пакет с молоком и поднесла к носу. Отыскала на нижней полке нечто, уже не поддававшееся опознанию, и, убедившись, что мерзкий запах исходит именно оттуда, налила в чашку молока. Дожидаясь, пока закипит вода, Геба Джонс, острее многих других сознававшая, как тяжело терять, с сожалением оглядывала кладбище забытых вещей, расположившихся на металлических стеллажах, покрытых саваном пыли.
Она прошла мимо длинного черного ящика, куда иллюзионисты укладывают своих переливающихся блестками ассистенток, чтобы распилить их пополам, и поставила чай на свой письменный стол. На столе лежало несколько предметов, прибывших последними, чьих владельцев она пыталась разыскать: чучело колибри под небольшим стеклянным колпаком, искусственный глаз, пара крошечных китайских туфель с острыми носами, расшитыми листьями лотоса, дневник жиголо, который она надеялась дочитать до конца, прежде чем его заберут, и маленькая коробочка, найденная в Альберт-холле, в которой якобы хранилась тестикула Адольфа Гитлера. На полке над столом выстроились в ряд выцветшие открытки со словами благодарности — доказательство того, что по природе человек вполне дружелюбен, хотя нередко об этом забывает.
Открыв ящик, она достала блокнот, надеясь, что в высшей степени благородное дело возвращения утраченной собственности ее легкомысленным владельцам отвлечет ее от собственных забот. Она прочла свои записи, сделанные в ходе поисков производителя искусственного глаза. Но мысли то и дело возвращались к мужу.
Она уловила запах вошедшей коллеги раньше, чем ее увидела. На соседний письменный стол приземлился еще теплый сэндвич с беконом, завернутый в пергаментную бумагу, — он опрокинул статуэтку «Оскара», которая дожидалась своего владельца уже два года восемь месяцев и двадцать семь дней. Геба Джонс считала ее подделкой, поскольку запросы, разосланные в актерские агентства, так и остались без ответа, но Валери Дженнингс твердо верила, что в один прекрасный день к ним зайдет Дастин Хоффман собственной персоной и спросит, не они ли нашли его «Оскара».
Годы разочарований, скрашенные лишь одиночными яркими победами, связали двух женщин крепкими узами, будто заключенных в одной камере. Они искренне радовались успехам друг друга и принимали близко к сердцу горечь поражений. Их работа состояла из взлетов и падений. Они обе просто не выносили моментов скуки, неизменно наступающих во время рабочего дня, зачастую с самого утра, когда им вручали тридцать девятую связку ключей. Именно тогда, когда они с нетерпением ждали появления чего-нибудь экзотического, или съедобного, или, если повезет, того и другого сразу. В особенно затяжные периоды уныния Геба Джонс находила утешение в ящике иллюзиониста, куда ложилась и лежала, закрыв глаза, а Валери Дженнингс, чьи поразительные объемы делали невозможным подобное удовольствие, развлекалась, примеряя театральные бороды и усы из ничейного ящика и с восторгом наблюдая в зеркале удивительные перевоплощения.
Обе женщины, которые раздражали друг друга словно сестры и точно так же друг друга любили, правили в бюро находок Лондонского метро с королевским достоинством, и лишь в минуты самой отчаянной тоски скатывались к стилистике грязнейшего из борделей. Их честность была абсолютна. Все, что передавали им работники метрополитена или добросердечные пассажиры, записывалось каллиграфическим монашеским почерком в хранимые в идеальном порядке гроссбухи. Единственное, что они забирали себе, — это скоропортящиеся продукты, которые по правилам все равно не позволялось держать больше суток, хотя втайне от начальства они и делали исключение для именинных тортов, волновавших не столько их вкусовые рецепторы, сколько сердца.
Женщины поздоровались с обыденным безразличием, ведь они проработали бок о бок больше десяти лет. Пока Геба Джонс поднимала над прилавком металлический ставень, издававший немилосердный визг, Валери Дженнингс осмотрела статуэтку «Оскара» на предмет повреждений, после чего поставила ее на ноги. Она уже собиралась приняться за свой сэндвич, как интуиция подсказала ей, что с ним что-то не в порядке, и она сняла верхний кусочек белого хлеба. Ее подозрения оправдались, и она обругала владельца грязной забегаловки — пройдоха не положил кетчуп. С достойной всяческих похвал надеждой на лучшее, которую она всегда проявляла, сталкиваясь с неприятностями, она спросила, нет ли у них в находках забытого кетчупа.
Швейцарский коровий колокольчик на двери звякнул раньше, чем Геба Джонс успела ответить. Она поднялась со своего места, чтобы Валери Дженнингс могла спокойно насладиться завтраком. По пути к прилавку она по конторской традиции попыталась открыть сейф. Но, несмотря на новую комбинацию цифр, серый стальной ящик остался надежно запертым.
Перед прилавком стоял, озабоченно морща лоб, постоянный клиент бюро находок Сэмюель Крэппер в своем неизменном коричневом вельветовом костюме и рубашке в синюю полоску. Далекий потомок знаменитого водопроводчика, имевшего множество патентов на свои изобретения, он получил лучшее частное образование, какое только можно обеспечить за деньги. Однако плата за учебу оказалась даже выше, чем думали родители. На переменах однокашники донимали Сэмюеля издевательскими шутками, от которых он заливался краской, а его мучители орали, что у него «прилив гордости». Сколько он ни уверял, что это все враки, что вовсе не Томас Крэппер изобрел сливной бачок, а сэр Джон Харрингтон, крестник королевы Елизаветы Первой, они при каждом удобном случае норовили ткнуть его носом в этот самый бачок. Он ненавидел воспоминания о травле в школе и, неосознанно стремясь компенсировать детскую травму, всегда покупал все в двух экземплярах. Вот только он упускал из виду, что потерять можно и дубликат.
Высокий, худой как палка, Сэмюель Крэппер смотрел на подходившую к нему Гебу Джонс, и с каждой секундой волнение его нарастало — он вдруг напрочь забыл, что же он потерял. Глядя в пол, он пытался пригладить волосы цвета охры, которые так и не восстановили утраченную в жестокие годы школьных мучений способность лежать ровно. Внезапно вспомнив наконец о своей пропаже, он улыбнулся, но улыбка тут же и угасла, когда он понял, что может уйти отсюда с пустыми руками.
— Вам, случайно, не приносили помидорный куст? — спросил он, поправляя очки в золотой оправе.
Это не просто помидор, продолжал объяснять он, это потомок одного из первых помидоров, прижившихся в Англии, достижение брадобрея Джона Джерарда в девяностые годы шестнадцатого века. Мистер Крэппер нашел редчайшие семена после нескольких лет напряженных поисков. Выросший куст оказался до того роскошным, что он решился представить его на выставке.
— К несчастью, вчера я забыл его на линии Пикадилли, когда ехал на выставку, — признался он. — Я запамятовал, что на самом деле выставка состоится сегодня днем.
— Подождите минутку, — ответила Геба Джонс, исчезая за дверью.
Через несколько минут она вернулась, неся перед собой горшок с пышным помидором, который молча поставила на прилавок с надписью: «Здесь не берут чаевые». Обойдясь без традиционной болтовни о том о сем, она попрощалась и снова ушла с необычной для нее поспешностью. А Сэмюель Крэппер радостно затопал прочь, прижимая горшок к своему вельветовому пиджаку, совершенно не заметив исчезновения четырех помидоров, которые Геба Джонс и Валери Дженнингс накануне употребили на сырные сэндвичи.
Когда Геба Джонс вернулась к столу, ее коллега исследовала недра холодильника, готовясь к одиннадцатичасовому перекусу, хотя до священного часа было еще довольно далеко. На эти волшебные пятнадцать минут ставень опускался, телефонные звонки оставались без ответа, и обе женщины заваривали «Леди Грей» в чашках из костяного фарфора, за которыми пока никто не пришел, угощаясь пирогом или тортом, принесенным Валери Дженнингс.
Ненасытный аппетит появился у Валери после того, как в один прекрасный день она пришла с работы, собираясь напомнить мужу, что сегодня у них годовщина свадьбы. Но ее ожидала отнюдь не ночь безудержной страсти, на которую она надеялась: муж оторвался от газеты и с безразличием юриста сообщил, что бросает ее. Он сказал, что их брак был ошибкой, но никто в этом не виноват. Валери Дженнингс была настолько потрясена, что позволила ему подать на развод. Спустя несколько месяцев после подписания всех бумаг, ей рассказали, что он женился на Карибах и на церемонии был босиком. Только тогда она сняла с каминной полки их свадебную фотографию и унесла ее на чердак вместе с фотоальбомом, видеть который ей было так же невыносимо.
Когда через несколько минут швейцарский коровий колокольчик снова зазвонил, к прилавку пошла Геба Джонс. Перед ней стоял Артур Кэтнип, билетный контролер лондонской подземки, человек небольшого роста, изрядно расплывшийся из-за пристрастия к плотным завтракам. За годы работы он научился распознавать «зайцев» за сто шагов. Эту способность породила интуиция, благодаря которой он за пятнадцать дней узнал и о грозившем ему тяжелом сердечном приступе. Тогда он взял отпуск и попытался пройти осмотр в ближайшей больнице, чтобы как следует подготовиться. Но там его, билетного контролера и любителя искусства татуировок, несмотря на протесты, отправили в психиатрическое отделение. Его пророческие предостережения были старательно записаны лысым как колено доктором, который в волнении предвкушал открытие нового вида безумия. Когда же сердечный приступ в конце концов случился, единственное, что спасло Артура Кэтнипа от обширного инфаркта, — это то, что кровь, вскипевшая от негодования в разгар беседы с врачом, пронеслась по закупоренной артерии с напором мустанга. Пока отделение наполнялось парами праведного гнева, двое пациентов, оказавшихся куда разумнее своих надсмотрщиков, решили, что миг настал, — прихватили свои чемоданчики и дали деру, проведя в этом отделении сорок девять лет на двоих.
Обе женщины в бюро находок за долгие годы знакомства бессчетное число раз угощали Артура Кэтнипа в благодарность за то, что он доставлял к ним находки. Некоторые его коллеги, устав от забытых вещей, давно грозивших завалить подземку, оставляли наименее подозрительные предметы там, где находили, в надежде, что их кто-нибудь украдет. Но Артур Кэтнип немедленно приносил все в бюро. Не только потому, что эти две дамы единственные во всем метрополитене благодарили его за стремление превратить лондонскую подземку в оплот британской славы, но еще и потому, что при мысли о посещении старейшего бюро находок на Бейкер-стрит в животе бывшего моряка что-то сладко сжималось, как будто он снова попал на корабль. Несколько месяцев назад он застал Валери Дженнингс с приклеенной театральной бородой, и это зрелище взволновало его сверх всякой меры. Оно сейчас же напомнило ему об удивительных бородатых женщинах, которых он повидал в походах по Тихому океану; он своими глазами видел, как одну такую женщину старейшины племени, потрясая копьями, спасали от хозяев цирка, вооруженных огромными сетями. Несомненное очарование подобных женщин заставляло аборигенов поклоняться им, будто божествам, и приносить им в дар самые крупные черепашьи яйца. Желтками они умащивали бороды, а белками натирали свои могучие тела с соблазнительными складками плоти.
Когда после одиннадцати лет супружества Артур Кэтнип случайно узнал, что его жена спит с его же контр-адмиралом, и его брак распался, он поклялся никогда больше не верить женщинам. Он уволился с флота прежде, чем ему предъявили обвинение за сломанную адмиральскую челюсть, и, не желая более смотреть на дневной свет, поступил на работу в Лондонское метро. Однако поразительное видение бородатой Валери Дженнингс породило в нем такое томление, что с того дня он неизменно являлся на работу, благоухая туалетной водой. С тех пор он больше ни разу не видел ее с бородой и в конце концов убедил себя, что это чудо ему привиделось. Но призрак бородатой Валери неотступно преследовал его на протяжении всего рабочего дня, пока он катался по викторианским тоннелям, высматривая безбилетников.
Билетный контролер, чьи руки так и не обрели мягкость, утраченную за годы вязания морских узлов, выложил на прилавок камелию, наручники, шестнадцать зонтиков, тринадцать мобильных телефонов и пять непарных носков. Он молча ждал, упираясь локтем в прилавок, пока Геба Джонс запишет все предметы в разные гроссбухи с загадочными перекрестными ссылками, которые она понимала непостижимым образом. Когда Геба закрыла последний том и поставила его на место, Артур Кэтнип поднял с пола неприметный синий рюкзак и опустил его на прилавок со словами: «Вот, чуть не забыл».
Геба Джонс, любопытство которой нисколько не уменьшилось за годы службы, расстегнула молнию и поднялась на цыпочки, чтобы заглянуть внутрь. Так и не поняв, что же там лежит, она сунула руку и достала пластиковый контейнер с крошками от бутерброда с рыбной пастой. Нащупав в рюкзаке что-то еще, она вытащила деревянную коробку с медной пластиной, на которой было выгравировано: «Клементина Перкинс, 1939–2008. RIP» [4]. Они с контролером в ужасе взирали на урну с прахом, стоявшую перед ними на прилавке.
После того как Артур Кэтнип ушел, негодуя вслух, как это вообще возможно — потерять человеческие останки, Геба Джонс занесла находку в реестр. Однако рука у нее дрожала так, что почерк уже нисколько не напоминал монашескую каллиграфию. Она отнесла находку на свой письменный стол и молча поставила на дневник жиголо. Однако ее мысли уже были далеко от деревянной коробки с медной пластиной. Геба думала о маленькой урне, которая стояла в дальнем углу гардероба в Соляной башне, и чувствовала себя так, будто в живот ей всадили нож.
Когда Гебе Джонс позвонили из похоронной конторы и сообщили, что останки Милона можно забрать, она уронила вазу с цветами, только что принесенными от преподобного Септимуса Дрю. Бальтазар Джонс смел осколки стекла с ковра в гостиной, снял ключи от машины с крючка на стене, и они поехали, погруженные каждый в свои мысли. Бальтазар Джонс не включал «In the Air Tonight» Фила Коллинза и не барабанил по рулю, пока они стояли в пробке, а на заднем сиденье не было того, кто всегда подыгрывал отцу в самых удачных местах. Супруги нарушили молчание, только когда приехали на место, однако ни один не произнес вслух, зачем они приехали, они лишь назвали фамилию. Секретарь продолжал смотреть на них выжидающе, и неловкая ситуация разрешилась только тогда, когда к ним вышел уполномоченный похоронного бюро. Новая неловкость возникла тут же, когда он поставил перед ними погребальную урну, которую никто из них не осмеливался взять.
Они вернулись в Соляную башню, а их все преследовал одуряющий запах белых лилий, он будто стелился за ними шлейфом, пока они поднимались по винтовой лестнице. Геба Джонс, которая, окаменев от горя, сжимала урну всю дорогу, поставила ее на кофейный столик рядом с казу [5] Милона и отправилась в кухню, где заварила три чашки чаю. Они сидели на диване, задыхаясь от тишины, а третья чашка стояла нетронутая на подносе, и ни один из них не нашел в себе силы взглянуть на предмет, рождавший у обоих тайное желание умереть. Спустя несколько дней Геба Джонс увидела, что урна стоит на их старинном камине. Еще через неделю она, не в силах больше на нее смотреть, переставила урну в шкаф, пока они не выберут место последнего упокоения Милона. Но каждый раз, когда кто-нибудь из них наконец об этом заговаривал, он заставал другого врасплох, и вопрос оставался нерешенным. Урна так и стояла в платяном шкафу, за свитерами Гебы Джонс. И каждый вечер, прежде чем погасить ночник, мать находила какой-нибудь предлог, чтобы открыть дверцы и мысленно пожелать сыну спокойной ночи, не в силах отказаться от ритуала, который был неизменным одиннадцать лет.
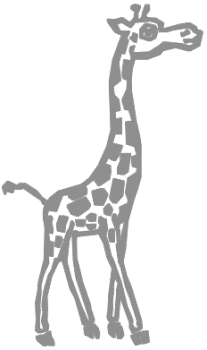
Геба Джонс включила электрический чайник, стоявший на сейфе, который никто так и не смог открыть с тех пор, как его обнаружили на Кольцевой линии пять лет назад. Заглянула в холодильник, служивший вечным предметом споров (чья очередь его мыть), достала пакет с молоком и поднесла к носу. Отыскала на нижней полке нечто, уже не поддававшееся опознанию, и, убедившись, что мерзкий запах исходит именно оттуда, налила в чашку молока. Дожидаясь, пока закипит вода, Геба Джонс, острее многих других сознававшая, как тяжело терять, с сожалением оглядывала кладбище забытых вещей, расположившихся на металлических стеллажах, покрытых саваном пыли.
Она прошла мимо длинного черного ящика, куда иллюзионисты укладывают своих переливающихся блестками ассистенток, чтобы распилить их пополам, и поставила чай на свой письменный стол. На столе лежало несколько предметов, прибывших последними, чьих владельцев она пыталась разыскать: чучело колибри под небольшим стеклянным колпаком, искусственный глаз, пара крошечных китайских туфель с острыми носами, расшитыми листьями лотоса, дневник жиголо, который она надеялась дочитать до конца, прежде чем его заберут, и маленькая коробочка, найденная в Альберт-холле, в которой якобы хранилась тестикула Адольфа Гитлера. На полке над столом выстроились в ряд выцветшие открытки со словами благодарности — доказательство того, что по природе человек вполне дружелюбен, хотя нередко об этом забывает.
Открыв ящик, она достала блокнот, надеясь, что в высшей степени благородное дело возвращения утраченной собственности ее легкомысленным владельцам отвлечет ее от собственных забот. Она прочла свои записи, сделанные в ходе поисков производителя искусственного глаза. Но мысли то и дело возвращались к мужу.
Она уловила запах вошедшей коллеги раньше, чем ее увидела. На соседний письменный стол приземлился еще теплый сэндвич с беконом, завернутый в пергаментную бумагу, — он опрокинул статуэтку «Оскара», которая дожидалась своего владельца уже два года восемь месяцев и двадцать семь дней. Геба Джонс считала ее подделкой, поскольку запросы, разосланные в актерские агентства, так и остались без ответа, но Валери Дженнингс твердо верила, что в один прекрасный день к ним зайдет Дастин Хоффман собственной персоной и спросит, не они ли нашли его «Оскара».
Годы разочарований, скрашенные лишь одиночными яркими победами, связали двух женщин крепкими узами, будто заключенных в одной камере. Они искренне радовались успехам друг друга и принимали близко к сердцу горечь поражений. Их работа состояла из взлетов и падений. Они обе просто не выносили моментов скуки, неизменно наступающих во время рабочего дня, зачастую с самого утра, когда им вручали тридцать девятую связку ключей. Именно тогда, когда они с нетерпением ждали появления чего-нибудь экзотического, или съедобного, или, если повезет, того и другого сразу. В особенно затяжные периоды уныния Геба Джонс находила утешение в ящике иллюзиониста, куда ложилась и лежала, закрыв глаза, а Валери Дженнингс, чьи поразительные объемы делали невозможным подобное удовольствие, развлекалась, примеряя театральные бороды и усы из ничейного ящика и с восторгом наблюдая в зеркале удивительные перевоплощения.
Обе женщины, которые раздражали друг друга словно сестры и точно так же друг друга любили, правили в бюро находок Лондонского метро с королевским достоинством, и лишь в минуты самой отчаянной тоски скатывались к стилистике грязнейшего из борделей. Их честность была абсолютна. Все, что передавали им работники метрополитена или добросердечные пассажиры, записывалось каллиграфическим монашеским почерком в хранимые в идеальном порядке гроссбухи. Единственное, что они забирали себе, — это скоропортящиеся продукты, которые по правилам все равно не позволялось держать больше суток, хотя втайне от начальства они и делали исключение для именинных тортов, волновавших не столько их вкусовые рецепторы, сколько сердца.
Женщины поздоровались с обыденным безразличием, ведь они проработали бок о бок больше десяти лет. Пока Геба Джонс поднимала над прилавком металлический ставень, издававший немилосердный визг, Валери Дженнингс осмотрела статуэтку «Оскара» на предмет повреждений, после чего поставила ее на ноги. Она уже собиралась приняться за свой сэндвич, как интуиция подсказала ей, что с ним что-то не в порядке, и она сняла верхний кусочек белого хлеба. Ее подозрения оправдались, и она обругала владельца грязной забегаловки — пройдоха не положил кетчуп. С достойной всяческих похвал надеждой на лучшее, которую она всегда проявляла, сталкиваясь с неприятностями, она спросила, нет ли у них в находках забытого кетчупа.
Швейцарский коровий колокольчик на двери звякнул раньше, чем Геба Джонс успела ответить. Она поднялась со своего места, чтобы Валери Дженнингс могла спокойно насладиться завтраком. По пути к прилавку она по конторской традиции попыталась открыть сейф. Но, несмотря на новую комбинацию цифр, серый стальной ящик остался надежно запертым.
Перед прилавком стоял, озабоченно морща лоб, постоянный клиент бюро находок Сэмюель Крэппер в своем неизменном коричневом вельветовом костюме и рубашке в синюю полоску. Далекий потомок знаменитого водопроводчика, имевшего множество патентов на свои изобретения, он получил лучшее частное образование, какое только можно обеспечить за деньги. Однако плата за учебу оказалась даже выше, чем думали родители. На переменах однокашники донимали Сэмюеля издевательскими шутками, от которых он заливался краской, а его мучители орали, что у него «прилив гордости». Сколько он ни уверял, что это все враки, что вовсе не Томас Крэппер изобрел сливной бачок, а сэр Джон Харрингтон, крестник королевы Елизаветы Первой, они при каждом удобном случае норовили ткнуть его носом в этот самый бачок. Он ненавидел воспоминания о травле в школе и, неосознанно стремясь компенсировать детскую травму, всегда покупал все в двух экземплярах. Вот только он упускал из виду, что потерять можно и дубликат.
Высокий, худой как палка, Сэмюель Крэппер смотрел на подходившую к нему Гебу Джонс, и с каждой секундой волнение его нарастало — он вдруг напрочь забыл, что же он потерял. Глядя в пол, он пытался пригладить волосы цвета охры, которые так и не восстановили утраченную в жестокие годы школьных мучений способность лежать ровно. Внезапно вспомнив наконец о своей пропаже, он улыбнулся, но улыбка тут же и угасла, когда он понял, что может уйти отсюда с пустыми руками.
— Вам, случайно, не приносили помидорный куст? — спросил он, поправляя очки в золотой оправе.
Это не просто помидор, продолжал объяснять он, это потомок одного из первых помидоров, прижившихся в Англии, достижение брадобрея Джона Джерарда в девяностые годы шестнадцатого века. Мистер Крэппер нашел редчайшие семена после нескольких лет напряженных поисков. Выросший куст оказался до того роскошным, что он решился представить его на выставке.
— К несчастью, вчера я забыл его на линии Пикадилли, когда ехал на выставку, — признался он. — Я запамятовал, что на самом деле выставка состоится сегодня днем.
— Подождите минутку, — ответила Геба Джонс, исчезая за дверью.
Через несколько минут она вернулась, неся перед собой горшок с пышным помидором, который молча поставила на прилавок с надписью: «Здесь не берут чаевые». Обойдясь без традиционной болтовни о том о сем, она попрощалась и снова ушла с необычной для нее поспешностью. А Сэмюель Крэппер радостно затопал прочь, прижимая горшок к своему вельветовому пиджаку, совершенно не заметив исчезновения четырех помидоров, которые Геба Джонс и Валери Дженнингс накануне употребили на сырные сэндвичи.
Когда Геба Джонс вернулась к столу, ее коллега исследовала недра холодильника, готовясь к одиннадцатичасовому перекусу, хотя до священного часа было еще довольно далеко. На эти волшебные пятнадцать минут ставень опускался, телефонные звонки оставались без ответа, и обе женщины заваривали «Леди Грей» в чашках из костяного фарфора, за которыми пока никто не пришел, угощаясь пирогом или тортом, принесенным Валери Дженнингс.
Ненасытный аппетит появился у Валери после того, как в один прекрасный день она пришла с работы, собираясь напомнить мужу, что сегодня у них годовщина свадьбы. Но ее ожидала отнюдь не ночь безудержной страсти, на которую она надеялась: муж оторвался от газеты и с безразличием юриста сообщил, что бросает ее. Он сказал, что их брак был ошибкой, но никто в этом не виноват. Валери Дженнингс была настолько потрясена, что позволила ему подать на развод. Спустя несколько месяцев после подписания всех бумаг, ей рассказали, что он женился на Карибах и на церемонии был босиком. Только тогда она сняла с каминной полки их свадебную фотографию и унесла ее на чердак вместе с фотоальбомом, видеть который ей было так же невыносимо.
Когда через несколько минут швейцарский коровий колокольчик снова зазвонил, к прилавку пошла Геба Джонс. Перед ней стоял Артур Кэтнип, билетный контролер лондонской подземки, человек небольшого роста, изрядно расплывшийся из-за пристрастия к плотным завтракам. За годы работы он научился распознавать «зайцев» за сто шагов. Эту способность породила интуиция, благодаря которой он за пятнадцать дней узнал и о грозившем ему тяжелом сердечном приступе. Тогда он взял отпуск и попытался пройти осмотр в ближайшей больнице, чтобы как следует подготовиться. Но там его, билетного контролера и любителя искусства татуировок, несмотря на протесты, отправили в психиатрическое отделение. Его пророческие предостережения были старательно записаны лысым как колено доктором, который в волнении предвкушал открытие нового вида безумия. Когда же сердечный приступ в конце концов случился, единственное, что спасло Артура Кэтнипа от обширного инфаркта, — это то, что кровь, вскипевшая от негодования в разгар беседы с врачом, пронеслась по закупоренной артерии с напором мустанга. Пока отделение наполнялось парами праведного гнева, двое пациентов, оказавшихся куда разумнее своих надсмотрщиков, решили, что миг настал, — прихватили свои чемоданчики и дали деру, проведя в этом отделении сорок девять лет на двоих.
Обе женщины в бюро находок за долгие годы знакомства бессчетное число раз угощали Артура Кэтнипа в благодарность за то, что он доставлял к ним находки. Некоторые его коллеги, устав от забытых вещей, давно грозивших завалить подземку, оставляли наименее подозрительные предметы там, где находили, в надежде, что их кто-нибудь украдет. Но Артур Кэтнип немедленно приносил все в бюро. Не только потому, что эти две дамы единственные во всем метрополитене благодарили его за стремление превратить лондонскую подземку в оплот британской славы, но еще и потому, что при мысли о посещении старейшего бюро находок на Бейкер-стрит в животе бывшего моряка что-то сладко сжималось, как будто он снова попал на корабль. Несколько месяцев назад он застал Валери Дженнингс с приклеенной театральной бородой, и это зрелище взволновало его сверх всякой меры. Оно сейчас же напомнило ему об удивительных бородатых женщинах, которых он повидал в походах по Тихому океану; он своими глазами видел, как одну такую женщину старейшины племени, потрясая копьями, спасали от хозяев цирка, вооруженных огромными сетями. Несомненное очарование подобных женщин заставляло аборигенов поклоняться им, будто божествам, и приносить им в дар самые крупные черепашьи яйца. Желтками они умащивали бороды, а белками натирали свои могучие тела с соблазнительными складками плоти.
Когда после одиннадцати лет супружества Артур Кэтнип случайно узнал, что его жена спит с его же контр-адмиралом, и его брак распался, он поклялся никогда больше не верить женщинам. Он уволился с флота прежде, чем ему предъявили обвинение за сломанную адмиральскую челюсть, и, не желая более смотреть на дневной свет, поступил на работу в Лондонское метро. Однако поразительное видение бородатой Валери Дженнингс породило в нем такое томление, что с того дня он неизменно являлся на работу, благоухая туалетной водой. С тех пор он больше ни разу не видел ее с бородой и в конце концов убедил себя, что это чудо ему привиделось. Но призрак бородатой Валери неотступно преследовал его на протяжении всего рабочего дня, пока он катался по викторианским тоннелям, высматривая безбилетников.
Билетный контролер, чьи руки так и не обрели мягкость, утраченную за годы вязания морских узлов, выложил на прилавок камелию, наручники, шестнадцать зонтиков, тринадцать мобильных телефонов и пять непарных носков. Он молча ждал, упираясь локтем в прилавок, пока Геба Джонс запишет все предметы в разные гроссбухи с загадочными перекрестными ссылками, которые она понимала непостижимым образом. Когда Геба закрыла последний том и поставила его на место, Артур Кэтнип поднял с пола неприметный синий рюкзак и опустил его на прилавок со словами: «Вот, чуть не забыл».
Геба Джонс, любопытство которой нисколько не уменьшилось за годы службы, расстегнула молнию и поднялась на цыпочки, чтобы заглянуть внутрь. Так и не поняв, что же там лежит, она сунула руку и достала пластиковый контейнер с крошками от бутерброда с рыбной пастой. Нащупав в рюкзаке что-то еще, она вытащила деревянную коробку с медной пластиной, на которой было выгравировано: «Клементина Перкинс, 1939–2008. RIP» [4]. Они с контролером в ужасе взирали на урну с прахом, стоявшую перед ними на прилавке.
После того как Артур Кэтнип ушел, негодуя вслух, как это вообще возможно — потерять человеческие останки, Геба Джонс занесла находку в реестр. Однако рука у нее дрожала так, что почерк уже нисколько не напоминал монашескую каллиграфию. Она отнесла находку на свой письменный стол и молча поставила на дневник жиголо. Однако ее мысли уже были далеко от деревянной коробки с медной пластиной. Геба думала о маленькой урне, которая стояла в дальнем углу гардероба в Соляной башне, и чувствовала себя так, будто в живот ей всадили нож.
Когда Гебе Джонс позвонили из похоронной конторы и сообщили, что останки Милона можно забрать, она уронила вазу с цветами, только что принесенными от преподобного Септимуса Дрю. Бальтазар Джонс смел осколки стекла с ковра в гостиной, снял ключи от машины с крючка на стене, и они поехали, погруженные каждый в свои мысли. Бальтазар Джонс не включал «In the Air Tonight» Фила Коллинза и не барабанил по рулю, пока они стояли в пробке, а на заднем сиденье не было того, кто всегда подыгрывал отцу в самых удачных местах. Супруги нарушили молчание, только когда приехали на место, однако ни один не произнес вслух, зачем они приехали, они лишь назвали фамилию. Секретарь продолжал смотреть на них выжидающе, и неловкая ситуация разрешилась только тогда, когда к ним вышел уполномоченный похоронного бюро. Новая неловкость возникла тут же, когда он поставил перед ними погребальную урну, которую никто из них не осмеливался взять.
Они вернулись в Соляную башню, а их все преследовал одуряющий запах белых лилий, он будто стелился за ними шлейфом, пока они поднимались по винтовой лестнице. Геба Джонс, которая, окаменев от горя, сжимала урну всю дорогу, поставила ее на кофейный столик рядом с казу [5] Милона и отправилась в кухню, где заварила три чашки чаю. Они сидели на диване, задыхаясь от тишины, а третья чашка стояла нетронутая на подносе, и ни один из них не нашел в себе силы взглянуть на предмет, рождавший у обоих тайное желание умереть. Спустя несколько дней Геба Джонс увидела, что урна стоит на их старинном камине. Еще через неделю она, не в силах больше на нее смотреть, переставила урну в шкаф, пока они не выберут место последнего упокоения Милона. Но каждый раз, когда кто-нибудь из них наконец об этом заговаривал, он заставал другого врасплох, и вопрос оставался нерешенным. Урна так и стояла в платяном шкафу, за свитерами Гебы Джонс. И каждый вечер, прежде чем погасить ночник, мать находила какой-нибудь предлог, чтобы открыть дверцы и мысленно пожелать сыну спокойной ночи, не в силах отказаться от ритуала, который был неизменным одиннадцать лет.
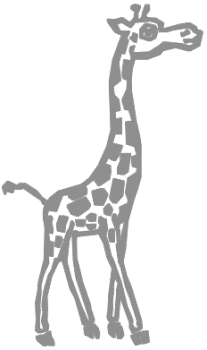
Глава четвертая
Бальтазар Джонс решил не рассказывать жене о визите королевского конюшего с роскошным зонтом, рассудив, что на это есть весьма веские причины. Когда через несколько дней черт знает в какую рань, в три тринадцать утра, Геба Джонс вдруг села на постели и спросила: «Так чего от тебя хотел человек из дворца?» — Бальтазар Джонс сквозь сон пробормотал, шумно вздыхая, что речь шла о крепостных стоках. Он тут же пожалел о своих словах. Геба Джонс не ложилась еще одиннадцать минут, высказывая все накопившиеся мысли о том, что историческое отхожее место было там, где у них туалет, поскольку чудовищный запах окаменевших испражнений, оставленных за века узниками замка, висит в доме, словно туман, и каждый раз, когда засоряются трубы, выясняется, что на них не распространяется действие королевских указов.
Бальтазар Джонс считал предложение Освина Филдинга безумным. Когда по вечерам крепость закрывалась для туристов, он усаживался на крепостной стене в полосатый шезлонг и, глядя в сгущающиеся сумерки, надеялся, что королевский энтузиазм по поводу зверинца как-нибудь сам собой поутихнет. Он, в отличие от жены, не страдал от врожденного ужаса перед зверями, но они его и не интересовали. Единственным исключением была Миссис Кук, но в семье Джонсов уже успели забыть о том, что она черепаха. Ее воспринимали скорее как страдающую недержанием престарелую родственницу, весьма склонную к уединению — эта привычка укоренилась в ней настолько, что никто неделями не замечал ее очередного исчезновения, поскольку у всех перед глазами еще стояла картина, как она степенно движется по комнате.
Только когда его вызвали в башню Байворд, бифитер осознал, что сделаться смотрителем королевских зверей ему даже выгодно. Он толкнул обитую гвоздями дверь кабинета и увидел главного стража, сидевшего за столом в холодной комнате с закругленными стенами, а его пальцы, мягкие и белые, как будто набальзамированные, были переплетены на животе. Главный страж с раздражением взглянул на часы, а затем указал бифитеру на стул. Бальтазар Джонс сел, положив на колено свою темно-синюю шляпу, держа ее поля обеими руками.
— Перейду сразу к делу, йомен Джонс, — проговорил главный страж, седая борода которого являла собой шедевр фигурной стрижки, наподобие тисового куста в регулярном дворцовом саду. — Охранять Тауэр и ловить профессиональных карманников — основная часть работы, ради которой тысячи отставных британских унтер-офицеров отдали бы зуб, если бы у них еще оставались зубы.
Он подался вперед и уперся в стол локтями.
— Вы были одним из лучших, когда поступили к нам, — продолжал он. — Я помню те времена, когда вы устроили на Тауэрском лугу настоящее регби, чтобы схватить вора. У него нашли пять украденных бумажников, если я правильно помню. Я знаю, что вам нелегко. Но время не стоит на месте. Мы не можем себе позволить слабое звено. Не забывайте о Крестьянском восстании, когда толпы головорезов штурмовали крепость.
— Это было в тысяча триста восемьдесят первом году, сэр.
— Я знаю, йомен Джонс. Суть в том, что Тауэр должен оставаться в сознании нации неуязвимым. Мы всегда должны быть начеку, а не глазеть по сторонам, любуясь природой.
Бифитер смотрел на бойницу за спиной у главного стража, припоминая тот последний раз, когда его вызывали в этот кабинет. Тогда главный страж даже поднялся из-за стола ему навстречу и попытался его утешить. «Я знаю, что вы сейчас чувствуете, — уверенно проговорил он. — Когда мы потеряли Салли, то жизнь наша опустела. Салли была удивительная. Одна из самых умных собак, какие только у нас были. Она прожила с нами девять лет. А сколько было вашему сыну?» — «Одиннадцать», — ответил Бальтазар Джонс. Потом он перевел взгляд на свои руки, а главный страж уставился в стол. В конце концов Бальтазар Джонс нарушил молчание, попросив дополнительные выходные, а главный страж ему в этом отказал на том основании, что трех дней на похороны вполне достаточно. В тот раз Бальтазар Джонс вышел отсюда и зашагал по крепостной стене, пытаясь отыскать хоть какую-то причину, чтобы жить дальше.
Бальтазар Джонс считал предложение Освина Филдинга безумным. Когда по вечерам крепость закрывалась для туристов, он усаживался на крепостной стене в полосатый шезлонг и, глядя в сгущающиеся сумерки, надеялся, что королевский энтузиазм по поводу зверинца как-нибудь сам собой поутихнет. Он, в отличие от жены, не страдал от врожденного ужаса перед зверями, но они его и не интересовали. Единственным исключением была Миссис Кук, но в семье Джонсов уже успели забыть о том, что она черепаха. Ее воспринимали скорее как страдающую недержанием престарелую родственницу, весьма склонную к уединению — эта привычка укоренилась в ней настолько, что никто неделями не замечал ее очередного исчезновения, поскольку у всех перед глазами еще стояла картина, как она степенно движется по комнате.
Только когда его вызвали в башню Байворд, бифитер осознал, что сделаться смотрителем королевских зверей ему даже выгодно. Он толкнул обитую гвоздями дверь кабинета и увидел главного стража, сидевшего за столом в холодной комнате с закругленными стенами, а его пальцы, мягкие и белые, как будто набальзамированные, были переплетены на животе. Главный страж с раздражением взглянул на часы, а затем указал бифитеру на стул. Бальтазар Джонс сел, положив на колено свою темно-синюю шляпу, держа ее поля обеими руками.
— Перейду сразу к делу, йомен Джонс, — проговорил главный страж, седая борода которого являла собой шедевр фигурной стрижки, наподобие тисового куста в регулярном дворцовом саду. — Охранять Тауэр и ловить профессиональных карманников — основная часть работы, ради которой тысячи отставных британских унтер-офицеров отдали бы зуб, если бы у них еще оставались зубы.
Он подался вперед и уперся в стол локтями.
— Вы были одним из лучших, когда поступили к нам, — продолжал он. — Я помню те времена, когда вы устроили на Тауэрском лугу настоящее регби, чтобы схватить вора. У него нашли пять украденных бумажников, если я правильно помню. Я знаю, что вам нелегко. Но время не стоит на месте. Мы не можем себе позволить слабое звено. Не забывайте о Крестьянском восстании, когда толпы головорезов штурмовали крепость.
— Это было в тысяча триста восемьдесят первом году, сэр.
— Я знаю, йомен Джонс. Суть в том, что Тауэр должен оставаться в сознании нации неуязвимым. Мы всегда должны быть начеку, а не глазеть по сторонам, любуясь природой.
Бифитер смотрел на бойницу за спиной у главного стража, припоминая тот последний раз, когда его вызывали в этот кабинет. Тогда главный страж даже поднялся из-за стола ему навстречу и попытался его утешить. «Я знаю, что вы сейчас чувствуете, — уверенно проговорил он. — Когда мы потеряли Салли, то жизнь наша опустела. Салли была удивительная. Одна из самых умных собак, какие только у нас были. Она прожила с нами девять лет. А сколько было вашему сыну?» — «Одиннадцать», — ответил Бальтазар Джонс. Потом он перевел взгляд на свои руки, а главный страж уставился в стол. В конце концов Бальтазар Джонс нарушил молчание, попросив дополнительные выходные, а главный страж ему в этом отказал на том основании, что трех дней на похороны вполне достаточно. В тот раз Бальтазар Джонс вышел отсюда и зашагал по крепостной стене, пытаясь отыскать хоть какую-то причину, чтобы жить дальше.
