Страница:
слагаются в слова,
идущие про женщину
знакомую едва?
Зачем всё собирается
и, скручиваясь в нить,
старается, петляя,
тебя одну избыть?
Ведь я подвластен времени,
и в зимних поездах
я видел белой темени
планирующий прах.
Казалось, отвязалось
и кубарем стремглав
под насыпь проплясало
из сердца да из глаз.
Зачем же, не тоскуя,
вхожу в небывший миг,
где вечность поцелуя
слетает на язык?
Ожидается смех, страсть и холод
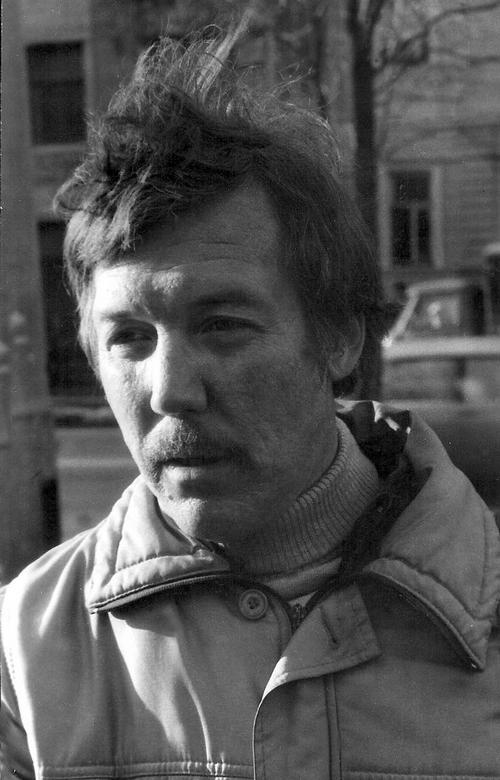
«Полузащитник Бабингтон…»
«Но не настолько умер я…»
«Когда-нибудь приходит смерть…»
«И кинула: Звони! – Зачем?..»
«Твои горящие глаза…»
«Любовник должен быть смешон…»
«Тот хрусталь, который ты дала…»
«Поэт не может поумнеть…»
«Стихи – предлог для танцев…»
«А ведь и вправду мы умрем…»
«Все проходит. Постепенно…»
«Стареющее – слов придаток…»
«Утрата ветки и утрата…»
«Мужчина, легендарный, как истерика…»
«Клекот, пепел, лай ворон…»
«Бесконечна, безначальна…»
«Усталость говорит мне о любви…»
«Не приведи, Господь, опять…»
«Гул размашистый и гомон …»
«Кому смешно, кому совсем не нужно…»
«Синим утром, серым утром…»
«Поэты не подвержены проказе…»
«Нет, не белая луна…»
«Не прикасайся…»
«Я доволен белым снегом…»
«Нарушил девушку заезжий конокрад…»
«Какая легкость в этом крике…»
«Когда пьешь в одиночку…»
«Рано светлая любовь…»
«Страшно жить отцеубийце…»
«Перед Богом все равны…»
«Ты пришел. Мы подняли руки – сдаемся…»
«Скажи мне кошечка…»
«Ожидается смех, страсть и холод…»
идущие про женщину
знакомую едва?
Зачем всё собирается
и, скручиваясь в нить,
старается, петляя,
тебя одну избыть?
Ведь я подвластен времени,
и в зимних поездах
я видел белой темени
планирующий прах.
Казалось, отвязалось
и кубарем стремглав
под насыпь проплясало
из сердца да из глаз.
Зачем же, не тоскуя,
вхожу в небывший миг,
где вечность поцелуя
слетает на язык?
15.
За то, что день настолько мил,
за то, что ночь полна
наружу вылезших светил
нам на глаза со дна,
с такого дна, которое
не выщупать – смешно,
что мы войдем в историю,
упав на это дно —
так вот за то, что есть еще
возможность не влипать,
уже объявленный щелчок
попридержи опять,
дай право жить и право быть
счастливым собеседником
и не пиши меня в рабы
ни первым, ни последним.
Вести себя как господин,
вообще пристало ль Богу?
Мне, кажется, что я один
и не спешу как блудный сын
в обратную дорогу.
16.
Между 1976 и 1977
Не дли трагический надрыв,
не обольщайся рваным краем,
душа моя, сопи, играя,
попрыгивая через рвы.
Повизгивая от тоски,
своей обидою дурачась,
чего ты так серьезно плачешь,
чего ты колешься в куски?
Не соглашайся и судись.
Кому нужна твоя растрава? —
взыскующий паяц пространства,
весь мир на полдень полон птиц.
Он время, кой-где подогнув,
теперь укладывает лихо.
Дуреха, не хватает мига —
и можно будет отдохнуть.
Но ты и тут не согласись,
тычь пальцем и не прерывай:
поставила? – давай играй
на этот мир, на эту жизнь.
А поезд, город – только блажь,
как сшибся конь за шаткой стенкой,
как надоумилась студентка
повольничать через соблазн.
Ожидается смех, страсть и холод
Стихи 1973–1984 годов
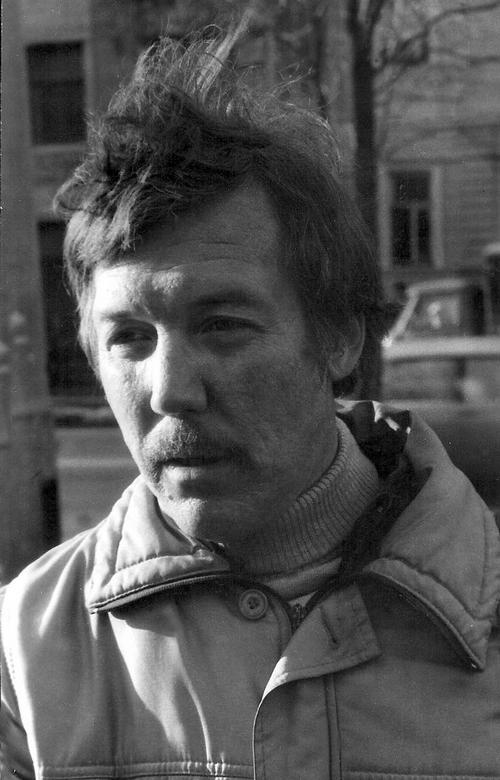
«Полузащитник Бабингтон…»
Полузащитник Бабингтон
возникший средь славянских штудий
и та, в кого я был влюблен
и та, в кого еще я буду
К отлету страдная пора
и так не хочется прощаться
хоть не секрет, что со вчера
готова смена декораций.
И так не совладать с собой
за что, твержу, за что мурыжат,
за что усталость, как любовь
кошачьим воплем рвется с крыши.
И так весталка хороша
жеманница, лиса, Елена,
что я зажмурясь, не дыша
стреляю в яблочко с колена.
Но не забыть, что и поныне
под Изабеллою Перон,
живет в далекой Аргентине
полузащитник Бабингтон.
«Но не настолько умер я…»
Но не настолько умер я,
чтоб как щенок кудрявый
от своего житья-бытья
бежать за легкой славой.
И не настолько здрав и бодр
толкаю двери в старость,
чтобы себе наперекор
прожить то, что осталось.
Я ленту нежную люблю,
забытую на ставнях,
и я скорее перепью,
чем что-нибудь оставлю.
Не зря мы свиделись, не зря
пустынною любовью
и ты забудь, что умер я,
я проживу тобою.
«Когда-нибудь приходит смерть…»
Когда-нибудь приходит смерть
и в нашу комнату и в нашу
заправленную салом кашу
и сердцу тукнуть – не посметь.
Тай, тай душа, гнилой весною
валясь в блестящие глаза,
я только и хотел сказать,
что сердце все еще со мною.
И ты, мой ангел голубой,
пришедши губ моих отведай
и смертоносною победой
посмейся над самой собой.
«И кинула: Звони! – Зачем?..»
И кинула: Звони! – Зачем?
мне только бы успеть на пересадку,
я призрачен и без остатку
весь умещусь на собственном плече.
Напевный холод одиночества
опять к себе меня влечет.
Монахов вечное отрочество
как незаслуженный почет.
Густея болью и тревогой,
дорога зыбкою рекой
протянута от нас до Бога
и кинула – Звони! – На кой?
Я так спешил на пересадку,
прыжком срезая переход,
роняя драгоценный лед,
голубоватую оглядку.
«Твои горящие глаза…»
Твои горящие глаза,
моя бесцветная усталость
вдвоем уходят в небеса.
Что с нами сталось? Нам осталось
через плечо прокинуть взгляд
и врозь, пока жиреет сумрак,
податься неспеша назад
и доживать, ополоумев,
и доходягой в высоту,
не глядя прыснуть с разворота,
хотя еще горчит во рту
невычищенная забота,
и дух мой слабый и немой
заклинило в плечах усталых,
и повторяю: Боже мой,
что с нами сталось, нам осталось?
«Любовник должен быть смешон…»
Любовник должен быть смешон,
смешон и не настойчив,
затем, чтоб оглянулся он,
не доходя до точки.
Не доходя, душой в кусты,
а головою в плечи,
он две минуты суеты,
слиняв, сменял на вечность.
Любовник должен быть смешным
и в общем равнодушным
к тому, что женщине с другим
достойнее и лучше.
И рук, и губ посторонясь
с холодною опаской,
и так он полон про запас
одной скользящей лаской.
Но поутру, взлетевши вверх,
уже в небесной смуте
он дал бы жизнь и дал бы смерть
за эти две минуты.
«Тот хрусталь, который ты дала…»
Тот хрусталь, который ты дала,
понадеявшись и глянув со значеньем
за спину мою, где два крыла
на асфальт отбрасывали тени,
я потом с одежды собирал,
тряс в ладони и ловил по звуку,
будто бы играя жал и жал
тонкую натасканную руку.
И ничем не выдам то, что мне
съобезъянничав пошла навстречу
женщина, которой нет дурней
с тонкою натасканною речью.
Нет дурней ее и нет сильней
и печальней нашего союза.
Женщина на облачной волне —
легкая моя, благая Муза.
Потому-то ворох за спиной
не прими за ангельские крылья —
я оброс той облачной волной,
в милый час она меня прикрыла.
И меня ограбить и продать
ни одна моя любовь не сможет —
то, что было, я уже отдал,
то, что будет, я вперед ей должен.
«Поэт не может поумнеть…»
Поэт не может поумнеть,
поэт способен только
вымаливать учуяв смерть
одежду и застолье
у Бога или у властей,
у предков, у потомков,
у собственных своих страстей
вымаливать – и только.
Равно у тех, кто навзничь лег,
у тех, кто стал за правду,
нежирный попросить кусок,
в душе боясь: отравят.
Так сунь поэту на обед
и что-нибудь из платья,
а то что жил он как поэт,
так он за все заплатит.
«Стихи – предлог для танцев…»
Стихи – предлог для танцев,
и горечь и любовь
один зевок пространства
для легких каблуков.
Легчайшее насилье —
над розоватой мглой
стекают шапкой крылья
расправленные мной.
Туманы околесиц
на городской черте —
пролеты легких лестниц
означенных вчерне.
На самый легкий воздух
душа моя взбежит,
и рано или поздно
я слягу без души,
возьму в свои разлуки
одну навек одну,
и протяну я руки,
а ног не протяну.
«А ведь и вправду мы умрем…»
А ведь и вправду мы умрем,
тогда… тогда что будет с нами?
По одному, вдвоем, втроем
мы пролетим под облаками.
Ты – каждая, а я – никто.
И что все это означает?
И поддувает полотно,
захлопавшее над плечами.
Сжимает кратко и легко
и в пальцах скручивает туго,
и мы летим одним комком,
щелчком направленные в угол.
«Все проходит. Постепенно…»
Все проходит. Постепенно
даже воля и судьба
чествуют согласным пеньем
белопенную тебя.
Что настанет, что устанет
и совсем сойдет на нет,
что, перелистнув, оставит
в розовом шкафу студент.
На зеленые поляны
кучки снега побросав,
осень вдруг ушла туманом
с головою в небеса.
Но на протяженьи взгляда
три-четыре в пустоте
дерева почти что рядом.
Ты нигде. И я нигде.
«Стареющее – слов придаток…»
Стареющее – слов придаток —
пустое чувство бытия,
подверженное звездным датам,
крестам надзвездного литья,
прочерченное и размыто
едва заметное вдали,
к какому новому открытью
мы в зябкой немоте пришли?
Вне тайного немого глаза,
помимо клятого труда
упущенное и несказанное
непрожитое навсегда.
«Утрата ветки и утрата…»
Утрата ветки и утрата
возможности иного мира
соизмеримы неразъято,
нерасчленимо обозримы.
Душа, подвластная любому
и слову, и сто раз на дню
обменом нажитому дому,
и дом подъевшему огню,
не может из своей неволи
смолчать от скорби и от смысла —
ей лишь бы боли и любови
набрать на плечи коромысла.
«Мужчина, легендарный, как истерика…»
Мужчина, легендарный, как истерика,
вдруг не в свою квартиру погружен.
Он одинокой женщиной рожден
и на нее надет как бижутерия.
Она его вздымает над столом
и кормит грудью и ласкает ягодицами,
натасканными пальцами кичится
и на живот сочится языком,
а он сучит ладонями лицо,
опустошенный, опушенный пеплом,
он жадно ест, чтобы душа ослепла,
грудь замерла и сердце растеклось.
Ему являются в прекрасной тишине
любовь к нелюбящим и нежность к одиноким,
законы с Запада и свет с Востока,
возможность жить и лампа на окне.
«Клекот, пепел, лай ворон…»
Клекот, пепел, лай ворон,
– как отрывиста земля! —
из веселых похорон
возвращался пьяный я.
И, психованно мутясь,
выбегал из разных комнат
жалкий князь, но все же князь,
о котором мы не помним.
Он когда-то вел полки
и на самой верхней полке
полон самой злой тоски,
самой черной скуки полон.
Шел я недоумевал,
шел и кашлял, шел – качался,
кругом шла и голова
без конца и без начала.
Полон немощи сухой
рядом прыгал князь-воитель.
Беззаботно и легко
я в гробу все это видел.
Две пол-литры, разговор,
вечный памяти объездчик
расчихвостил на пробор
зачехленные объедки
и живу не гоношась,
вспоминаю да тасую,
так что прыснул сбоку князь
в мою голову косую.
«Бесконечна, безначальна…»
Бесконечна, безначальна
ты живешь одна в печали,
мир прошедший пьешь из чашки
потихоньку, понаслышке
и листаешь злые книжки
и заветные бумажки.
Ты пророчишь и хохочешь,
ты хихикаешь и прячешь
столь прославленную пряжу
столь прославленною ночью,
безначальна, бесконечна,
мной прохожим покалечена.
Ведьма, ты скажи, что ведаешь,
злыдня, ты скажи, зачем
желтой постаревшей Ледою
ты, пока я тут обедаю,
виснешь на моем плече
и вообще..?
«Усталость говорит мне о любви…»
Усталость говорит мне о любви
побольше, чем покой и крики.
Пусть счастья нет, но рождена великой
не на земле, но для земли
усталая любовь. Дома перед закатом
так терпеливо берегут людей,
что позавидуешь: какой удел
дал Бог таким позорным хатам.
И сам-то рыло трешь, когда
после всего ко сну потянет,
когда на мир, на всё небесной манной
усталая любовь ложится без стыда.
«Не приведи, Господь, опять…»
Не приведи, Господь, опять
позариться на чьи-то чресла.
Мне даже тяжести небесной
хватило потом провонять.
Весна дебелой синевой
на рыжий сумрак навалилась,
и холмик из-под тала вылез
лысеющею головой.
Душа, умерь привычный голод
и жизнь не почитай за честь.
Есть мир и в том, что ты расколот
и будешь впредь такой, как есть.
«Гул размашистый и гомон …»
Гул размашистый и гомон —
маятник. Туда-сюда
ходит жизнь. Одно к другому:
холода и суета.
Пуст мой день. В судах от пыла —
дай Бог! – не вспотеем мы.
Лишь на память от светила
тени на стену тюрьмы.
Положившая предел
всякому, кто знает меру,
уводящая от дел
всякого в свою пещеру
от прославленной, от той,
где от сырости завелся
я, фея легкая с косой
за спиной или в руках,
посиди со мной без пользы,
помолчи со мной впотьмах.
«Кому смешно, кому совсем не нужно…»
Кому смешно, кому совсем не нужно.
Великим множеством душа моя полна,
и, будто черноморская волна,
любая точка в ней гудит натужно.
Картонные не глядя брось круги,
раскрась оставшиеся лунки,
и станут звезды-недоумки
топорщить рваные куски.
Слизнем и повторим посев
еще, пока в полях событий
два-три бугра и пару рытвин
не вычленим почти у всех.
О как прекрасно и остро
внезапно сказанное слово,
чтоб в мире стало в меру ново
и в меру жестко и старо,
но, складывая меры слов,
обмолвки и недоговорки,
на те же дыры и пригорки
напоремся в конце концов.
Жжет обоюдная вина,
и множество зудящих точек
вот-вот и выпростают почки —
настанет ражая весна.
Я все договорил, доплакал,
собрал картонные круги,
кому-то не подал руки —
промазал. И промазал лаком.
«Синим утром, серым утром…»
Синим утром, серым утром
летом или же зимой
глупо это или мудро —
из дому иду домой.
Я не замечаю часто
этого, того ли дня.
Чувство города и часа
ускользает от меня.
Небо слепо и пушисто,
строчки точек надо мной.
В воздухе пустом и чистом
галка – буквой прописной,
воробья совсем немного
и помечена земля
ласточкой – заметкой Бога,
сделанною на полях.
И не просто станет просто,
если жизнь моя прошла,—
разрешатся все вопросы,
завершатся все дела.
В синем небе, в небе сером —
не оплакивай меня! —
воздается полной мерой
чувство города и дня.
«Поэты не подвержены проказе…»
Поэты не подвержены проказе,
простуде, проституции и просто
они имеют это зараз,
когда родятся,
они начерпывают пригоршней коросту,
когда потянет почесаться сзади.
…и пепел падал на рубашку…
Страшная история. Поистине мы не умеем жить.
Когда он снял бабешку
на набережной, шасть и шип
раздались за спиной. Шесть тысяч пар
ленивых глаз не повернули звезды,
и ветер наносил удар
морозный
за ударом. Он знал, что запаршивел и набряк.
За молом ничего не различая,
какой-то плеск и блеск в начале ноября,
он видел, рвут ночующие чайки.
Будучи никем, ничем
и злясь на это, от этого и посвежел,
и словно белый ком он разрывал плечом
нависшее воздушное желе.
…и пепел падал на рубашку…
Ему хотелось. Что ему хотелось?
Ключ, луч, колода, лодка, ложка, башли,
калоша, ложь, проласканное тело
не глядя. Наливался день гранатой
и разрывался трещиной.
Так сеть любовной ярости по надобности
вылавливает женщину.
Мы не решаем ничего.
А если непокорны,
тогда плевок. Люби плевок,
а то сдерут со шкурой.
… и думал он. Так думал он,
отряхивал рубашку
и затаен, и затемнен,
ключи, колоду, карту, бабушку.
О, след в ночи! О, холод – холм,
ты надо мной. Который? Спорый
игрок заваливает норы,
все входы-выходы замел.
Нет сил по чину расставлять
ля, си, до, ре,
нам так и погибать в норе,
нет входа-выхода. Сопля
свисает, бьется на ветру
от холода. Куда? Умрем.
И ходит розоватый холм —
когда-нибудь – куда? – умру.
Не напитаться звездной кашей,
не жить оружьем суматохи,
о, помощнее дай, Бог, ноги
в такой плохой, в такой ненашей
жизни. О, след в ночи! Разве,
ну, никак, никак нам с Тобой?
А мне – этот холодный праздник?
Что мне? Так и любой.
Так думал он. А я не думал,
ноги зябкие разул.
Я бабешку не снимал,
я не делал сунул —
вынул. Честно лег и враз заснул,
вовсе не сходя с ума.
От прекрасных красных грез
я лежу балдею, рдею.
Кровь моя – казюк с евреем,
боль моя дороже роз.
На щеках моих щетинистых
кровь моя дороже роз,
горечь благородных лоз
плещется в глазах общинных.
Я живу не сам собой:
рядом, скрыт от орд монголчьих,
рвется, сука, из-под толщи,
из-под толщи голубой
Китеж, Китеж.
Посмотрите ж,
как я расцветаю
в стаю
окружающих друзей
разносоставных кровей.
Вот колонной с переломом
с пушкин-гогольских бульваров
выливаются на набережную то ли Владик Гимпелевич,
то ли Женя Афанасьев,
то ли Люфа, то ли кто.
О, колонна забубена,
крытая ноябрьским варом,
управления Минздрава, отделения финансов,
геооползенькустов.
Нельзя сказать. Все остается втуне.
Безблагодатен выспался в день именин.
Плыви мой член. О, где мой член потонет
в день именин не изменен.
Поэты не подвержены тому,
о чем он думал, потому что сразу
они имеют всякую заразу.
Того – вот так! а это – не поймут.
«Нет, не белая луна…»
Нет, не белая луна,
не молочный цвет разлуки,
а твоя рука – вина,
что мои ослабли руки;
и не голос крови злой,
и не добрый голос крови,
что оставил я весло
ради сладкого присловья.
Нет, не белая луна,
не судьба, не голос крови —
ходит медленной любовью
головы моей волна.
«Не прикасайся…»
Не прикасайся —
дым рассеешь,
отчаянье в душе поселишь,
а так —
все обойдется может статься.
Не прикасайся.
Молчание – венок,
отчаянье – колпак.
Здесь твой, а там чужой порог.
С чего, скажи, прийти заботам
грести не ко своим воротам?
Но как стрела запущен впрок,
лети трагической ошибкой,
чтоб в общем немощный и гибкий
ты постепенно изнемог.
И будет так легко, Мария,
как будто свежее письмо
пришло на завтрак вместе с хлебом,
а утро отдает зимой,
а Марфа говорит: «умри я —
я стану небом».
«Я доволен белым снегом…»
Я доволен белым снегом,
карканьем ворон,
легкой водкой у ворот
на двоих с калекой.
Обстоятельно смеясь,
заскочивший вдруг,
мне рассказывает друг
путаную связь.
И не в радость, и не в грусть,
не здоров, не болен
выпью и доволен
тем, что жив и пуст.
«Нарушил девушку заезжий конокрад…»
Нарушил девушку заезжий конокрад,
перевернулось небо над Тамбовом,
кому-то повезло, и он подряд
в который раз на всем готовом.
Луна плывет. Рождается душа.
Не уследишь за нитью разговора.
Что с нами будет, если не дышать,
не путать жизнь, не ввязываться в споры?
Брось этот стих. Какой еще бедой
ты не связал себя? Иди отсюда.
Кому-то повезло, а нам с тобой
не много жить на сданную посуду.
«Какая легкость в этом крике…»
Какая легкость в этом крике!
Туманный кашель, мелкий скрип —
и все, что кажется великим —
улыбка на устах у рыб.
Пяток участий торопливых —
я улыбаюсь, руку жму —
и просыпаешься счастливым,
не понимая почему.
В оркестре мертвенные звоны,
троллейбусы и тишина,
а на опушке отдаленной
упругая растет жена.
О, лес крутой, о, лес начальный!
Полуопавшая листва
не притомит, не опечалит,
а только золотит слова.
Прощай. Я тут по уговору,
а вы: мой брат, моя сестра
с утра на огненную гору
свалили тихо со двора.
«Когда пьешь в одиночку…»
Когда пьешь в одиночку
сбегаются все мертвецы,
когда пьешь в одиночку,
будто двигаешь тачку,
ветер поверху низом проходят отцы
когда пьешь в одиночку
сбегаются в точку.
«Рано светлая любовь…»
Рано светлая любовь
спелым облаком предстала,
рано хлынула сначала,
рано и потом насквозь
обувь промочила, шилом
по подошвам щекотала,
рано насморком сначала
хлынула, глаза слезила,
мыкалась, звала скотом.
И зачем соединила
непричемное потом
с тем, что было, с тем, что сплыло?
«Страшно жить отцеубийце…»
Страшно жить отцеубийце
непослушны руки брюки
мир как праздник вороват
добр, но как-то очень хитр
тороват, но как-то вбок
страшно жить отцеубийце
все кругом играют в лицах
весь души его клубок.
Ах, кому по полной мере,
а кому ее по пол,
ну, а кто до отчей двери
сам по воле не пошел.
Обернись душа нагая
бесноватая душа
вот такая же шагает
загибается крошась.
«Перед Богом все равны…»
Перед Богом все равны
почему я восхищаюсь этой песней
перед Богом все равны
мальчик строит города из-под волны
мы глядим, поскольку это интересно.
Свете тихий, свет твой тихий разметал
шаровой, упругий, теплый, строгий
тот, что призрак, и свистит в ушах металл
и стрекочет мастурбатор у дороги
в голубой дали вселенной ноют ноги —
это свет твой мое тело разметал.
Показавшему нам свет поем и руки
воздымаем, опускаем, воздымаем
в шаровом упругом теплом строгом,
где полно богов, – одни лишь стуки
шорохи и мороки, и боком
мы проходим, ничего не различаем
показавшему нам свет поем и лаем
сытым лаем говорим друг с другом.
«Ты пришел. Мы подняли руки – сдаемся…»
Ты пришел. Мы подняли руки – сдаемся.
Ты запел. У нас опустились руки.
Свете тихий, как мы поймем друг друга
и – ну, как мы споемся?
А тем более жить без надежды с надеждой
без Тебя утверждать, что Ты
здесь до скончания пустоты
тот же там, ныне и прежде.
Изменяется млея и мается
распадается на куски
даже самая малая малость
растекается из-под пальцев.
Сунул нам пустоту в кулаки
вынул чувств золотой отпечаток
шарового упругого строгого
в одиночество на дорогах
разбросал в тоске и печали
мы повесили арфы на вербы
мы подняли звезды на елки
положили зубы на полки
нежелезные наши нервы.
Ты пришел. Мы подняли руки – да.
Ты запел и мы опустили.
Свете тихий, где мы очутились
кровь вечернего света видна.
«Скажи мне кошечка…»
Скажи мне кошечка
каким концом
тебя задеть
Скажи мне лисанька
зачем хвостом
ты заметаешь след
Скажи мне ласточка
я обратился в слух
исчезли нос и рот и волосы
исчезло тело нету ног и рук
Скажи мне ласточка
своим трухлявым голосом
куда куда куда куда
вы все нетронутые
линяете смываетесь удар
не нанести и пар костей не ломит
в конце концов ушли
но не взорвали дом и в угол не нагадили
Скажи мне кошечка
тебе ль на край земли
мы продаем руду и покупаем склады
мы продаем ежеминутное тепло
и покупаем память
мы лисаньку сквозь тусклое стекло
глазами провожаем
и значит
Скажи мне лисанька
мы виноваты мы
багровые бессильные нагие
и надобно решать самим
покинет нас любовь или чего подкинет
Скажи мне ласточка
я слух я только слух
прошел и им живет на час
твой тесный и сварливый круг
кружась в котором жизнь зажглась
улетела
села рядом
на скале
тело мое тело
стало платой
я верну его земле
в срок
Скажи мне ласточка
Скажи мне лисанька
Скажи мне кошечка
что я сам сказать не смог
«Ожидается смех, страсть и холод…»
Ожидаются смех, страсть и холод,
ожидаются лица неизвестные и известные,
ожидается некий как бы сколок
с того, что уже наносили вёсны.
Так в разговорах о близком будущем
мы остаемся беспомощны и одеты,
подозревая друг в друге чудище
и даже уповая на это,
потому что всё вокруг
так скулит и сердце гложет,
потому что самый друг
весь насквозь проелся ложью
так, что не может быть благого
теплого жилья-былья.
На оболганное слово
светы тихие лия,
огонек напольной лампы
не взыграет за щелчком —
будут только ели лапы
щедро пудрить за окном,
и богатая причинность
