Страница:
После знакомства с работами Гойи безмерно подавленный Пабло спустился на первый этаж, где обнаружил зал с картинами фламандских мастеров XV и XVI веков. Среди них был выставлен причудливый протосюрреалистический шедевр Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». Правда, после ужасных образов Гойи Пабло на время утерял аппетит к деталям, и поспешил в следующий зал, полный одухотворенных работ художника XIV века Эль Греко – грека, который жил и работал в Толедо.
Пабло был зачарован работами Эль Греко, его мистическими персонажами и удлиненными формами. Манера, в которой художник писал свои картины, поражала публику, привыкшую к строгой репрезентативности образов. На стенах Прадо были представлены два величайших полотна Эль Греко – «Воскресение» и «Поклонение пастухов». Эти картины, в которых своеобразие стиля художника отразилось особенно ярко, тронули Пабло до глубины души.
Картины Эль Греко, Гойи и других живописцев продолжали действовать на воображение Пабло на протяжении всей его жизни, и он постоянно использовал эти произведения, вводя их элементы в собственные работы. Он регулярно посещал Прадо и там копировал картины, делал с них наброски. Особенно часто он обращался к «Портрету матадора Пепе Илло» и офорту Гойи из серии «Капричос» под названием «Он хорошо натянут» с изображением Селестины, глядящей на чулки молодой чувственной махи.
Пабло напряженно работал, но весной 1898 года почувствовал, что заболел: зима была суровой, и он все время мерз в нетопленом Прадо. Молодой художник отправился поправлять здоровье в каталонскую деревню Хорта-де-Эбро.
Когда в начале 1899 года Пабло вернулся в Барселону, он ощутил, что, хлебнув лишений, наконец стал настоящим живописцем. Живя в одиночестве в деревне, он научился рассчитывать только на себя самого, спать на открытом воздухе, питаться чем попало. Там он выучил каталонский язык и стал довольно бегло на нем говорить.
Спустя два месяца, строго следуя своим принципам, Пабло решил покончить со школой. Он противился планам отца, который хотел по-прежнему наблюдать за его обучением. Хосе, узнав о решении Пабло, разозлился. Он не скрывал своего отношения к поведению сына, но тот был непреклонен. Открыто отклоняя отцовское давление, Пабло стал использовать фамилию матери – Пикассо. Некоторые работы того времени он подписывал «П. Р. Пикассо», а к концу 1901 года совершенно отказался от имени отца.
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Пабло был зачарован работами Эль Греко, его мистическими персонажами и удлиненными формами. Манера, в которой художник писал свои картины, поражала публику, привыкшую к строгой репрезентативности образов. На стенах Прадо были представлены два величайших полотна Эль Греко – «Воскресение» и «Поклонение пастухов». Эти картины, в которых своеобразие стиля художника отразилось особенно ярко, тронули Пабло до глубины души.
Картины Эль Греко, Гойи и других живописцев продолжали действовать на воображение Пабло на протяжении всей его жизни, и он постоянно использовал эти произведения, вводя их элементы в собственные работы. Он регулярно посещал Прадо и там копировал картины, делал с них наброски. Особенно часто он обращался к «Портрету матадора Пепе Илло» и офорту Гойи из серии «Капричос» под названием «Он хорошо натянут» с изображением Селестины, глядящей на чулки молодой чувственной махи.
Пабло напряженно работал, но весной 1898 года почувствовал, что заболел: зима была суровой, и он все время мерз в нетопленом Прадо. Молодой художник отправился поправлять здоровье в каталонскую деревню Хорта-де-Эбро.
Когда в начале 1899 года Пабло вернулся в Барселону, он ощутил, что, хлебнув лишений, наконец стал настоящим живописцем. Живя в одиночестве в деревне, он научился рассчитывать только на себя самого, спать на открытом воздухе, питаться чем попало. Там он выучил каталонский язык и стал довольно бегло на нем говорить.
Спустя два месяца, строго следуя своим принципам, Пабло решил покончить со школой. Он противился планам отца, который хотел по-прежнему наблюдать за его обучением. Хосе, узнав о решении Пабло, разозлился. Он не скрывал своего отношения к поведению сына, но тот был непреклонен. Открыто отклоняя отцовское давление, Пабло стал использовать фамилию матери – Пикассо. Некоторые работы того времени он подписывал «П. Р. Пикассо», а к концу 1901 года совершенно отказался от имени отца.
Глава 5
Снова в Барселоне
1899 год
Пабло вернулся в Барселону – к тесному кругу друзей и знакомых, презирающих академию. Большинство этих людей были каталонскими художниками и писателями, которые постоянно обсуждали то, как развивается искусство в Париже. Все они регулярно встречались в таверне «Четыре кота», стилизованной под знаменитое парижское кафе «Черный кот». Именно в этом оживленном и всеми любимом месте в феврале 1900 года, на сломе веков, Пабло устроил свою первую выставку.
Там были представлены работы в различных техниках, в основном небольшие, по содержанию – очень личные: главным образом портреты знакомых. Одна особенно мрачная картина маслом называлась «Последние мгновения»: на ней был изображен священник у постели умирающей женщины. Эту работу затем включили в экспозицию испанской секции на Всемирной выставке 1900 года в Париже.
Молодого художника, разумеется, не могла оставить равнодушным ночная жизнь Барселоны, где вдоль улиц ярко горели газовые лампы и по оживленным бульварам ездили красивые кареты, запряженные лошадьми. Повсюду прохаживались толпы веселых людей, одетых по последней викторианской моде; на каждом углу их зазывали в кафе и закусочные. Пабло видел там и дешевых шлюх, ищущих клиентов по барам и аллеям, и элегантно одетых дам, которые, прогуливаясь с мужьями, с недовольными минами тащили их прочь, чтобы те не смотрели на девок.
Вдоль узких тротуаров располагались милые кафе, на столиках горели свечи; на фасадах домов мерцали витрины магазинов, светились окна, уютно угнездившиеся над сутолокой и суматохой ночного города.
На порог одного маленького кафе, где часто бывал Пабло, вышел толстяк-бармен тридцати с чем-то лет с сильно отросшими черными сальными волосами и длинными усами, в фартуке, который топорщился на его толстом брюхе. Он с руганью толкнул дверь и вышвырнул на мокрую булыжную мостовую старого пьяницу. Тот упал в грязь лицом и стал выкрикивать ругательства, а бармен, подкрутив усы и задрав нос, вернулся в зал.
Тускло освещенное помещение наполняли шум, дым и смрад. Вдоль длинной барной стойки теснились около двадцати столиков, за которыми плечом к плечу сидели мужчины и женщины. Они болтали о том о сем, шумно спорили, пили и смеялись.
В полумраке кафе подвыпивший посетитель позволил лишнее по отношению к уставшей некрасивой рыжей официантке средних лет с сильно накрашенным лицом. Когда она проходила мимо столика, он ущипнул ее ниже спины. Резко развернувшись, рыжая бросила в наглеца поднос с напитками. Парню не повезло: бармен, который все это видел, вышел из-за стойки, схватил наглеца за штаны и вышвырнул за дверь.
Все это время Пабло сидел тихонько в углу и посмеивался, предпочитая держаться подальше от этой суеты. Он делал наброски. Его широко раскрытые глаза, ничего не пропуская, схватывали все, что происходило вокруг. Он начал рисовать мужчину и женщину, которые сидели напротив, за соседним столиком. Мужчина в шляпе, какие носят трубочисты, курил кальян. Женщина куталась в красную шаль, накинутую поверх пышного розового платья. Пара была увлечена беседой, и ни мужчина, ни женщина не замечали, что их рисуют.
Другая официантка, убирая разбитые стаканы, увидела, чем занят Пабло, и бросила на него злобный взгляд.
– Ах ты, бездельник, – вскипела она, – Шел бы работать! Ты уже задолжал мне семь песо. Или плати за все, что ты выпил, или не притаскивайся больше сюда!
Пабло, не обращая на эти слова никакого внимания, не сводил глаз с альбома и продолжал работать.
– Отцепись, старая. Не мешай мне!
Официантка топнула ногой, отставила в сторону швабру и уперлась руками в бока.
– Да как ты смеешь так разговаривать со мной!? Уж я поговорю с твоим отцом! Слышишь, ты, сосунок!
Пабло не смотрел на нее, он не сводил глаз с линии, которую вел углем по листу бумаги.
– Я же сказал тебе, что заплачу, когда продам картину! А теперь убирайся. Оставь меня в покое, глупая баба!
Официантка возмущенно сверкнула глазами, схватила стакан и швырнула его в Пабло, но тот ловко увернулся: заслонившись альбомом, как щитом, он отразил им удар, и стакан разбился о стену.
– Я же сказал: оставь меня! – взревел Пабло.
В немой злобе официантка вернулась к мытью пола.
Пабло поднялся, намереваясь уйти, но тут на пороге появился смуглый небритый юноша. Это был старый школьный товарищ, давнишний друг Пабло, девятнадцатилетний Карлос Касагемас.
Стремительный самоуверенный молодой человек вошел в кафе, волоча за собой, будто на буксире, двух плохо одетых брюнеток – неказистых девиц явно постарше себя. Казалось, они совершенно им очарованы. Карлос увидел Пабло и, оставив своих дам, подошел к другу.
– У меня на сегодняшнюю ночь есть маленькое угощение! – сказал он, кивнув в сторону девиц.
Пабло покосился на них неодобрительно.
– Где ты нашел таких страшил?
Подмигнув приятелю, он продолжил укладывать свои вещи.
– Ха-ха! Помнится, ты еще никогда от таких не отказывался. Одно могу сказать – эти сестры горячи, как цыганское пламя Кадиса!
Пабло покачал головой и засмеялся, понимая, что друг совершенно неисправим.
Одна из девиц, та, что была в длинной красной цыганской юбке, вскочила на стол. Бармен кинул ей кастаньеты, и у ног ее понемногу стала собираться толпа. Какой-то старик взял гитару, и девушка медленно начала щелкать кастаньетами и притоптывать ногой в такт музыке – сперва очень медленно, но весьма соблазнительно, как всегда делают танцовщицы фламенко.
Карлос опустил руку на широкое плечо Пабло, и друзья загляделись на плясунью.
– Водишь, друг: говорил я тебе! – Карлос весь сиял от удовольствия. – Она танцует, как само пламя, и может разбудить дьявола в любом мужчине!
Пабло, не отрываясь, следил за танцовщицей.
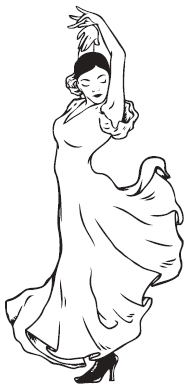
– Я ничего подобного здесь не встречал. Хорошенькие ножки.
– Она цыганка из Страны басков, а ведь и не подумаешь. Заработала много денег, выступая на севере.
– На севере?
– Я тебе уже рассказывал, estúpido[4], — в Париже! Там люди сами вершат свою судьбу – писатели, танцоры, поэты, художники. Они зарабатывают mucho dinero[5]!
– Там? Хорошие деньги?
– Еще бы! Вспомни Писсарро, Дега, Сезанна. Они теперь богаты и знамениты.
Когда танец достиг кульминации, один из завсегдатаев кафе, охваченный страстью, вскочил на стол и стал срывать с девушки платье. Он был основательно пьян и был похож на сильного дикого зверя. На ее защиту выступил всегда готовый к бою бармен. Он что-то крикнул мужлану, но, получив от того сокрушительный удар в челюсть, повалился на пол.
– Похоже, дамы попали в беду, – пробормотал Пабло.
– Ой, только уж ты-то не задирайся. Посмотри, какой он верзила, – предупредил Карлос. – Нам не нужно в это ввязываться.
– Почему нет?
– Не вздумай…
На стол вспрыгнул какой-то тощий испанец, он хотел помочь девушке, но тоже получил удар в лицо и свалился на барную стойку. Испуганная толпа попятилась, а хулиган продолжал разрывать платье танцовщицы. Он вожделенно скалил рот с желтыми гнилыми зубами и таращился бессмысленным, безумным взглядом налитых кровью глаз.
Пабло отвел от себя руку Карлоса, размял плечи и двинулся вперед, на помощь несчастной танцовщице. Оглядевшись вокруг, он сорвал со стола красную скатерть, отчего стоявшие на ней стаканы разлетелись в разные стороны. Карлос, кусая губы, взволнованно следил, как его друг, будто случайно, подошел со спины к здоровяку и хлопнул его по плечу. Тот обернулся и удивленно уставился на Пабло. – Чего тебе, щенок? – выдавил громила, пытаясь сообразить, что к чему.
Он качнулся навстречу Пабло, но тот быстро отступил на шаг.

Молодой человек усмехался и помахивал перед носом верзилы красной скатертью, как матадор, который своей мулетой дразнит взбешенного быка.
– Ага, схлопотать хочешь? Ах, ты… Да я тебе шею сверну!
Детина рычал и пытался обхватить юнца поперек туловища, но тщетно. Пабло вел разъяренного пьянчугу за собой, огибая столы и стулья. В конце концов, тот споткнулся, полетел вперед и, врезавшись в мраморную барную стойку, сильно ударился головой, повалился на пол и застыл.
Раздались аплодисменты и одобрительные возгласы: зрители вздохнули с облегчением. Публика свистела и выкрикивала слова одобрения. Карлос поздравлял своего храброго друга, похлопывая его по спине.
– Хорошая работа, amigo[6], – но теперь-то нам точно придется уехать на север.
– Это почему же? – спросил, отряхиваясь, Пабло.
– Потому что если его приятели найдут тебя, ты не доживешь до следующего дня рождения. Ха-ха-ха!
Там были представлены работы в различных техниках, в основном небольшие, по содержанию – очень личные: главным образом портреты знакомых. Одна особенно мрачная картина маслом называлась «Последние мгновения»: на ней был изображен священник у постели умирающей женщины. Эту работу затем включили в экспозицию испанской секции на Всемирной выставке 1900 года в Париже.
Молодого художника, разумеется, не могла оставить равнодушным ночная жизнь Барселоны, где вдоль улиц ярко горели газовые лампы и по оживленным бульварам ездили красивые кареты, запряженные лошадьми. Повсюду прохаживались толпы веселых людей, одетых по последней викторианской моде; на каждом углу их зазывали в кафе и закусочные. Пабло видел там и дешевых шлюх, ищущих клиентов по барам и аллеям, и элегантно одетых дам, которые, прогуливаясь с мужьями, с недовольными минами тащили их прочь, чтобы те не смотрели на девок.
Вдоль узких тротуаров располагались милые кафе, на столиках горели свечи; на фасадах домов мерцали витрины магазинов, светились окна, уютно угнездившиеся над сутолокой и суматохой ночного города.
На порог одного маленького кафе, где часто бывал Пабло, вышел толстяк-бармен тридцати с чем-то лет с сильно отросшими черными сальными волосами и длинными усами, в фартуке, который топорщился на его толстом брюхе. Он с руганью толкнул дверь и вышвырнул на мокрую булыжную мостовую старого пьяницу. Тот упал в грязь лицом и стал выкрикивать ругательства, а бармен, подкрутив усы и задрав нос, вернулся в зал.
Тускло освещенное помещение наполняли шум, дым и смрад. Вдоль длинной барной стойки теснились около двадцати столиков, за которыми плечом к плечу сидели мужчины и женщины. Они болтали о том о сем, шумно спорили, пили и смеялись.
В полумраке кафе подвыпивший посетитель позволил лишнее по отношению к уставшей некрасивой рыжей официантке средних лет с сильно накрашенным лицом. Когда она проходила мимо столика, он ущипнул ее ниже спины. Резко развернувшись, рыжая бросила в наглеца поднос с напитками. Парню не повезло: бармен, который все это видел, вышел из-за стойки, схватил наглеца за штаны и вышвырнул за дверь.
Все это время Пабло сидел тихонько в углу и посмеивался, предпочитая держаться подальше от этой суеты. Он делал наброски. Его широко раскрытые глаза, ничего не пропуская, схватывали все, что происходило вокруг. Он начал рисовать мужчину и женщину, которые сидели напротив, за соседним столиком. Мужчина в шляпе, какие носят трубочисты, курил кальян. Женщина куталась в красную шаль, накинутую поверх пышного розового платья. Пара была увлечена беседой, и ни мужчина, ни женщина не замечали, что их рисуют.
Другая официантка, убирая разбитые стаканы, увидела, чем занят Пабло, и бросила на него злобный взгляд.
– Ах ты, бездельник, – вскипела она, – Шел бы работать! Ты уже задолжал мне семь песо. Или плати за все, что ты выпил, или не притаскивайся больше сюда!
Пабло, не обращая на эти слова никакого внимания, не сводил глаз с альбома и продолжал работать.
– Отцепись, старая. Не мешай мне!
Официантка топнула ногой, отставила в сторону швабру и уперлась руками в бока.
– Да как ты смеешь так разговаривать со мной!? Уж я поговорю с твоим отцом! Слышишь, ты, сосунок!
Пабло не смотрел на нее, он не сводил глаз с линии, которую вел углем по листу бумаги.
– Я же сказал тебе, что заплачу, когда продам картину! А теперь убирайся. Оставь меня в покое, глупая баба!
Официантка возмущенно сверкнула глазами, схватила стакан и швырнула его в Пабло, но тот ловко увернулся: заслонившись альбомом, как щитом, он отразил им удар, и стакан разбился о стену.
– Я же сказал: оставь меня! – взревел Пабло.
В немой злобе официантка вернулась к мытью пола.
Пабло поднялся, намереваясь уйти, но тут на пороге появился смуглый небритый юноша. Это был старый школьный товарищ, давнишний друг Пабло, девятнадцатилетний Карлос Касагемас.
Стремительный самоуверенный молодой человек вошел в кафе, волоча за собой, будто на буксире, двух плохо одетых брюнеток – неказистых девиц явно постарше себя. Казалось, они совершенно им очарованы. Карлос увидел Пабло и, оставив своих дам, подошел к другу.
– У меня на сегодняшнюю ночь есть маленькое угощение! – сказал он, кивнув в сторону девиц.
Пабло покосился на них неодобрительно.
– Где ты нашел таких страшил?
Подмигнув приятелю, он продолжил укладывать свои вещи.
– Ха-ха! Помнится, ты еще никогда от таких не отказывался. Одно могу сказать – эти сестры горячи, как цыганское пламя Кадиса!
Пабло покачал головой и засмеялся, понимая, что друг совершенно неисправим.
Одна из девиц, та, что была в длинной красной цыганской юбке, вскочила на стол. Бармен кинул ей кастаньеты, и у ног ее понемногу стала собираться толпа. Какой-то старик взял гитару, и девушка медленно начала щелкать кастаньетами и притоптывать ногой в такт музыке – сперва очень медленно, но весьма соблазнительно, как всегда делают танцовщицы фламенко.
Карлос опустил руку на широкое плечо Пабло, и друзья загляделись на плясунью.
– Водишь, друг: говорил я тебе! – Карлос весь сиял от удовольствия. – Она танцует, как само пламя, и может разбудить дьявола в любом мужчине!
Пабло, не отрываясь, следил за танцовщицей.
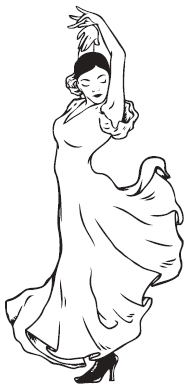
– Я ничего подобного здесь не встречал. Хорошенькие ножки.
– Она цыганка из Страны басков, а ведь и не подумаешь. Заработала много денег, выступая на севере.
– На севере?
– Я тебе уже рассказывал, estúpido[4], — в Париже! Там люди сами вершат свою судьбу – писатели, танцоры, поэты, художники. Они зарабатывают mucho dinero[5]!
– Там? Хорошие деньги?
– Еще бы! Вспомни Писсарро, Дега, Сезанна. Они теперь богаты и знамениты.
Когда танец достиг кульминации, один из завсегдатаев кафе, охваченный страстью, вскочил на стол и стал срывать с девушки платье. Он был основательно пьян и был похож на сильного дикого зверя. На ее защиту выступил всегда готовый к бою бармен. Он что-то крикнул мужлану, но, получив от того сокрушительный удар в челюсть, повалился на пол.
– Похоже, дамы попали в беду, – пробормотал Пабло.
– Ой, только уж ты-то не задирайся. Посмотри, какой он верзила, – предупредил Карлос. – Нам не нужно в это ввязываться.
– Почему нет?
– Не вздумай…
На стол вспрыгнул какой-то тощий испанец, он хотел помочь девушке, но тоже получил удар в лицо и свалился на барную стойку. Испуганная толпа попятилась, а хулиган продолжал разрывать платье танцовщицы. Он вожделенно скалил рот с желтыми гнилыми зубами и таращился бессмысленным, безумным взглядом налитых кровью глаз.
Пабло отвел от себя руку Карлоса, размял плечи и двинулся вперед, на помощь несчастной танцовщице. Оглядевшись вокруг, он сорвал со стола красную скатерть, отчего стоявшие на ней стаканы разлетелись в разные стороны. Карлос, кусая губы, взволнованно следил, как его друг, будто случайно, подошел со спины к здоровяку и хлопнул его по плечу. Тот обернулся и удивленно уставился на Пабло. – Чего тебе, щенок? – выдавил громила, пытаясь сообразить, что к чему.
Он качнулся навстречу Пабло, но тот быстро отступил на шаг.

Молодой человек усмехался и помахивал перед носом верзилы красной скатертью, как матадор, который своей мулетой дразнит взбешенного быка.
– Ага, схлопотать хочешь? Ах, ты… Да я тебе шею сверну!
Детина рычал и пытался обхватить юнца поперек туловища, но тщетно. Пабло вел разъяренного пьянчугу за собой, огибая столы и стулья. В конце концов, тот споткнулся, полетел вперед и, врезавшись в мраморную барную стойку, сильно ударился головой, повалился на пол и застыл.
Раздались аплодисменты и одобрительные возгласы: зрители вздохнули с облегчением. Публика свистела и выкрикивала слова одобрения. Карлос поздравлял своего храброго друга, похлопывая его по спине.
– Хорошая работа, amigo[6], – но теперь-то нам точно придется уехать на север.
– Это почему же? – спросил, отряхиваясь, Пабло.
– Потому что если его приятели найдут тебя, ты не доживешь до следующего дня рождения. Ха-ха-ха!
Глава 6
Мечты об успехе
В окно комнаты, оборудованной под скромную студию, пробивался ясный свет раннего нежного утра. В углу стоял мольберт, на голых стенах висели рисунки и наброски Пабло. На столе валялись тюбики с краской и кисти.
Посреди комнаты на полу лежал огромный продавленный матрас. На нем виднелись очертания человеческих тел, которые шевелились и ворочались под истертым рваным одеялом.
Из-под одеяла высунулась голова Карлоса. Протирая заспанные глаза, он посмотрел на лежащие рядом, на том же матрасе, тела и победно улыбнулся.
Касагемас голышом встал с ложа и потянул одеяло, открыв тоже не обремененного одеждой приятеля, обнимавшего обнаженных цыганок. Пабло заслонил ладонью глаза от яркого света и снова натянул на себя одеяло.
– Эй, разве с друзьями так обращаются? – проворчал он.
– Время вставать, лежебоки, – сказал Карлос. – Одиннадцать часов, до смерти хочется есть.
– Ладно-ладно, встаю, – пробормотал Пабло, поднялся с матраса и натянул на себя белую рубаху и широкие деревенские штаны, которые подвязал веревкой. Потом он подошел к столу, стоявшему в углу, зажег газовую горелку и стал варить кофе.
Достав из шкафчика сыр, хлеб и нож, он протянул все это Карлосу и только тогда заметил, что его друг совершенно голый.
– Прикрылся бы, что ли – сказал Пабло. – Вряд ли ты хочешь, чтобы нож соскользнул и покончил с твоей половой жизнью, а?
Карлос засмеялся и обернул бедра полотенцем.
– Эй, Пабло! Вчера вечером ты был великолепен. Истинная поэзия в движениях, художник-герой и, могу добавить, необузданный любовник.
Пабло бросил на него косой взгляд.
– Заткнулся бы ты…
Карлос усмехнулся, пожал плечами и вдруг заметил один из набросков, пришпиленных к стене.
– Эй, что это? Маэстро в поисках жанра?
– Не твое дело…
– Ну-ну, не кипятись! Мы же приятели, а?
– Это зависит от твоего поведения. Так что перестань подлизываться.
– Пабло, не сердись, – взмолился Карлос, похлопав приятеля по плечу. – Я же шучу… Ну – мир?
– Ладно, мир. Нарежь, в конце концов, этот проклятый хлеб.
Карлос протянул Пабло кусок черствого хлеба и немного его любимой каталонской butifarra[7].
Пабло взял этот нехитрый завтрак и принялся жевать. По глазам его можно было понять, что он уже думает о работе. И действительно, он подошел к мольберту.
Карлос заварил себе крепкого чая с молоком и сахаром и, взяв какой-то кусок бумаги, начал рисовать пастелью.
– Вот что я скажу тебе, Пабло. Если мы, как художники, хотим добиться успеха, то нам нужно развивать свой уникальный стиль, который критики признают именно как наш собственный.
– Ага, как Ван Гог, – с горечью сказал Пабло. – Никто не признавал его стиля до тех пор, пока он не сдох. Индивидуальность манеры со временем обязательно возникнет. Только это не то, о чем нужно сознательно заботиться.
– Ясно… Ну что ж, по-моему, только поездка в Париж прочистит твои мозги. Тебе нужны стимулы – видеть других художников, отпустить на волю свой разум. Недаром Париж называют Городом Света.
Пабло оглянулся через плечо на Карлоса.
– И как, ты считаешь, мы в нашем положении доберемся туда?
Карлос перестал рисовать и отложил пастель.
– Нам помогут наши отцы. Они дадут нам денег, если мы скажем, что едем в Париж продолжать обучение.
Пабло налил себе чаю, сел рядом с Карлосом за маленький стол и, задумавшись, стал разглядывать истрепанную карту Европы, приколотую к стене рядом с наброском портрета его матери. Он увидел, как в окно пробился яркий солнечный свет, как нежный ветерок потрепал занавески. Снова посмотрел на карту – солнечные лучи плескались в области Франции и Испании: это было похоже на знамение.
– Город Света, говоришь? – переспросил Пабло. – А почему бы и нет?

Посреди комнаты на полу лежал огромный продавленный матрас. На нем виднелись очертания человеческих тел, которые шевелились и ворочались под истертым рваным одеялом.
Из-под одеяла высунулась голова Карлоса. Протирая заспанные глаза, он посмотрел на лежащие рядом, на том же матрасе, тела и победно улыбнулся.
Касагемас голышом встал с ложа и потянул одеяло, открыв тоже не обремененного одеждой приятеля, обнимавшего обнаженных цыганок. Пабло заслонил ладонью глаза от яркого света и снова натянул на себя одеяло.
– Эй, разве с друзьями так обращаются? – проворчал он.
– Время вставать, лежебоки, – сказал Карлос. – Одиннадцать часов, до смерти хочется есть.
– Ладно-ладно, встаю, – пробормотал Пабло, поднялся с матраса и натянул на себя белую рубаху и широкие деревенские штаны, которые подвязал веревкой. Потом он подошел к столу, стоявшему в углу, зажег газовую горелку и стал варить кофе.
Достав из шкафчика сыр, хлеб и нож, он протянул все это Карлосу и только тогда заметил, что его друг совершенно голый.
– Прикрылся бы, что ли – сказал Пабло. – Вряд ли ты хочешь, чтобы нож соскользнул и покончил с твоей половой жизнью, а?
Карлос засмеялся и обернул бедра полотенцем.
– Эй, Пабло! Вчера вечером ты был великолепен. Истинная поэзия в движениях, художник-герой и, могу добавить, необузданный любовник.
Пабло бросил на него косой взгляд.
– Заткнулся бы ты…
Карлос усмехнулся, пожал плечами и вдруг заметил один из набросков, пришпиленных к стене.
– Эй, что это? Маэстро в поисках жанра?
– Не твое дело…
– Ну-ну, не кипятись! Мы же приятели, а?
– Это зависит от твоего поведения. Так что перестань подлизываться.
– Пабло, не сердись, – взмолился Карлос, похлопав приятеля по плечу. – Я же шучу… Ну – мир?
– Ладно, мир. Нарежь, в конце концов, этот проклятый хлеб.
Карлос протянул Пабло кусок черствого хлеба и немного его любимой каталонской butifarra[7].
Пабло взял этот нехитрый завтрак и принялся жевать. По глазам его можно было понять, что он уже думает о работе. И действительно, он подошел к мольберту.
Карлос заварил себе крепкого чая с молоком и сахаром и, взяв какой-то кусок бумаги, начал рисовать пастелью.
– Вот что я скажу тебе, Пабло. Если мы, как художники, хотим добиться успеха, то нам нужно развивать свой уникальный стиль, который критики признают именно как наш собственный.
– Ага, как Ван Гог, – с горечью сказал Пабло. – Никто не признавал его стиля до тех пор, пока он не сдох. Индивидуальность манеры со временем обязательно возникнет. Только это не то, о чем нужно сознательно заботиться.
– Ясно… Ну что ж, по-моему, только поездка в Париж прочистит твои мозги. Тебе нужны стимулы – видеть других художников, отпустить на волю свой разум. Недаром Париж называют Городом Света.
Пабло оглянулся через плечо на Карлоса.
– И как, ты считаешь, мы в нашем положении доберемся туда?
Карлос перестал рисовать и отложил пастель.
– Нам помогут наши отцы. Они дадут нам денег, если мы скажем, что едем в Париж продолжать обучение.
Пабло налил себе чаю, сел рядом с Карлосом за маленький стол и, задумавшись, стал разглядывать истрепанную карту Европы, приколотую к стене рядом с наброском портрета его матери. Он увидел, как в окно пробился яркий солнечный свет, как нежный ветерок потрепал занавески. Снова посмотрел на карту – солнечные лучи плескались в области Франции и Испании: это было похоже на знамение.
– Город Света, говоришь? – переспросил Пабло. – А почему бы и нет?

Глава 7
Город Света
1900 год
Пабло старался узнать все, что только мог, о Париже. Он выяснил, что когда-то давным-давно это была всего лишь маленькая деревня на острове Сите, или «Городском Острове», который образовался в месте слияния двух рукавов Сены. Париж стал расти, постепенно вбирая в себя окружающие деревни, и в конце концов в век Просвещения обрел прозвание «Город Света». Его поделили на arrondissements – округи, которые были пронумерованы, с первого по двадцатый: первый, разумеется, располагался в центре, а другие – шли по часовой стрелке, образуя спираль.
Парижане, как узнал Пабло, понимали, что прозвание «Город Света» связано вовсе не с ярким освещением: это была скорее метафора, возникшая в связи с его политической, духовной, культурной и интеллектуальной энергией. Людовик XIV, деспот, известный как «король-солнце», не желал оставаться в Париже, переполненном людьми. Он перенес все строительство в Версаль и создал там новый дворец.
После царствования Людовика XIV наступил век Просвещения. В Париже была благодатная почва для развития философских и общественно-политических щей, популярных в то время: эмпиризма, скептицизма, толерантности и социальной ответственности. Вольтер, Дидро, Жан-Жак Руссо и их последователи были les lumières — просветителями.
Из нескольких работ о Французской революции Пабло узнал, что в XIX столетии историк Жюль Мишле, вероятно, первым назвал Париж «la Lumière du Monde» — «Свет Земли», объявив его, таким образом, новым маяком гуманизма. При жизни Мишле Париж сильно изменился, а его население увеличилось более чем в два раза. Ко второй половине XIX столетия, начиная с 1852 года, со времен Второй империи, Париж стал самым современным, самым любимым городом Европы и как раз таким местом, где Пабло больше всего хотелось бы жить. Местом, вдохновляющим на перемены.
Порой у Пабло возникало такое чувство, что Париж для него – идеальный город, гостеприимная Утопия, задуманная Наполеоном III и созданная его префектом бароном Османом, хотя беспорядочная планировка была очень далека от совершенства. В книге под названием «Цветы зла», которую читал Пабло, Шарль Бодлер показал, что «османизация» несет городу смерть и муки. Вот как он говорит об этом в стихотворении «Лебедь»: «Где старый мой Париж!.. Трудней забыть былое, чем внешность города пересоздать! Увы!..»[8]
План города, предложенный Османом, был идеален для поборников порядка и единообразия, верящих в гигиенические свойства свежего воздуха и солнечного света. По повелению Наполеона III Осман меньше чем за двадцать лет снес двадцать пять тысяч старинных зданий. Там, где когда-то сплетались средневековые переулки, выросли широкие, будто простреленные из пушки, бульвары и проспекты с одинаковыми фасадами домов.
Импрессионисты и фотографы, запечатлевшие этот переделанный мир, были, за малым исключением, очарованы оригинальными очертаниями города и, казалось, бесконечными перспективами его улиц. Для них важно было по-новому запечатлеть световые эффекты, трактовать их не только физически, но и духовно. Это был тот свет, что пробивался сквозь листву деревьев, высаженных на новых бульварах. Это также был струящийся в окна новых зданий свет сотен газовых ламп, установленных в 1860-е годы на тротуарах этих бульваров. Лампы загорались вокруг стенных часов в новых кафе, в театрах, на остановках общественного транспорта. Свет был символом просвещенного мировосприятия жителей этого щегольского нового города.
В конце XIX столетия в Париже проходили Всемирные выставки. Выставка 1889 года совпала со столетием Французской революции и строительством Эйфелевой банши, в то время казавшейся провозвестником новой эры технического прогресса. Научные достижения были поддержаны расцветом искусства периода Belle Epoque[9].
В 1889 году, в день открытия Эйфелевой башни, для того чтобы наблюдать за этим событием, собрались представители всех классов и профессий. Изумленная, будто прикованная к месту толпа восхищалась видом самой высокой конструкции в мире, которую освещали десять тысяч газовых ламп, в то время как фейерверки и ослепительная иллюминация привлекали взгляды зрителей к разным уровням башни.
Но новая башня была по вкусу не всем. Не всем нравился этот яркий блеск, высвечивающий те ценности, что воплотились в ней. Пабло заметил, что многие карикатуры того времени изображали, как прохожие, ослепленные новой парижской современностью, по вечерам заслоняют от света глаза. Молодой испанец рассмеялся, увидев подпись к карикатуре, в которой говорилось, что отныне людям для вечерней прогулки нужны собаки-поводыри.

В 1874 году, еще до того, как Пабло приехал в Париж, он услышал о новой группе художников, называвшейся «Анонимным обществом живописцев, художников и граверов», которые устраивали в Париже выставки, чтобы заявить о новом течении под названием «импрессионизм». Среди основателей этого течения были Клод Моне, Эдгар Дега и Камиль Писсарро.
Группу объединяло стремление к независимости от авторитетного ежегодного Парижского салона, жюри которого состояло из изнеженных представителей Академии изящных искусств. Именно это жюри отбирало работы для экспозиции, а затем награждало лучших авторов медалями.
Пабло огорчало, что независимые художники, несмотря на их разный подход к живописи, создав новое направление, которое уже заняло свое законное место в искусстве, сами уподобились участникам Парижского салона. Впрочем, консервативные критики по-прежнему подвергали работы этих мастеров осуждению, считая их незаконченными или даже называя набросками. С другой стороны, прогрессивные журналисты превозносили картины «независимых» за реалистическое изображение современной жизни.
Парижский писатель Эдмон Дюранти в своей брошюре 1876 года La Nouvelle Peinture («Новая живопись») рассказал о том, как эти художники интерпретируют современные темы, и назвал их подход «принципиально новым», а их стиль – «революционным».
Пабло находил весьма странным то, что эта новая группа, выставляясь, никак себя не называла: ведь название пояснило бы, какой именно принцип объединяет движение или школу. Впрочем, впоследствии некоторые из этих художников приняли название, под которым и стали известны, – импрессионисты. Однако вскоре Пабло понял, что, ниспровергая каноны, их работы включают в сферу искусства новые технологии и идеи, изображают современную жизнь.
Пабло много думал о работе Клода Моне «Впечатление. Восход солнца», которая была выставлена в 1874 году и в конечном счете дала название движению импрессионистов, после того как критик Луи Леруа обвинил Моне в том, что его работа – всего лишь набросок, или impression — «впечатление», незаконченная картина. Между тем, она демонстрировала многие технические приемы, которыми пользовались «независимые»: короткий прерывистый мазок, лишь слегка намечающий форму; чистые цвета и особое внимание к эффектам освещения. Это было очень важно для Пабло. Он отмечал, что импрессионисты вместо того, чтобы применять нейтральные белый, серый и черный, активизировали эффекты тени и света колористически, а благодаря свободной манере письма создавалось впечатление спонтанности, за которым скрывалась тщательно продуманная композиция. Яркий пример тому – картина Альфреда Сислея 1882 года «Ореховые деревья перед заходом солнца», где мнимая небрежность манеры получила широкое признание даже со стороны официального салона как новый способ изображения современной жизни.
Пабло сразу же потянуло к этим новым художникам-революционерам. Ярыге краски импрессионистских холстов вместе с радикально новой техникой этих художников производили поразительное впечатление на людей, привыкших к умеренному колориту академической живописи. Многие из «независимых», вопреки традиции, решили не покрывать свои работы толстым слоем лака, чтобы они казались более живыми. В то время получило развитие производство синтетических пигментов, и новые краски создавали вибрирующие оттенки синего, зеленого и желтого, каких прежде достичь было невозможно.
В картине Эдуарда Мане 1874 года «Гребля» Пабло отметил широкое применение железной лазури и искусственного ультрамарина для создания композиции, явно вдохновленной японским искусством. Щеголь-гребец в канотье и его дама были чрезвычайно современны – и по форме, и по содержанию. Чтобы их написать, художник использовал новейшие материалы.
Картины с изображением пригородов и сельского досуга, отдыха на природе, за пределами Парижа, одинаково занимали и Пабло, и импрессионистов, особенно Моне и Пьера-Огюста Ренуара.
Многие импрессионисты круглый год или большую его часть проводили в деревне. Новые железнодорожные линии расходились от Парижа по радиусам, и выезжать по выходным стало так удобно, что парижане буквально наводняли пригороды. В то время как некоторые импрессионисты, такие как Писсарро, в своей работе сосредоточились на каждодневной жизни сельских жителей Понту аза, большинство художников предпочитали изображать досуг горожан, отдыхающих на лоне природы.
Любимыми темами картин стали гребля и посещение купален, которых в пригородах в то время появилось много. На картине Моне «Лягушатник» свободная манера письма, особенно свойственная этому мастеру, прекрасно подходит для изображения атмосферы досуга и неги.

В это время пейзажи, к которым часто обращались импрессионисты, привлекали внимание публики не меньше, чем их нововведения в области композиции, использование световых эффектов, обращение с цветом. Пабло высоко ценил особое отношение к пейзажу, свойственное Моне, который включал в свои композиции железные дороги и фабрики, символизирующие вторжение индустриального мира. Художники Барбизонской школы такого бы не допустили.
Других импрессионистов, таких как Писсарро и Гюстав Кайботт, больше занимало обновление города. Эта тематика требовала разработки новых методов изображения широких бульваров, общественных садов и больших зданий. Одни художники сосредотачивались на городских пейзажах, другие обращали свой взгляд на горожан.
Резкое увеличение численности населения Парижа после Франко-прусской войны многое обещало новым, подающим надежды художникам – импрессионистам, а позднее и Пабло. Появилось невероятное количество нового материала для изображения сцен городской жизни. Типичным для этих сцен было смешение социальных слоев – характерный процесс в общественной жизни того времени. Дега и Кайботт сосредотачивались на трудовых людях, включая певцов, танцоров, рабочих. Другие художники, например, Берта Моризо и Мэри Кассат, писали представителей привилегированных классов.
В своих работах импрессионисты изображали и новые формы досуга, в том числе театральные развлечения, вспомнить хотя бы картину Кассат 1878 года «Женщина в ложе». Запечатлевали они и сцены в кафе, на публичных концертах, на танцах. Приближаясь к писателям-натуралистам, таким как Эмиль Золя, живописцы фиксировали эпизоды городской жизни – мимолетные, но типичные, подсмотренные ими в реальности. Картины Кайботта 1877 года «Парижская улица. Дождь» и «Дождливый день в Батиньольском квартале» служат примером того, как художники отказывались от сентиментальности и нарочитой повествовательности, заменяя их беспристрастным, объективным взглядом на сиюминутную действительность.
Парижане, как узнал Пабло, понимали, что прозвание «Город Света» связано вовсе не с ярким освещением: это была скорее метафора, возникшая в связи с его политической, духовной, культурной и интеллектуальной энергией. Людовик XIV, деспот, известный как «король-солнце», не желал оставаться в Париже, переполненном людьми. Он перенес все строительство в Версаль и создал там новый дворец.
После царствования Людовика XIV наступил век Просвещения. В Париже была благодатная почва для развития философских и общественно-политических щей, популярных в то время: эмпиризма, скептицизма, толерантности и социальной ответственности. Вольтер, Дидро, Жан-Жак Руссо и их последователи были les lumières — просветителями.
Из нескольких работ о Французской революции Пабло узнал, что в XIX столетии историк Жюль Мишле, вероятно, первым назвал Париж «la Lumière du Monde» — «Свет Земли», объявив его, таким образом, новым маяком гуманизма. При жизни Мишле Париж сильно изменился, а его население увеличилось более чем в два раза. Ко второй половине XIX столетия, начиная с 1852 года, со времен Второй империи, Париж стал самым современным, самым любимым городом Европы и как раз таким местом, где Пабло больше всего хотелось бы жить. Местом, вдохновляющим на перемены.
Порой у Пабло возникало такое чувство, что Париж для него – идеальный город, гостеприимная Утопия, задуманная Наполеоном III и созданная его префектом бароном Османом, хотя беспорядочная планировка была очень далека от совершенства. В книге под названием «Цветы зла», которую читал Пабло, Шарль Бодлер показал, что «османизация» несет городу смерть и муки. Вот как он говорит об этом в стихотворении «Лебедь»: «Где старый мой Париж!.. Трудней забыть былое, чем внешность города пересоздать! Увы!..»[8]
План города, предложенный Османом, был идеален для поборников порядка и единообразия, верящих в гигиенические свойства свежего воздуха и солнечного света. По повелению Наполеона III Осман меньше чем за двадцать лет снес двадцать пять тысяч старинных зданий. Там, где когда-то сплетались средневековые переулки, выросли широкие, будто простреленные из пушки, бульвары и проспекты с одинаковыми фасадами домов.
Импрессионисты и фотографы, запечатлевшие этот переделанный мир, были, за малым исключением, очарованы оригинальными очертаниями города и, казалось, бесконечными перспективами его улиц. Для них важно было по-новому запечатлеть световые эффекты, трактовать их не только физически, но и духовно. Это был тот свет, что пробивался сквозь листву деревьев, высаженных на новых бульварах. Это также был струящийся в окна новых зданий свет сотен газовых ламп, установленных в 1860-е годы на тротуарах этих бульваров. Лампы загорались вокруг стенных часов в новых кафе, в театрах, на остановках общественного транспорта. Свет был символом просвещенного мировосприятия жителей этого щегольского нового города.
В конце XIX столетия в Париже проходили Всемирные выставки. Выставка 1889 года совпала со столетием Французской революции и строительством Эйфелевой банши, в то время казавшейся провозвестником новой эры технического прогресса. Научные достижения были поддержаны расцветом искусства периода Belle Epoque[9].
В 1889 году, в день открытия Эйфелевой башни, для того чтобы наблюдать за этим событием, собрались представители всех классов и профессий. Изумленная, будто прикованная к месту толпа восхищалась видом самой высокой конструкции в мире, которую освещали десять тысяч газовых ламп, в то время как фейерверки и ослепительная иллюминация привлекали взгляды зрителей к разным уровням башни.
Но новая башня была по вкусу не всем. Не всем нравился этот яркий блеск, высвечивающий те ценности, что воплотились в ней. Пабло заметил, что многие карикатуры того времени изображали, как прохожие, ослепленные новой парижской современностью, по вечерам заслоняют от света глаза. Молодой испанец рассмеялся, увидев подпись к карикатуре, в которой говорилось, что отныне людям для вечерней прогулки нужны собаки-поводыри.

В 1874 году, еще до того, как Пабло приехал в Париж, он услышал о новой группе художников, называвшейся «Анонимным обществом живописцев, художников и граверов», которые устраивали в Париже выставки, чтобы заявить о новом течении под названием «импрессионизм». Среди основателей этого течения были Клод Моне, Эдгар Дега и Камиль Писсарро.
Группу объединяло стремление к независимости от авторитетного ежегодного Парижского салона, жюри которого состояло из изнеженных представителей Академии изящных искусств. Именно это жюри отбирало работы для экспозиции, а затем награждало лучших авторов медалями.
Пабло огорчало, что независимые художники, несмотря на их разный подход к живописи, создав новое направление, которое уже заняло свое законное место в искусстве, сами уподобились участникам Парижского салона. Впрочем, консервативные критики по-прежнему подвергали работы этих мастеров осуждению, считая их незаконченными или даже называя набросками. С другой стороны, прогрессивные журналисты превозносили картины «независимых» за реалистическое изображение современной жизни.
Парижский писатель Эдмон Дюранти в своей брошюре 1876 года La Nouvelle Peinture («Новая живопись») рассказал о том, как эти художники интерпретируют современные темы, и назвал их подход «принципиально новым», а их стиль – «революционным».
Пабло находил весьма странным то, что эта новая группа, выставляясь, никак себя не называла: ведь название пояснило бы, какой именно принцип объединяет движение или школу. Впрочем, впоследствии некоторые из этих художников приняли название, под которым и стали известны, – импрессионисты. Однако вскоре Пабло понял, что, ниспровергая каноны, их работы включают в сферу искусства новые технологии и идеи, изображают современную жизнь.
Пабло много думал о работе Клода Моне «Впечатление. Восход солнца», которая была выставлена в 1874 году и в конечном счете дала название движению импрессионистов, после того как критик Луи Леруа обвинил Моне в том, что его работа – всего лишь набросок, или impression — «впечатление», незаконченная картина. Между тем, она демонстрировала многие технические приемы, которыми пользовались «независимые»: короткий прерывистый мазок, лишь слегка намечающий форму; чистые цвета и особое внимание к эффектам освещения. Это было очень важно для Пабло. Он отмечал, что импрессионисты вместо того, чтобы применять нейтральные белый, серый и черный, активизировали эффекты тени и света колористически, а благодаря свободной манере письма создавалось впечатление спонтанности, за которым скрывалась тщательно продуманная композиция. Яркий пример тому – картина Альфреда Сислея 1882 года «Ореховые деревья перед заходом солнца», где мнимая небрежность манеры получила широкое признание даже со стороны официального салона как новый способ изображения современной жизни.
Пабло сразу же потянуло к этим новым художникам-революционерам. Ярыге краски импрессионистских холстов вместе с радикально новой техникой этих художников производили поразительное впечатление на людей, привыкших к умеренному колориту академической живописи. Многие из «независимых», вопреки традиции, решили не покрывать свои работы толстым слоем лака, чтобы они казались более живыми. В то время получило развитие производство синтетических пигментов, и новые краски создавали вибрирующие оттенки синего, зеленого и желтого, каких прежде достичь было невозможно.
В картине Эдуарда Мане 1874 года «Гребля» Пабло отметил широкое применение железной лазури и искусственного ультрамарина для создания композиции, явно вдохновленной японским искусством. Щеголь-гребец в канотье и его дама были чрезвычайно современны – и по форме, и по содержанию. Чтобы их написать, художник использовал новейшие материалы.
Картины с изображением пригородов и сельского досуга, отдыха на природе, за пределами Парижа, одинаково занимали и Пабло, и импрессионистов, особенно Моне и Пьера-Огюста Ренуара.
Многие импрессионисты круглый год или большую его часть проводили в деревне. Новые железнодорожные линии расходились от Парижа по радиусам, и выезжать по выходным стало так удобно, что парижане буквально наводняли пригороды. В то время как некоторые импрессионисты, такие как Писсарро, в своей работе сосредоточились на каждодневной жизни сельских жителей Понту аза, большинство художников предпочитали изображать досуг горожан, отдыхающих на лоне природы.
Любимыми темами картин стали гребля и посещение купален, которых в пригородах в то время появилось много. На картине Моне «Лягушатник» свободная манера письма, особенно свойственная этому мастеру, прекрасно подходит для изображения атмосферы досуга и неги.

В это время пейзажи, к которым часто обращались импрессионисты, привлекали внимание публики не меньше, чем их нововведения в области композиции, использование световых эффектов, обращение с цветом. Пабло высоко ценил особое отношение к пейзажу, свойственное Моне, который включал в свои композиции железные дороги и фабрики, символизирующие вторжение индустриального мира. Художники Барбизонской школы такого бы не допустили.
Других импрессионистов, таких как Писсарро и Гюстав Кайботт, больше занимало обновление города. Эта тематика требовала разработки новых методов изображения широких бульваров, общественных садов и больших зданий. Одни художники сосредотачивались на городских пейзажах, другие обращали свой взгляд на горожан.
Резкое увеличение численности населения Парижа после Франко-прусской войны многое обещало новым, подающим надежды художникам – импрессионистам, а позднее и Пабло. Появилось невероятное количество нового материала для изображения сцен городской жизни. Типичным для этих сцен было смешение социальных слоев – характерный процесс в общественной жизни того времени. Дега и Кайботт сосредотачивались на трудовых людях, включая певцов, танцоров, рабочих. Другие художники, например, Берта Моризо и Мэри Кассат, писали представителей привилегированных классов.
В своих работах импрессионисты изображали и новые формы досуга, в том числе театральные развлечения, вспомнить хотя бы картину Кассат 1878 года «Женщина в ложе». Запечатлевали они и сцены в кафе, на публичных концертах, на танцах. Приближаясь к писателям-натуралистам, таким как Эмиль Золя, живописцы фиксировали эпизоды городской жизни – мимолетные, но типичные, подсмотренные ими в реальности. Картины Кайботта 1877 года «Парижская улица. Дождь» и «Дождливый день в Батиньольском квартале» служат примером того, как художники отказывались от сентиментальности и нарочитой повествовательности, заменяя их беспристрастным, объективным взглядом на сиюминутную действительность.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента
