Страница:
Возможно, уже тогда Цезарь был в состоянии провидеть собственную судьбу… Одно из мест его памятного обращения по поводу усопшей тетушки, которую звали Юлией, особенно характерно.
Согласно Светонию, «в речи над Юлией он, между прочим, так говорит о предках ее и своего отца: „Род моей тетки Юлии восходит по матери к царям, по отцу же к бессмертным богам: ибо от Анка Марция происходят Марции-цари, имя которых носила ее мать, а от богини Венеры – род Юлиев, к которому принадлежит и наша семья. Вот почему наш род облечен неприкосновенностью, как цари, которые могуществом превыше всех людей, и благоговением, как боги, которым подвластны и самые цари“».
(Между прочим, у целого ряда современных историков сложилось твердое мнение о том, что Анк Марций и Нума Помпилий, законодатель ритуалов и основатель храма Весты, сыгравшего важную роль в судьбе Цезаря, это одно и то же лицо! Причиной разделения могло быть желание кокретнее обозначить свершения на религиозном поприще и деяния сугубо мирские.)
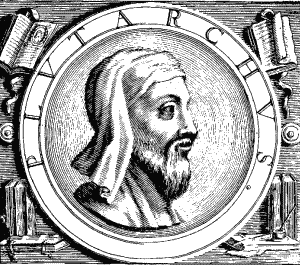
Несмотря на то что достопамятная речь на похоронах жены была сочтена многими его недругами лживой и помпезной, Цезарь сильно горевал по поводу своей утраты. Он действительно любил ее, в противном случае разве стал бы он бросать вызов самому диктатору Сулле, не желавшему их брака? Приданое Корнелии отнюдь не было его целью, поскольку род Юлиев не знал нужды в средствах. Это было действительно серьезное личное горе. Цезарю еще не однажды пришлось вспоминать о кротком и смиренном нраве безвременно оставившей его супруги, поскольку следующий (уже третий) его брак оказался исключительно неудачным.
Чтобы как-то развеяться от тягостных дум, Цезарь, уже будучи одним из двух квесторов, а значит имея свободный доступ к казне и государственным архивам (деньги+тайная информация=ВЛАСТЬ!), с готовностью согласился на поездку в Испанию.
Светоний свидетельствует:
«В должности квестора он получил назначение в дальнюю Испанию. Там он, по поручению претора (а претором тогда, между прочим, был некий Вете́р; о его близких и доверительных отношениях с Цезарем сказано у Плутарха: „Он [Цезарь] отправился в Испанию в качестве квестора при преторе Ветере, которого он всегда почитал и сына которого позже, когда сам стал претором, сделал квестором“. – Г. Б.) объезжая однажды для судопроизводства общинные собрания, прибыл в Гадес и увидел в храме Геркулеса статую Великого Александра. Он вздохнул, словно почувствовав отвращение к своей бездеятельности, – ведь он не совершил еще ничего достопамятного, тогда как Александр в этом возрасте (а именно в 33 года. – Г. Б.) уже покорил мир, – и тотчас стал добиваться увольнения, чтобы затем в столице воспользоваться первым же случаем для более великих дел. На следующую ночь его смутил сон – ему привиделось, будто он насилует собственную мать; но толкователи еще больше возбудили его надежды, заявив, что сон предвещает ему власть над всем миром, так как мать, которую он видел под собой, есть не что иное, как земля, почитаемая родительницей всего живого».
Между прочим, толкователи отнюдь не стремились ввести Цезаря в заблуждение. Наиболее авторитетное издание того времени по толкованию снов – это, конечно же, «Онейрокритика» Артемидора Далдианского (2-я половина II в. до н. э.).
В Книге I этого удивительного трактата сказано:
«Соединение с матерью толкуется сложно, разнообразно и требует разбора по многим раздельным случаям, чего большинству снотолкователей не удавалось достичь. Дело в том, что само по себе соединение еще не выражает значение сна: сон этот сбывается по-разному, судя по различию объятий и телесных поз.
Прежде всего, следует сказать о соединении лицом к лицу с матерью, которая жива (потому что живая мать и мертвая означают разное). Стало быть, когда человек соединяется с матерью лицом к лицу („естественным образом“, как говорят некоторые), и мать его жива, то означает это вот что. Если у сновидца отец здоров, то будет у него с отцом вражда, потому что в таких случаях возникает ревность даже к посторонним людям; если же отец болен, то он умрет, потому что сновидец станет при своей матери сразу и сын и муж. Сон этот к добру для всякого работника и ремесленника: ведь ремесло обычно называют „матерью-кормилицей“, а стало быть, такая с ним близость означает не что иное, как обилие работы и заработка от ремесла. К добру он также для всех демагогов и политиков, потому что мать означает родную землю; и, как в соединении по любовному уставу мужчина владеет всем телом женщины, охотной и послушной, так и сновидец будет располагать всеми делами государства».
Что ж, как говорится, из песни слова не выкинешь. Приняв на веру толкование, Цезарь не мог не прийти в неистовство. Он уже внутренне отрешился от недавних утрат и теперь кипел от ярости, что находится так далеко от родины, где ему явно суждено в скором времени взять все бразды правления в свои руки. Он добился увольнения и направился в Рим, не преминув по пути проявить себя во всем блеске.
Светоний продолжает:
«Покинув, таким образом, свою провинцию раньше срока, он явился в латинские колонии (речь идет о Галлии. – Г. Б.), которые добивались тогда для себя гражданских прав. Несомненно, он склонил бы их на какой-нибудь дерзкий шаг, если бы консулы, опасаясь этого, не задержали на время отправку избранных для Киликии легионов. Это не помешало ему вскоре пуститься в Риме на еще более смелое предприятие. Именно за несколько дней до своего вступления в должность эдила он был обвинен в заговоре с Марком Крассом, консуляром, и с Публием Суллой и Луцием Автронием, которые должны были стать консулами, но оказались уличены в подкупе избирателей. Предполагалось, что в начале нового года они нападут на Сенат, перебьют намеченных лиц, Красс станет диктатором, Цезарь будет назначен начальником конницы, и, устроив государственные дела по своему усмотрению, они вернут консульство Автронию и Сулле. Об этом заговоре упоминают Танузий Гемин в истории, Марк Бибул в эдиктах, Гай Курион Старший в речах; то же самое, по-видимому, имеет в виду и Цицерон, когда в одном из писем к Аксию говорит, что Цезарь, став консулом, утвердился в той царской власти, о которой помышлял еще эдилом. Танузий добавляет, что из раскаяния или из страха Красс не явился в назначенный для избиения день, а потому и Цезарь не подал условленного знака: по словам Куриона, было условлено, что Цезарь спустит тогу с одного плеча. Тот же Курион, а с ним и Марк Акторий Назон сообщают, что Цезарь вступил в заговор также с молодым Гнеем Пизоном; а когда возникло подозрение, что в Риме готовится заговор, и Пизон без просьбы и вне очереди получил назначение в Испанию, то они договорились, что одновременно поднимут мятеж – Цезарь в Риме, а Пизон в провинции – при поддержке амбронов и транспаданцев (галльские племена. – Г. Б.). Смерть Пизона разрушила замыслы обоих».
Мы видим, что технологии политической борьбы тогда ничем не отличаются от тех, что в ходу в наши дни. Одних симпатий народа политику, стремящемуся к вершине, никогда не хватает, да вдобавок и пресловутые чувства народные, как правило, весьма переменчивы; энтузиазм конкурентов может легко свести на нет все усилия. Поэтому, увы, используются любые средства. Чем заманчивее цель, тем более они отвратительны. В этом плане Цезарь был абсолютно схож с теми, кто, подобно ему, мечтал о владычестве над Римом. Он, естественно, как и они, тоже не брезговал ничем, в том числе и подкупом.
Плутарх приводит очень любопытные сведения на сей счет:
«Щедро расточая свои деньги и покупая, казалось, ценой величайших трат краткую и непрочную славу, в действительности же стяжая величайшие блага за дешевую цену, он, как говорят, прежде чем получить первую должность, имел долгов на тысячу триста талантов. Назначенный смотрителем Аппиевой дороги (древний аналог Рублевского шоссе. – Г. Б.), он издержал много собственных денег, затем, будучи эдилом, выставил триста двадцать пар гладиаторов, а пышными издержками на театры, церемонии и обеды затмил всех своих предшественников. Но и народ, со своей стороны, стал настолько расположен к нему, что каждый выискивал новые должности и почести, которыми можно было вознаградить Цезаря.
Рим тогда разделялся на два стана – приверженцев Суллы, имевших большую силу, и сторонников Мария, которые были полностью разгромлены, унижены и влачили жалкое существование. Чтобы вновь укрепить и повести за собой марианцев, Цезарь, когда воспоминания о его щедрости в должности эдила были еще свежи, ночью принес на Капитолий и поставил сделанные втайне изображения Мария и богинь Победы, несущих трофеи. На следующее утро вид этих блестевших золотом и сделанных чрезвычайно искусно изображений, надписи на которых повествовали о победах над кимврами, вызвал у смотрящих чувство изумления перед отвагой человека, воздвигнувшего их (имя его, конечно, не осталось неизвестным).
Слух об этом вскоре распространился, и римляне сбежались поглядеть на изображения. При этом одни кричали, что Цезарь замышляет тираннию, восстанавливая почести, погребенные законами и постановлениями Сената, и что он испытывает народ, желая узнать, готов ли тот, подкупленный его щедростью, покорно терпеть его шутки и затеи. Марианцы же, напротив, сразу появившись во множестве, подбодряли друг друга и с рукоплесканиями заполнили Капитолий; у многих из них выступили слезы радости при виде изображения Мария, и они превозносили Цезаря величайшими похвалами, как единственного человека, который достоин родства с Марием.
По этому поводу было созвано заседание Сената, и Лутаций Катул, пользовавшийся тогда наибольшим влиянием у римлян, выступил с обвинением против Цезаря, бросив известную фразу: „Итак, Цезарь покушается на государство уже не путем подкопа, но с осадными машинами“. Но Цезарь так умело выступил в свою защиту, что Сенат остался удовлетворенным, и сторонники Цезаря еще более осмелели и призывали его ни перед чем не отступать в своих замыслах, ибо поддержка народа обеспечит ему первенство и победу над противниками.
Между тем умер верховный жрец Метелл, и два известнейших человека, пользовавшихся огромным влиянием в Сенате – Сервилий Исаврийский и Катул, – боролись друг с другом, добиваясь этой должности. Цезарь не отступил перед ними и также выставил в Народном собрании свою кандидатуру. Казалось, что все соискатели пользуются равною поддержкой, но Катул, из-за высокого положения, которое он занимал, более других опасался неясного исхода борьбы и потому начал переговоры с Цезарем, предлагая ему большую сумму денег, если он откажется от соперничества. Цезарь, однако, ответил, что будет продолжать борьбу, даже если для этого придется еще бoльшую сумму взять в долг. В день выборов, прощаясь со своей матерью, которая прослезилась, провожая его до дверей, он сказал: „Сегодня, мать, ты увидишь своего сына либо верховным жрецом, либо изгнанником“. На выборах Цезарь одержал верх и этим внушил Сенату и знати опасение, что он сможет увлечь народ на любую дерзость.
Поэтому Пизон и Катул упрекали Цицерона, пощадившего Цезаря, который был замешан в заговоре Катилины. Как известно, Катилина намеревался не только свергнуть существующий строй, но и уничтожить всякую власть и произвести полный переворот. Сам он покинул город, когда против него появились лишь незначительные улики, а важнейшие замыслы оставались еще скрытыми, Лентула же и Цетега оставил в Риме, чтобы они продолжали плести заговор.
Неизвестно, оказывал ли тайно Цезарь в чем-нибудь поддержку и выражал ли сочувствие этим людям, но в Сенате, когда они были полностью изобличены, и консул Цицерон спрашивал у каждого сенатора его мнение о наказании виновных, все высказывались за смертную казнь, пока очередь не дошла до Цезаря, который выступил с заранее обдуманной речью, заявив, что убивать без суда людей, выдающихся по происхождению своему и достоинству, несправедливо и не в обычае римлян, если это не вызвано крайней необходимостью. Если же впредь до полной победы над Катилиной они будут содержаться под стражей в италийских городах, которые может выбрать сам Цицерон, то позже Сенат сможет в обстановке мира и спокойствия решить вопрос о судьбе каждого из них.
Это предложение показалось настолько человеколюбивым и было так сильно и убедительно обосновано, что не только те, кто выступал после Цезаря, присоединились к нему, но и многие из говоривших ранее стали отказываться от своего мнения и поддерживать предложение Цезаря, пока очередь не дошла до Катона и Катула. Эти же начали горячо возражать, а Катон даже высказал в своей речи подозрение против Цезаря и выступил против него со всей резкостью. Наконец, было решено казнить заговорщиков, а когда Цезарь выходил из здания Сената, то на него набросилось с обнаженными мечами много сбежавшихся юношей из числа охранявших тогда Цицерона. Но, как сообщают, Курион, прикрыв Цезаря своей тогой, благополучно вывел его, да и сам Цицерон, когда юноши оглянулись, знаком удержал их, либо испугавшись народа, либо вообще считая такое убийство несправедливым и противозаконным. Если все это правда, то я не понимаю, почему Цицерон в сочинении о своем консульстве ничего об этом не говорит. Позже его обвиняли в том, что он не воспользовался представившейся тогда прекрасной возможностью избавиться от Цезаря, а испугался народа, необычайно привязанного к Цезарю. Эта привязанность проявилась через несколько дней, когда Цезарь пришел в Сенат, чтобы защищаться против выдвинутых подозрений, и был встречен враждебным шумом. Видя, что заседание затягивается дольше обычного, народ с криками сбежался и обступил здание, настоятельно требуя отпустить Цезаря».
Интереснейший момент!
Он отражен и у Светония: «Цезарь привлек на свою сторону многих, в том числе брата консула Цицерона, и добился бы победы, если бы колеблющемуся сенату не придала стойкости речь Марка Катона. Но и тогда он не переставал сопротивляться, пока римские всадники, вооруженной толпой окружавшие Сенат под предлогом охраны, не стали угрожать ему смертью за его непомерное упорство. Они уже подступали к нему с обнаженными клинками, сидевшие рядом сенаторы покинули его, и лишь немногие приняли его под защиту, заключив в объятия и прикрыв тогой. Лишь тогда в явном страхе он отступил и потом до конца года не показывался в Сенате».
Да, нельзя не оценить, сколь очевидны порой тайные знаки Судьбы.
Да, для Цезаря, казалось бы, все обошлось в итоге вполне благополучно, но сами обстоятельства вооруженного конфликта с людьми Цицерона почти в точности предвещали последние минуты грядущего владыки Рима…
Однако вернемся к теме намеренных и непомерных трат и позволим Плутарху закончить: «Поэтому и Катон, сильно опасаясь восстания неимущих, которые, возлагая надежды на Цезаря, воспламеняли и весь народ, убедил Сенат учредить ежемесячные хлебные раздачи для бедняков. Это прибавило к остальным расходам государства новый – в сумме семи миллионов пятисот тысяч драхм ежегодно, но зато отвратило непосредственно угрожавшую великую опасность, так как лишило Цезаря большей части его влияния как раз в то время, когда он собирался занять должность претора и вследствие этого должен был стать еще опаснее».
«Должен был стать еще опаснее» – какой страшный смысл заключают в себе эти слова Плутарха! Они могут быть отнесены к любому, кто идет во власть…
Относительно извечной темы «хлеба и зрелищ» сказано и у Светония: «В должности эдила (то есть Цезарь одновременно курировал всю сферу развлечений, все строительство в Риме, а также осуществлял контроль за всеми храмами! – Г. Б.) он украсил не только комиций и форум с базиликами, но даже на Капитолии выстроил временные портики, чтобы показывать часть убранства от своей щедрости. Игры и травли он устраивал как совместно с товарищем по должности, так и самостоятельно, поэтому даже общие их траты приносили славу ему одному. Его товарищ Марк Бибул открыто признавался, что его постигла участь Поллукса: как храм божественных близнецов на форуме называли просто храмом Кастора, так и его совместную с Цезарем щедрость приписывали одному Цезарю. Вдобавок Цезарь устроил и гладиаторский бой, но вывел меньше сражающихся пар, чем собирался: собранная им отовсюду толпа бойцов привела его противников в такой страх, что особым указом было запрещено кому бы то ни было держать в Риме больше определенного количества гладиаторов».
Однако была и еще одна проблема: Цезарь был вдовцом. Семьи, в политическом понимании, у него не было. Правда, он заботился об их общей с покойной Корнелией дочери и впоследствии удачно выдал ее замуж, но это совсем не то.
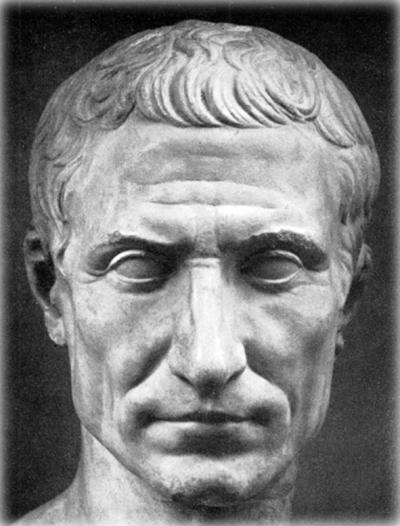
Политик не может быть одинок!
Народ никогда не поймет этого.
Резон очевиден: уж если кому-то не под силу решить семейный вопрос, как же тогда он совладает с целым государством?!
Итак, Цезарю было просто необходимо жениться.
И он это сделал.
Теперь уже в третий раз!
(Впрочем, не в последний…)
Самое забавное, что его избранницей оказалась римлянка Помпея, приходившаяся племянницей… покойному диктатору Сулле!
Да, такова едкая ирония жизни.
Заметим, что батюшкой избранницы Цезаря был сам Руф Помпей Квинт, уже к тому времени покойный, но являвшийся в разные времена и трибуном, и претором, и консулом, а главное – верным партнером Суллы!
Спрашивается, чего ради Цезарю понадобилось связывать себя узами брака с представительницей подобного рода?
Да тут и думать нечего: этого требовали политические интересы!
Женитьба на Помпее давала возможность Юлию Цезарю привлечь на свою сторону тех, кто до сих пор почитал Суллу и скорбел о его кончине. Вот и весь секрет!

Однако за политическую изворотливость Цезарь заплатил изрядную цену. Да, Помпея была молода, очень даже недурна собой и отличалась веселым нравом. В силу своей молодости она толком еще и не помышляла о семье (не говоря о том, чтобы возложить на себя тяжкое бремя обязанностей супруги выдающегося государственного деятеля), ее влекли к себе удовольствия и развлечения. Выйти замуж ее побудили родственники, видевшие для себя особую выгоду в обретении родства с Юлием Цезарем. Сама же Помпея даже не была влюблена в Цезаря, а сердце ее принадлежало некоему Публию Клодию. Этот хитрец и проныра, пекущийся на досуге о нуждах плебса, горел желанием сделать Помпею своей любовницей. Тот факт, что она только что стала женой Цезаря, лишь еще больше его распалял. Помпея, в свою очередь, мечтала о том же. Как упоминает в своем исследовании «Жены двенадцати цезарей» Жак Роэрга де Сервье, она слыла невероятной ветреницей и отличалась просто невероятной влюбчивостью. И покуда Цезарь вершил дела Рима, любовники затевали самые невероятные козни, чтобы урвать несколько мгновений наедине.
О горестном для Юлия Цезаря адюльтере его супруги очень подробно рассказывает Плутарх:
«Был некий человек из числа старинной знати, известный своим богатством и красноречием, но в бесчинстве и дерзости не уступавший никому из прославленных распутников. Он был влюблен в Помпею, жену Цезаря, и пользовался взаимностью. Но женские комнаты строго охранялись, а мать Цезаря Аврелия, почтенная женщина, своим постоянным наблюдением за невесткой делала свидания влюбленных трудными и опасными.
У римлян есть богиня, которую они называют Доброю, а греки – Женскою. Фригийцы выдают ее за свою, считая супругою их царя Мидаса, римляне утверждают, что это нимфа Дриада, жена Фавна, по словам же греков – она та из матерей Диониса, имя которой нельзя называть. Поэтому женщины, участвующие в ее празднике, покрывают шатер виноградными лозами, и у ног богини помещается, в соответствии с мифом, священная змея. Ни одному мужчине нельзя присутствовать на празднестве и даже находиться в доме, где справляется торжество; лишь женщины творят священные обряды, во многом, как говорят, похожие на орфические. Когда приходит день праздника, консул или претор, в доме которого он справляется, должен покинуть дом вместе со всеми мужчинами, жена же его, приняв дом, производит священнодействия. Главная часть их совершается ночью, сопровождаясь играми и музыкой.
В том году праздник справляла Помпея, и Клодий, не имевший еще бороды и поэтому рассчитывавший остаться незамеченным, явился туда, переодевшись в наряд арфистки и неотличимый от молодой женщины. Он нашел двери отпертыми и был благополучно проведен в дом одною из служанок, посвященной в тайну, которая и отправилась вперед, чтобы известить Помпею. Так как она долго не возвращалась, Клодий не вытерпел ожидания на одном месте, где он был оставлен, и стал пробираться вперед по большому дому, избегая ярко освещенных мест. Но с ним столкнулась служанка Аврелии и, полагая, что перед ней женщина, стала приглашать его принять участие в играх и, несмотря на его сопротивление, повлекла его к остальным, спрашивая, кто он и откуда. Когда Клодий ответил, что он ожидает Абру (так звали ту служанку Помпеи), голос выдал его, и служанка Аврелии бросилась на свет, к толпе, и стала кричать, что она обнаружила мужчину. Все женщины были перепуганы этим, Аврелия же, прекратив совершение таинств и прикрыв святыни, приказала запереть двери и начала обходить со светильниками весь дом в поисках Клодия. Наконец его нашли укрывшимся в комнате служанки, которая помогла ему войти в дом, и женщины, обнаружившие его, выгнали его вон. Женщины, разойдясь по домам, еще ночью рассказали своим мужьям о случившемся.
На следующий день по всему Риму распространился слух, что Клодий совершил кощунство и повинен не только перед оскорбленными им, но и перед городом и богами. Один из народных трибунов публично обвинил Клодия в нечестии, и наиболее влиятельные сенаторы выступили против него, обвиняя его наряду с прочими гнусными беспутствами в связи со своей собственной сестрой, женой Лукулла. Но народ воспротивился их стараниям и принял Клодия под защиту, что принесло тому большую пользу в суде, ибо судьи были напуганы и дрожали перед чернью. Цезарь тотчас же развелся с Помпеей. Однако, будучи призван на суд в качестве свидетеля, он заявил, что ему ничего не известно относительно того, в чем обвиняют Клодия. Это заявление показалось очень странным, и обвинитель спросил его: „Но почему же тогда ты развелся со своей женой?“ – „Потому, – ответил Цезарь, – что на мою жену не должна падать даже тень подозрения“. Одни говорят, что он ответил так, как действительно думал, другие же – что он сделал это из угождения народу, желавшему спасти Клодия. Клодий был оправдан, так как большинство судей подало при голосовании таблички с неразборчивой подписью, чтобы осуждением не навлечь на себя гнев черни, а оправданием – бесславие среди знатных».
Вот так завершилась эта отвратительная история.
Если бы Клодий был осужден, его бы непременно удавили.
И поделом ему!
Однако свершилось иное.
Хоть и будучи знатного рода, Клодий впредь неизменно возвещал о своих симпатиях к народу (словно бы помня, благодаря кому сохранил жизнь) и в итоге добился для себя должности народного трибуна! В этом качестве он впоследствии попортил немало крови Цицерону, став чуть ли не главным оппонентом последнего на политическом олимпе.
Благодаря презренному Клодию, как вы уже знаете, завершился третий брак Юлия Цезаря. Это был не самый краткосрочный брак в его жизни (66–62 гг. до н. э.), и он, надо думать, все ж таки кое-чему его научил. Тем более что Цезарю предстояло впоследствии отважиться на еще одно бракосочетание; но об этом речь впереди…
Крушение брака было символичным.
Цезарь мучительно нуждался в переменах.
Причем самых коренных!
Он непоправимо увяз в грязной политической возне, а вдобавок ему не давали покоя кредиторы. Как известно, рано или поздно за все приходится платить. Лучшим выходом для Цезаря было бы оставить Рим.
Естественно, на время.
Речь отнюдь не шла о добровольном статусе пожизненного изгнанника.
Просто человеку было необходимо прийти в себя, разобраться с чувствами, осмыслить дела былые и реально подумать о грядущем.
Глава 4
Испания: первое боевое крещение
Будучи претором, он мог выбирать, куда ему отправиться.
Плутарх пишет:
«После претуры Цезарь получил в управление провинцию Испанию. Так как он не смог прийти к соглашению со своими кредиторами, с криком осаждавшими его и противодействовавшими его отъезду, он обратился за помощью к Крассу, самому богатому из римлян. Крассу нужны были сила и энергия Цезаря для борьбы против Помпея; поэтому он удовлетворил наиболее настойчивых и неумолимых кредиторов Цезаря и, дав поручительство на сумму в восемьсот тридцать талантов, предоставил Цезарю возможность отправиться в провинцию.
Рассказывают, что, когда Цезарь перевалил через Альпы и проезжал мимо бедного городка с крайне немногочисленным варварским населением, его приятели спросили со смехом: „Неужели и здесь есть соревнование из-за должностей, споры о первенстве, раздоры среди знати?“ – „Что касается меня, – ответил им Цезарь с полной серьезностью, – то я предпочел бы быть первым здесь, чем вторым в Риме“. В другой раз, уже в Испании, читая на досуге что-то из написанного о деяниях Александра, Цезарь погрузился на долгое время в задумчивость, а потом даже прослезился. Когда удивленные друзья спросили его о причине, он ответил: „Неужели вам кажется недостаточной причиной для печали то, что в моем возрасте Александр уже правил столькими народами, а я до сих пор еще не совершил ничего замечательного!“»
Плутарх пишет:
«После претуры Цезарь получил в управление провинцию Испанию. Так как он не смог прийти к соглашению со своими кредиторами, с криком осаждавшими его и противодействовавшими его отъезду, он обратился за помощью к Крассу, самому богатому из римлян. Крассу нужны были сила и энергия Цезаря для борьбы против Помпея; поэтому он удовлетворил наиболее настойчивых и неумолимых кредиторов Цезаря и, дав поручительство на сумму в восемьсот тридцать талантов, предоставил Цезарю возможность отправиться в провинцию.
Рассказывают, что, когда Цезарь перевалил через Альпы и проезжал мимо бедного городка с крайне немногочисленным варварским населением, его приятели спросили со смехом: „Неужели и здесь есть соревнование из-за должностей, споры о первенстве, раздоры среди знати?“ – „Что касается меня, – ответил им Цезарь с полной серьезностью, – то я предпочел бы быть первым здесь, чем вторым в Риме“. В другой раз, уже в Испании, читая на досуге что-то из написанного о деяниях Александра, Цезарь погрузился на долгое время в задумчивость, а потом даже прослезился. Когда удивленные друзья спросили его о причине, он ответил: „Неужели вам кажется недостаточной причиной для печали то, что в моем возрасте Александр уже правил столькими народами, а я до сих пор еще не совершил ничего замечательного!“»
