«Бука», однако, не унимался. Еще один его манифест – «Буква как таковая» (1913). В нем Крученых совсем по-символистски утверждает, что поэт (речарь), сам переписывая произведение, воздействует на читателя каким-то мистическим образом. «Почерк, своеобразно измененный настроением, передает это настроение читателю, независимо от слов. Так же должно поставить вопрос о письменных, зримых или просто осязаемых, точно рукою слепца, знаках. Понятно, необязательно, чтобы речарь был бы и писцом книги саморунной, пожалуй, лучше, если бы сей поручил это художнику».
Книги футуристов, часто напечатанные небольшим тиражом, на обойной бумаге, разными шрифтами, с обложкой из мешковины, через много лет стали предметом коллекционирования. Но радикальный, предельный характер авангардистского эксперимента Крученых быстро обнаружил свою исчерпанность. Заумные стихи Крученых и других футуристов были эффектны как одноразовый жест, но невозможны как постоянная художественная практика.
В 1915 году вышел совместный сборник Крученых и Алягрова (под этим псевдонимом скрылся будущий знаменитый лингвист Р. О. Якобсон) «Заумная гнига». В него был включен «Евген. Онегин в 2 строч»:
Велимир (настоящее имя Виктор Владимирович) Хлебников (1885–1922) пошел другим путем, предлагая «сделать заумный язык разумным». В его варианте заумь – это не освобождение от смысла, а, напротив, тотальная семантизация всех элементов языка, включая фонетику; и не личная причуда, а глубинное, уходящее в историческое прошлое, свойство языка, способное вновь объединить человечество.
«Вся полнота языка должна быть разложена на основные единицы «азбучных истин», и тогда для звуко-веществ может быть построено что-то вроде закона Менделеева, – утверждает Хлебников («Наша основа», 1919). И показывает на конкретных примерах, как можно этот закон отыскать.
С точки зрения Хлебникова, заумный язык исходит из двух предпосылок: «первая согласная простого слова управляет всем словом, приказывает остальным», а слова, начинающиеся с одной и той же согласной, объединяются каким-то понятием, «летят с разных сторон в одну и ту же точку рассудка». Следовательно, всматриваясь в слова, начинающиеся с одной согласной, мы можем обнаружить ее глубинную, неосознаваемую семантику. «Если взять одно слово, допустим, чашка, то мы не знаем, какое значение имеет для целого слова каждый отдельный звук. Но если собрать все слова с первым звуком Ч (чаша, череп, чан, чулок и т. д.), то все остальные звуки друг друга уничтожат, и то общее значение, какое есть у этих слов, и будет значением Ч. Сравнивая эти слова на Ч, мы видим, что все они значат „одно тело в оболочке другого“; Ч – значит „оболочка“. И таким образом заумный язык перестает быть заумным. Он делается игрой на осознанной нами азбуке – новым искусством, у порога которого мы стоим».
Потом Хлебников делает резкий бросок от лингвистики к истории: «Таким образом, заумный язык есть грядущий мировой язык в зародыше. Только он может соединить людей».
«Плохая физика, но какая смелая поэзия!» – воскликнул Пушкин в примечаниях к «Подражаниям Корану», цитируя священную книгу мусульман. То же самое можно сказать о Хлебникове: это фантастическая лингвистика, но удивительная поэзия. Маяковский после смерти Хлебникова назвал его «Колумбом новых поэтических материков». Действительно, Хлебников был футуристом par sang, по составу крови. Он заглядывал в далекое прошлое и далекое будущее, наряду с поисками всеобщего языка фантазировал о домах будущего, пытался найти математические законы истории и, опираясь на них, составлял «Доски судьбы».
Таким же органическим экспериментатором он был в поэзии. Сравним с пятистишием Крученых хлебниковское «Заклятие смехом» (1908–1909), написанное еще до того, как футуристы объявили о своем существовании.
Поэзия Хлебникова часто трудна: он постоянно меняет ритм в пределах одного произведения, использует редкие фольклорные и литературные ассоциации. Многие его тексты сохранились лишь в черновых вариантах, поэтому и композицию их трудно восстановить. Маяковский называл Хлебникова поэтом для поэтов.
Но одновременно (чаще всего – в коротких стихотворениях) Хлебников способен создавать образы поразительной простоты и красоты, похожие на пословицу, народную песню, пушкинские стихи.
НОВЫЙ РЕАЛИЗМ: АРХАИСТЫ И НОВАТОРЫ
ИТОГИ: НАПРАВЛЕНИЕ И ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Александр Александрович
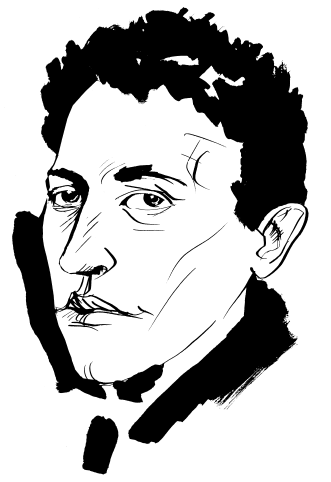
ФИЛОЛОГ: РЕКТОРСКИЙ ФЛИГЕЛЬ И ШАХМАТОВСКИЙ ДОМ
Книги футуристов, часто напечатанные небольшим тиражом, на обойной бумаге, разными шрифтами, с обложкой из мешковины, через много лет стали предметом коллекционирования. Но радикальный, предельный характер авангардистского эксперимента Крученых быстро обнаружил свою исчерпанность. Заумные стихи Крученых и других футуристов были эффектны как одноразовый жест, но невозможны как постоянная художественная практика.
В 1915 году вышел совместный сборник Крученых и Алягрова (под этим псевдонимом скрылся будущий знаменитый лингвист Р. О. Якобсон) «Заумная гнига». В него был включен «Евген. Онегин в 2 строч»:
Представим, что объем этого «Евгения Онегина» (Крученых просто выписал из романа некоторые словосочетания и окончания) равен пушкинскому. Текст заумного «романа в стихах» увеличится количественно, но качественно не изменится. Пятистишием (или даже двустишием) смысл заумного языка практически исчерпан: читателю предъявлены диссонирующие, труднопроизносимые, непонятные звуко– и словосочетания, «тяжелая и грубая» (определения Крученых) «фактура слова», отрицающая прежнюю гармоническую звукопись, тесно связанную со смыслом («И тихую песню он пел»).
Ени вони
Се и Тея.
Велимир (настоящее имя Виктор Владимирович) Хлебников (1885–1922) пошел другим путем, предлагая «сделать заумный язык разумным». В его варианте заумь – это не освобождение от смысла, а, напротив, тотальная семантизация всех элементов языка, включая фонетику; и не личная причуда, а глубинное, уходящее в историческое прошлое, свойство языка, способное вновь объединить человечество.
«Вся полнота языка должна быть разложена на основные единицы «азбучных истин», и тогда для звуко-веществ может быть построено что-то вроде закона Менделеева, – утверждает Хлебников («Наша основа», 1919). И показывает на конкретных примерах, как можно этот закон отыскать.
С точки зрения Хлебникова, заумный язык исходит из двух предпосылок: «первая согласная простого слова управляет всем словом, приказывает остальным», а слова, начинающиеся с одной и той же согласной, объединяются каким-то понятием, «летят с разных сторон в одну и ту же точку рассудка». Следовательно, всматриваясь в слова, начинающиеся с одной согласной, мы можем обнаружить ее глубинную, неосознаваемую семантику. «Если взять одно слово, допустим, чашка, то мы не знаем, какое значение имеет для целого слова каждый отдельный звук. Но если собрать все слова с первым звуком Ч (чаша, череп, чан, чулок и т. д.), то все остальные звуки друг друга уничтожат, и то общее значение, какое есть у этих слов, и будет значением Ч. Сравнивая эти слова на Ч, мы видим, что все они значат „одно тело в оболочке другого“; Ч – значит „оболочка“. И таким образом заумный язык перестает быть заумным. Он делается игрой на осознанной нами азбуке – новым искусством, у порога которого мы стоим».
Потом Хлебников делает резкий бросок от лингвистики к истории: «Таким образом, заумный язык есть грядущий мировой язык в зародыше. Только он может соединить людей».
«Плохая физика, но какая смелая поэзия!» – воскликнул Пушкин в примечаниях к «Подражаниям Корану», цитируя священную книгу мусульман. То же самое можно сказать о Хлебникове: это фантастическая лингвистика, но удивительная поэзия. Маяковский после смерти Хлебникова назвал его «Колумбом новых поэтических материков». Действительно, Хлебников был футуристом par sang, по составу крови. Он заглядывал в далекое прошлое и далекое будущее, наряду с поисками всеобщего языка фантазировал о домах будущего, пытался найти математические законы истории и, опираясь на них, составлял «Доски судьбы».
Таким же органическим экспериментатором он был в поэзии. Сравним с пятистишием Крученых хлебниковское «Заклятие смехом» (1908–1909), написанное еще до того, как футуристы объявили о своем существовании.
В отличие от Крученых Хлебников работает с продуктивными словообразовательными моделями, не разрушая, а обогащая языковую семантику. Как фокусник вынимает кролика из пустой шляпы, Хлебников образует от одного корня все новые и новые неологизмы, демонстрируя неисчерпаемое богатство возможностей русского языка. Словообразования Крученых не вышли за пределы его пятистишия, остались индивидуальным экспериментом, понятным лишь в контексте футуристического эпатажа. Слова Хлебникова либо вошли в русский язык (в 1920-е годы издавался журнал «Смехач»; в словари включаются летчик, творяне), либо могут быть поняты читателем, при необходимости включены в собственную речевую практику (Маяковскому смехачи представлялись силачами, смеюнчики – хитрыми, смеево – страной смеха).
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют
смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешит надсмеяльных – смех усмейных
смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных
смеячей!
Смейево, смейево,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Поэзия Хлебникова часто трудна: он постоянно меняет ритм в пределах одного произведения, использует редкие фольклорные и литературные ассоциации. Многие его тексты сохранились лишь в черновых вариантах, поэтому и композицию их трудно восстановить. Маяковский называл Хлебникова поэтом для поэтов.
Но одновременно (чаще всего – в коротких стихотворениях) Хлебников способен создавать образы поразительной простоты и красоты, похожие на пословицу, народную песню, пушкинские стихи.
Когда умирают кони – дышат,
Когда умирают травы – сохнут,
Когда умирают солнца – они гаснут,
Когда умирают люди – поют песни.
(«Когда умирают кони – дышат…», 1912)
Особое истолкование футуризма предложил В. Маяковский. Являясь активным участником многочисленных футуристских поездок, полемик и выступлений, он дальше всех находился от зауми. Его футуризм был, прежде всего, поэзией города и опытом новой живописи словом и новых ритмов. (О поэзии Маяковского пойдет речь в специальной главе.)
Мне мало надо!
Краюшку хлеба
И каплю молока.
Да это небо,
Да эти облака!
(«Мне мало надо…», 1912, 1922)
НОВЫЙ РЕАЛИЗМ: АРХАИСТЫ И НОВАТОРЫ
Эстетическое доминирование модернизма на рубеже XIX и XX веков не прерывает реалистическую традицию. В основе реализма (более широко его можно обозначить как миметическую поэтику) – воспроизведение не иных миров, а этого мира, причем, в отличие от акмеистов, не только в его предметном, вещном, но и в историческом и социальном аспектах. Общее определение реалистического искусства предложил в свое время Н. Г. Чернышевский в «Эстетических отношениях искусства к действительности» (1854–1855): «Воспроизведение жизни – общий характеристический признак искусства, часто произведения искусства имеют значение объяснения жизни, часто они имеют значение приговора о явлениях жизни».
«Что такое реализм? Кратко говоря: объективное изображение действительности, изображение, которое выхватывает из хаоса житейских событий, человеческих взаимоотношений и характеров наиболее общезначимое, наичаще повторяющееся, слагает наиболее часто встречающиеся в событиях и характерах черточки и факты и создает из них картины жизни, типы людей. <…> Писатель-реалист склонен к синтезу, к сводке общезначимого, всем людям его эпохи свойственного в единое, целостное. Это единое суть типичное, и помимо своей стройности, красоты – ценности эстетической – оно имеет для нас ценность неоспоримого исторического документа», – пытался объяснить себе и слушателям своих лекций через полвека особенности реализма М. Горький («История русской литературы», 1908–1909).
Реализм, следовательно, ориентирован на действительность, создает картину реальности, отвечающую критериям историзма (типические обстоятельства), как в воспроизведении внешнего, предметного мира (точность деталей), так и человеческой психологии (типические характеры). Реализм ориентирован на критерии обычного «нормального» восприятия: все как в жизни.
Однако этот критерий на самом деле не очень ясен: когда-то для творцов мифа реальностью были боги и герои, для странницы Феклуши у Островского реальностью являются люди с песьими головами и неправославные салтаны Махнут турецкий и Махнут персидский. «Все может быть! Все может быть!» – повторяет герой повести Чехова «Моя жизнь», простодушный маляр Редька (эта поговорка нравилась Л. Толстому).
Классический реализм XIX века был очень широк и разнообразен. Он включал как очевидно «жизнеподобные» повести и романы Толстого, Тургенева, Гончарова, пьесы Островского, так и фантастический реализм Достоевского, гротескный реализм Салтыкова-Щедрина, реалистическую лирику Некрасова, в которых, при сохранении общей установки на воспроизведение, объяснение и приговор реальности, некоторые из привычных критериев реализма существенно нарушались, трансформировались.
Из русских реалистов, начинавших в эпоху натуральной школы, до символизма дожил лишь Лев Толстой. Последним, подкидышем, в семье русских реалистов XIX века, оказывается, как мы помним, Чехов. Он смотрит на реалистическую традицию уже чуть со стороны и реализует ее в иных, чем классические реалисты, формах.
Главные реалисты модернистской эпохи словно распределили между собой обязанности и реалистические принципы. Приговор, отчетливо выраженная идея становилась доминантой произведений позднего Толстого, повестей и притч, социально-идеологического романа «Воскресение» (1899). Чехов, напротив, считает главной задачей как раз воспроизведение жизни, оставляя оценку, приговор, читателю.
«Цель моя – убить сразу двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и кстати показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из нас. Все мы знаем, что такое бесчестный поступок, но что такое честь – мы не знаем. Буду держаться той рамки, которая ближе сердцу и уже испытана людьми посильнее и умнее меня. Рамка эта – абсолютная свобода человека, свобода от насилия, от предрассудков, невежества, черта, свобода от страстей и проч.» (А. Н. Плещееву, 9 апреля 1889 г.).
«Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам» (А. С. Суворину, 1 апреля 1890 г.).
Чеховский реализм воспринимался современниками уже в новом качестве: как синтез противоположных, конкурирующих эстетических концепций. В творчестве Чехова и реалисты, и модернисты находили близкие себе черты и свойства.
Прочитав «Даму с собачкой», историю о драматически запоздавшей, безнадежной любви на фоне точно воссозданного ялтинского, московского провинциального быта, Максим Горький написал автору: «Знаете, что Вы делаете? Убиваете реализм. И убьете Вы его скоро – насмерть, надолго. Эта форма отжила свое время – факт! Дальше Вас – никто не может идти по сей стезе, никто не может писать так просто о таких простых вещах, как Вы это умеете. После самого незначительного Вашего рассказа – все кажется грубым, написанным не пером, а точно поленом. И – главное – все кажется не простым, т. е. не правдивым. <…> Да, так вот, – реализм Вы укокошите. Я этому чрезвычайно рад. Будет уж! Ну его к черту! Право же – настало время нужды в героическом: все хотят возбуждающего, яркого, такого, знаете, чтобы не было похоже на жизнь, а было выше ее, лучше, красивее. Обязательно нужно, чтобы теперешняя литература немножко начала прикрашивать жизнь, и, как только она это начнет, – жизнь прикрасится, т. е. люди заживут быстрее, ярче» (после 5 января 1900 г.).
Андрей Белый словно продолжил эти размышления. В «Вишневом саде» он усмотрел реализм, который, «истончая реальность», «сквозит символами» («Вишневый сад», 1904). А в статье о писателе-модернисте сказал так: «Чехов оказался внутренним, но тайным врагом реализма, оставаясь реалистом» («Сологуб», 1908).
Однако подобные оценки нельзя понимать в прямом, буквальном смысле. «Горьковская формула „вы убиваете реализм“ обозначает, в сущности говоря, нечто прямо противоположное тому, что она значит по своему внешнему смыслу. „Вы убиваете реализм“ – это значит: „Вы даете реализму новую жизнь, вы перестраиваете его”», – объяснял Г. А. Вялый («К вопросу о русском реализме конца XIX века», 1946).
Перестройка реализма в модернистскую эпоху наметилась в двух противоположных направлениях. Одни писатели, используя традиционные формы социально-психологического романа и повести, внесли в них новые социальные мотивы, продолжили панораму современной жизни, опираясь как на марксистские идеи классовой борьбы, так и на общественный заказ, «нужду в героическом».
Этот «героический реализм» в разной степени культивировали сам М. Горький, В. Г. Короленко (1853–1921), А. И. Куприн (1870–1938). Более трезвый, лишенный героических иллюзий, вариант реалистического бытописания представляло раннее творчество Л. Н. Андреева (1871–1919) и И. А. Бунина. Большинство этих писателей, как и многие другие, менее известные (А. С. Серафимович, В. В. Вересаев), публиковались в долгое время руководимом М. Горьким издательстве «Знание» (1898–1913). Поэтому реалистов начала XX века часто называли «знаньевцами».
К ним внимательно присматривались писатели-модернисты. Одна из статей А. Блока посвящена как раз писателям этой группы. В них Блок увидел как «бытовиков», так и «отрицателей быта», однако заметил и общее, объединяющее их свойство: «Почти все они как-то дружно и сплоченно работают над одной большой темой – русской революцией» («О реалистах», 1907).
Блок, как и Андрей Белый на примере Чехова, пытается найти связующие модернистов и реалистов нити, построить мост между двумя «враждебными станами». «Одно из очень характерных явлений нашей эпохи – это „встреча“ „реалистов“ и „символистов“. Встреча холодная, вечерняя, взаимное полупризнание; точно Монтекки и Капулетти, примирившиеся слишком поздно, когда уже не стало Ромео и Джульетты. <…> Реалисты тянутся к символизму, потому что они стосковались на равнинах русской действительности и жаждут тайны и красоты. <…> Символисты идут к реализму, потому что им опостылел спертый воздух „келий“, им хочется вольного воздуха, широкой деятельности, здоровой работы. <…> Движение русского символизма к реализму началось с давних пор, чуть ли не с самого зарождения русского символизма» («О современной критике», 1907).
Критики-марксисты считали реалистов-знаньевцев своими соратниками. «В нашей художественной литературе ныне замечается некий уклон в сторону реализма. Писателей, изображающих «грубую жизнь», теперь гораздо больше, чем было в недавние годы. М. Горький, гр. А. Толстой, Бунин, Шмелев, Сургучев и др. рисуют в своих произведениях не „сказочные дали“, не таинственных „таитян“, а подлинную русскую жизнь со всеми ее ужасами, повседневной обыденщиной», – писал М. Калинин (псевдоним К. С. Еремеева, 1874–1931) в статье «Возрождение реализма» (1914), опубликованной в большевистской газете «Путь правды», считая этот процесс «результатом подъема рабочего движения».
Позднее, уже в советское время, на основе написанных в знаньевскую эпоху произведений Горького (драма «Враги», 1906; роман «Мать», 1906–1907) была создана концепция «социалистического реализма», основоположником которого и объявили «пролетарского писателя» (об этом еще пойдет речь в следующих главах).
Но существовала и вторая версия реализма, в основе которой – не отрицание модернистских экспериментов, а включение их в реалистическую поэтику. Эта концепция связана, прежде всего, с именем Е. И. Замятина (1884–1937). Опираясь на философию, и в то же время активно используя метафорические характеристики, Замятин выстроил диалектическую триаду литературы серебряного века.
Бытовики, реалисты (Горький, Куприн, Чехов, Бунин) – тезис. «У этих писателей – все – телесно, все – на земле, все – из жизни. <…> Писатели этого времени – великолепные зеркала. Их зеркала направлены на землю и их искусство в том, чтобы в маленьком осколке зеркала – в книге, в повести, в рассказе – отразить наиболее правильно наиболее яркий кусок земли. <…> У реалистов, по крайней мере, у старших, – есть религия и есть Бог. Эта религия – земля и этот Бог – человек».
Символисты – антитезис. «В начале XX века русская литература очень решительно отделилась от земли: появились так называемые символисты. <…> Символисты – Федор Сологуб, А. Белый, Гиппиус, Блок, Брюсов, Бальмонт, Андреев, Чулков, Вячеслав Иванов, Минский, Волошин – определенно враждебны быту. <…> На земле символисты не находят разрешения вопросов, разрешения трагедии и ищут его в надземных пространствах. Отсюда – их религиозность. Но, естественно, их Бог уже не человек, а высшее существо. У одних этот Бог со знаком „плюс“ – Ариман, Христос, у других со знаком „минус“ – Ормузд, Дьявол, Люцифер. <…> О писателях-реалистах я говорил, что у них в руках зеркало; о писателях-символистах можно сказать, что у них в руках – рентгеновский аппарат».
Новые реалисты – синтез, итог литературного развития начала XX века. В эту группу Замятин включает как собственно реалистов, прозаиков-бытописателей (А. Толстой, М. Пришвин, И. Шмелев), так и поэтов (акмеистов, С. Есенина и Н. Клюева), и даже «раскаявшихся», перешедших на новую стадию развития символистов (А. Белый, Ф. Сологуб), а также самого себя. Особенности этого скорее не направления, а мировоззрения Замятин опять поясняет с помощью сравнения: «Вы помните пример: облака на вершине высокой горы. Писатели-реалисты принимали облака так, как они видели: розовые, золотые – или грозовые, черные. Писатели-символисты имели мужество взобраться на вершину и убедиться, что нет ни розовых, ни золотых, а только один туман, слякоть. Писатели-новореалисты были на вершине вместе с символистами и видели, что облака – туман. Но спустившись с горы – они имели мужество сказать: „Пусть туман – все-таки весело“. И вот в произведениях писателей-неореалистов мы находим действенное, активное отрицание жизни – во имя борьбы за лучшую жизнь. <…> Реалисты жили в жизни, символисты имели мужество уйти от жизни, новореалисты имели мужество вернуться к жизни. Но они вернулись к жизни, может быть, слишком знающими, слишком мудрыми. И оттого у большинства из них – нет религии. Есть два способа преодолеть трагедию жизни: религия или ирония. Неореалисты избрали второй способ. Они не верят ни в Бога, ни в человека» («Современная русская литература», 1918).
«Что такое реализм? Кратко говоря: объективное изображение действительности, изображение, которое выхватывает из хаоса житейских событий, человеческих взаимоотношений и характеров наиболее общезначимое, наичаще повторяющееся, слагает наиболее часто встречающиеся в событиях и характерах черточки и факты и создает из них картины жизни, типы людей. <…> Писатель-реалист склонен к синтезу, к сводке общезначимого, всем людям его эпохи свойственного в единое, целостное. Это единое суть типичное, и помимо своей стройности, красоты – ценности эстетической – оно имеет для нас ценность неоспоримого исторического документа», – пытался объяснить себе и слушателям своих лекций через полвека особенности реализма М. Горький («История русской литературы», 1908–1909).
Реализм, следовательно, ориентирован на действительность, создает картину реальности, отвечающую критериям историзма (типические обстоятельства), как в воспроизведении внешнего, предметного мира (точность деталей), так и человеческой психологии (типические характеры). Реализм ориентирован на критерии обычного «нормального» восприятия: все как в жизни.
Однако этот критерий на самом деле не очень ясен: когда-то для творцов мифа реальностью были боги и герои, для странницы Феклуши у Островского реальностью являются люди с песьими головами и неправославные салтаны Махнут турецкий и Махнут персидский. «Все может быть! Все может быть!» – повторяет герой повести Чехова «Моя жизнь», простодушный маляр Редька (эта поговорка нравилась Л. Толстому).
Классический реализм XIX века был очень широк и разнообразен. Он включал как очевидно «жизнеподобные» повести и романы Толстого, Тургенева, Гончарова, пьесы Островского, так и фантастический реализм Достоевского, гротескный реализм Салтыкова-Щедрина, реалистическую лирику Некрасова, в которых, при сохранении общей установки на воспроизведение, объяснение и приговор реальности, некоторые из привычных критериев реализма существенно нарушались, трансформировались.
Из русских реалистов, начинавших в эпоху натуральной школы, до символизма дожил лишь Лев Толстой. Последним, подкидышем, в семье русских реалистов XIX века, оказывается, как мы помним, Чехов. Он смотрит на реалистическую традицию уже чуть со стороны и реализует ее в иных, чем классические реалисты, формах.
Главные реалисты модернистской эпохи словно распределили между собой обязанности и реалистические принципы. Приговор, отчетливо выраженная идея становилась доминантой произведений позднего Толстого, повестей и притч, социально-идеологического романа «Воскресение» (1899). Чехов, напротив, считает главной задачей как раз воспроизведение жизни, оставляя оценку, приговор, читателю.
«Цель моя – убить сразу двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и кстати показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из нас. Все мы знаем, что такое бесчестный поступок, но что такое честь – мы не знаем. Буду держаться той рамки, которая ближе сердцу и уже испытана людьми посильнее и умнее меня. Рамка эта – абсолютная свобода человека, свобода от насилия, от предрассудков, невежества, черта, свобода от страстей и проч.» (А. Н. Плещееву, 9 апреля 1889 г.).
«Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам» (А. С. Суворину, 1 апреля 1890 г.).
Чеховский реализм воспринимался современниками уже в новом качестве: как синтез противоположных, конкурирующих эстетических концепций. В творчестве Чехова и реалисты, и модернисты находили близкие себе черты и свойства.
Прочитав «Даму с собачкой», историю о драматически запоздавшей, безнадежной любви на фоне точно воссозданного ялтинского, московского провинциального быта, Максим Горький написал автору: «Знаете, что Вы делаете? Убиваете реализм. И убьете Вы его скоро – насмерть, надолго. Эта форма отжила свое время – факт! Дальше Вас – никто не может идти по сей стезе, никто не может писать так просто о таких простых вещах, как Вы это умеете. После самого незначительного Вашего рассказа – все кажется грубым, написанным не пером, а точно поленом. И – главное – все кажется не простым, т. е. не правдивым. <…> Да, так вот, – реализм Вы укокошите. Я этому чрезвычайно рад. Будет уж! Ну его к черту! Право же – настало время нужды в героическом: все хотят возбуждающего, яркого, такого, знаете, чтобы не было похоже на жизнь, а было выше ее, лучше, красивее. Обязательно нужно, чтобы теперешняя литература немножко начала прикрашивать жизнь, и, как только она это начнет, – жизнь прикрасится, т. е. люди заживут быстрее, ярче» (после 5 января 1900 г.).
Андрей Белый словно продолжил эти размышления. В «Вишневом саде» он усмотрел реализм, который, «истончая реальность», «сквозит символами» («Вишневый сад», 1904). А в статье о писателе-модернисте сказал так: «Чехов оказался внутренним, но тайным врагом реализма, оставаясь реалистом» («Сологуб», 1908).
Однако подобные оценки нельзя понимать в прямом, буквальном смысле. «Горьковская формула „вы убиваете реализм“ обозначает, в сущности говоря, нечто прямо противоположное тому, что она значит по своему внешнему смыслу. „Вы убиваете реализм“ – это значит: „Вы даете реализму новую жизнь, вы перестраиваете его”», – объяснял Г. А. Вялый («К вопросу о русском реализме конца XIX века», 1946).
Перестройка реализма в модернистскую эпоху наметилась в двух противоположных направлениях. Одни писатели, используя традиционные формы социально-психологического романа и повести, внесли в них новые социальные мотивы, продолжили панораму современной жизни, опираясь как на марксистские идеи классовой борьбы, так и на общественный заказ, «нужду в героическом».
Этот «героический реализм» в разной степени культивировали сам М. Горький, В. Г. Короленко (1853–1921), А. И. Куприн (1870–1938). Более трезвый, лишенный героических иллюзий, вариант реалистического бытописания представляло раннее творчество Л. Н. Андреева (1871–1919) и И. А. Бунина. Большинство этих писателей, как и многие другие, менее известные (А. С. Серафимович, В. В. Вересаев), публиковались в долгое время руководимом М. Горьким издательстве «Знание» (1898–1913). Поэтому реалистов начала XX века часто называли «знаньевцами».
К ним внимательно присматривались писатели-модернисты. Одна из статей А. Блока посвящена как раз писателям этой группы. В них Блок увидел как «бытовиков», так и «отрицателей быта», однако заметил и общее, объединяющее их свойство: «Почти все они как-то дружно и сплоченно работают над одной большой темой – русской революцией» («О реалистах», 1907).
Блок, как и Андрей Белый на примере Чехова, пытается найти связующие модернистов и реалистов нити, построить мост между двумя «враждебными станами». «Одно из очень характерных явлений нашей эпохи – это „встреча“ „реалистов“ и „символистов“. Встреча холодная, вечерняя, взаимное полупризнание; точно Монтекки и Капулетти, примирившиеся слишком поздно, когда уже не стало Ромео и Джульетты. <…> Реалисты тянутся к символизму, потому что они стосковались на равнинах русской действительности и жаждут тайны и красоты. <…> Символисты идут к реализму, потому что им опостылел спертый воздух „келий“, им хочется вольного воздуха, широкой деятельности, здоровой работы. <…> Движение русского символизма к реализму началось с давних пор, чуть ли не с самого зарождения русского символизма» («О современной критике», 1907).
Критики-марксисты считали реалистов-знаньевцев своими соратниками. «В нашей художественной литературе ныне замечается некий уклон в сторону реализма. Писателей, изображающих «грубую жизнь», теперь гораздо больше, чем было в недавние годы. М. Горький, гр. А. Толстой, Бунин, Шмелев, Сургучев и др. рисуют в своих произведениях не „сказочные дали“, не таинственных „таитян“, а подлинную русскую жизнь со всеми ее ужасами, повседневной обыденщиной», – писал М. Калинин (псевдоним К. С. Еремеева, 1874–1931) в статье «Возрождение реализма» (1914), опубликованной в большевистской газете «Путь правды», считая этот процесс «результатом подъема рабочего движения».
Позднее, уже в советское время, на основе написанных в знаньевскую эпоху произведений Горького (драма «Враги», 1906; роман «Мать», 1906–1907) была создана концепция «социалистического реализма», основоположником которого и объявили «пролетарского писателя» (об этом еще пойдет речь в следующих главах).
Но существовала и вторая версия реализма, в основе которой – не отрицание модернистских экспериментов, а включение их в реалистическую поэтику. Эта концепция связана, прежде всего, с именем Е. И. Замятина (1884–1937). Опираясь на философию, и в то же время активно используя метафорические характеристики, Замятин выстроил диалектическую триаду литературы серебряного века.
Бытовики, реалисты (Горький, Куприн, Чехов, Бунин) – тезис. «У этих писателей – все – телесно, все – на земле, все – из жизни. <…> Писатели этого времени – великолепные зеркала. Их зеркала направлены на землю и их искусство в том, чтобы в маленьком осколке зеркала – в книге, в повести, в рассказе – отразить наиболее правильно наиболее яркий кусок земли. <…> У реалистов, по крайней мере, у старших, – есть религия и есть Бог. Эта религия – земля и этот Бог – человек».
Символисты – антитезис. «В начале XX века русская литература очень решительно отделилась от земли: появились так называемые символисты. <…> Символисты – Федор Сологуб, А. Белый, Гиппиус, Блок, Брюсов, Бальмонт, Андреев, Чулков, Вячеслав Иванов, Минский, Волошин – определенно враждебны быту. <…> На земле символисты не находят разрешения вопросов, разрешения трагедии и ищут его в надземных пространствах. Отсюда – их религиозность. Но, естественно, их Бог уже не человек, а высшее существо. У одних этот Бог со знаком „плюс“ – Ариман, Христос, у других со знаком „минус“ – Ормузд, Дьявол, Люцифер. <…> О писателях-реалистах я говорил, что у них в руках зеркало; о писателях-символистах можно сказать, что у них в руках – рентгеновский аппарат».
Новые реалисты – синтез, итог литературного развития начала XX века. В эту группу Замятин включает как собственно реалистов, прозаиков-бытописателей (А. Толстой, М. Пришвин, И. Шмелев), так и поэтов (акмеистов, С. Есенина и Н. Клюева), и даже «раскаявшихся», перешедших на новую стадию развития символистов (А. Белый, Ф. Сологуб), а также самого себя. Особенности этого скорее не направления, а мировоззрения Замятин опять поясняет с помощью сравнения: «Вы помните пример: облака на вершине высокой горы. Писатели-реалисты принимали облака так, как они видели: розовые, золотые – или грозовые, черные. Писатели-символисты имели мужество взобраться на вершину и убедиться, что нет ни розовых, ни золотых, а только один туман, слякоть. Писатели-новореалисты были на вершине вместе с символистами и видели, что облака – туман. Но спустившись с горы – они имели мужество сказать: „Пусть туман – все-таки весело“. И вот в произведениях писателей-неореалистов мы находим действенное, активное отрицание жизни – во имя борьбы за лучшую жизнь. <…> Реалисты жили в жизни, символисты имели мужество уйти от жизни, новореалисты имели мужество вернуться к жизни. Но они вернулись к жизни, может быть, слишком знающими, слишком мудрыми. И оттого у большинства из них – нет религии. Есть два способа преодолеть трагедию жизни: религия или ирония. Неореалисты избрали второй способ. Они не верят ни в Бога, ни в человека» («Современная русская литература», 1918).
ИТОГИ: НАПРАВЛЕНИЕ И ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Идеи Замятина очень пригодились русской прозе 1920-х годов, вынужденной искать новые ориентиры в катастрофически изменившемся мире. Но одновременно они свидетельствовали о более общей, универсальной тенденции: после всех экспериментов, всех отклонений, стрелка литературного компаса вновь указывала на миметическую поэтику, воспроизведение действительности в новых формах.
«Мы вправе стать реалистами в новом смысле…», – напишет Блок К. С. Станиславскому, далее цитируя великого режиссера-реалиста и полностью соглашаясь с ним, – все «измы» в искусстве включаются в «утонченный, облагороженный, очищенный реализм» (9 декабря 1908 г.). Так считал поэт, в своем творчестве до конца оставшийся символистом.
Сделаем поэтому важный вывод. Общие определения помогают нам первоначально разобраться в материале, классифицировать авторов и тексты. Но конкретный смысл произведения выходит за границы породившего его направления. Любой, даже плохой, роман богаче, даже самой правильной, схемы. Мы читаем не направления, а произведения.
«Классицизм в школе (в вузе?) следовало бы изучать по Сумарокову, романтизм по Бенедиктову, реализм по Авдееву (самое большее – по Писемскому), чтобы на этом фоне большие писатели выступали сами по себе». Перечисленные М. Л. Гаспаровым в записи под ироническим заглавием «Изм» писатели не только не изучаются в школе, но и редко «проходятся» в институте. Школьная программа и учебник строятся на больших писателях. А здесь, на вершинах, действуют иные закономерности. Большие писатели могут обменяться шпагами-теориями, как Гамлет и Лаэрт в финале шекспировской пьесы, или вовсе отказаться от теоретического панциря.
Символист А. Блок стремится к реализму в новом смысле. Акмеисты Н. Гумилев и А. Ахматова в конце жизни создают вещи, которыми могли бы гордиться символисты: балладу «Заблудившийся трамвай» и «Поэму без героя». В юности примкнувший к футуризму Б. Пастернак вспоминает о нем с постоянной иронией. Стихи М. Кузмина и М. Цветаевой в антологиях помещаются в разделе «Поэты вне направлений».
Теория ориентирует нас в культурном пространстве, но читаем и любим мы не направления, а писателей «самих по себе»: Ахматову, Блока, Бунина, Гумилева, Мандельштама, Маяковского, Хлебникова…
«Мы вправе стать реалистами в новом смысле…», – напишет Блок К. С. Станиславскому, далее цитируя великого режиссера-реалиста и полностью соглашаясь с ним, – все «измы» в искусстве включаются в «утонченный, облагороженный, очищенный реализм» (9 декабря 1908 г.). Так считал поэт, в своем творчестве до конца оставшийся символистом.
Сделаем поэтому важный вывод. Общие определения помогают нам первоначально разобраться в материале, классифицировать авторов и тексты. Но конкретный смысл произведения выходит за границы породившего его направления. Любой, даже плохой, роман богаче, даже самой правильной, схемы. Мы читаем не направления, а произведения.
«Классицизм в школе (в вузе?) следовало бы изучать по Сумарокову, романтизм по Бенедиктову, реализм по Авдееву (самое большее – по Писемскому), чтобы на этом фоне большие писатели выступали сами по себе». Перечисленные М. Л. Гаспаровым в записи под ироническим заглавием «Изм» писатели не только не изучаются в школе, но и редко «проходятся» в институте. Школьная программа и учебник строятся на больших писателях. А здесь, на вершинах, действуют иные закономерности. Большие писатели могут обменяться шпагами-теориями, как Гамлет и Лаэрт в финале шекспировской пьесы, или вовсе отказаться от теоретического панциря.
Символист А. Блок стремится к реализму в новом смысле. Акмеисты Н. Гумилев и А. Ахматова в конце жизни создают вещи, которыми могли бы гордиться символисты: балладу «Заблудившийся трамвай» и «Поэму без героя». В юности примкнувший к футуризму Б. Пастернак вспоминает о нем с постоянной иронией. Стихи М. Кузмина и М. Цветаевой в антологиях помещаются в разделе «Поэты вне направлений».
Теория ориентирует нас в культурном пространстве, но читаем и любим мы не направления, а писателей «самих по себе»: Ахматову, Блока, Бунина, Гумилева, Мандельштама, Маяковского, Хлебникова…
Александр Александрович
БЛОК
(1880–1921)
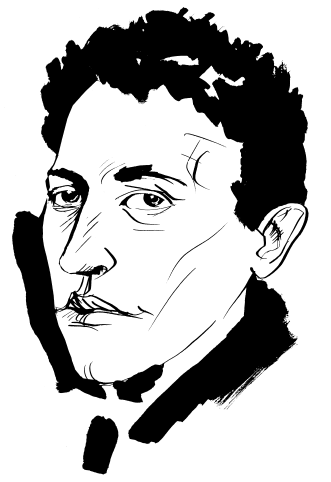
ФИЛОЛОГ: РЕКТОРСКИЙ ФЛИГЕЛЬ И ШАХМАТОВСКИЙ ДОМ
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» – афоризмом начинает Л. Н. Толстой семейный роман «Анна Каренина». Но семья – сосуществование нескольких поколений. С течением времени счастье и несчастье могут меняться местами.
Мать Александра Блока, Александра Андреевна Бекетова, родилась в счастливой профессорской семье. Ее отец, Андрей Николаевич, был крупным ученым, ботаником, позднее ставшим ректором Петербургского университета. В юности он увлекался социальными идеями Ш. Фурье, изучал философию, много читал. Позднее, наряду с научной, он занимался общественной работой. Первое в России учебное заведение, дававшее женщинам высшее образование, знаменитые бестужевские курсы (названные по имени К. Н. Бестужева-Рюмина), могли стать и бекетовскими. Этому помешало то, что профессор в глазах начальства слыл революционером, «Робеспьером».
Действительно, ректор был близок и дружен и с коллегами, и со студентами. Он не только с огромным успехом читал лекции, но хлопотал за арестованных, помогал неимущим. Настоящий интеллигент, идеалист, всю жизнь много трудившийся, он все же страдал комплексом «кающегося дворянина», унаследованным от людей сороковых годов. «В своем сельце Шахматове (Клинского уезда, Московской губернии) дед мой выходил к мужикам на крыльцо, потряхивая носовым платком; совершенно по той же причине, по которой И. С. Тургенев, разговаривая со своими крепостными, смущенно отколупывал кусочки краски с подъезда, обещая отдать все, что ни спросят, лишь бы отвязались, – вспоминал Блок в автобиографии. – Однажды дед мой, видя, что мужик несет из лесу на плече березку, сказал ему: „Ты устал, дай я тебе помогу“. При этом ему и в голову не пришло то очевидное обстоятельство, что березка срублена в нашем лесу» («Автобиография», 1915).
Жена А. Н. Бекетова, Елизавета Григорьевна, – дочь известного путешественника и исследователя Средней Азии, самостоятельно выучила несколько языков, много переводила, сама писала стихи. «Наша мать, бабушка Александра Александровича, была выдающаяся женщина. Своеобразная, жизненная, остроумная и веселая, она распространяла вокруг себя праздничную и ясную атмосферу» (М. А. Бекетова «Александр Блок», 1922).
Вдруг в этом светлом доме появился совсем иной человек: умный, мрачный, нервный, напоминающий то романтических персонажей вроде Демона или Дон Жуана, то героев Достоевского (по семейной легенде, писатель встречался с ним и предполагал изобразить его в романе).
Александра Андреевна, Ася, познакомилась с «интересным мужчиной» на вечере у гимназической подруги, и ее роман поначалу развертывался по канонам тургеневской прозы. Ее воображение поразил загадочный незнакомец. Он тоже влюбился в юную девушку из университетского Эдема. Родители, понимавшие перспективного молодого человека еще хуже, чем мужиков, дали согласие. 7 января 1878 года в университетской церкви состоялось венчание восемнадцатилетней, так и не закончившей гимназии, девушки, и вместе с мужем она уехала в Варшаву, где Александр Львович получил место.
Мать Александра Блока, Александра Андреевна Бекетова, родилась в счастливой профессорской семье. Ее отец, Андрей Николаевич, был крупным ученым, ботаником, позднее ставшим ректором Петербургского университета. В юности он увлекался социальными идеями Ш. Фурье, изучал философию, много читал. Позднее, наряду с научной, он занимался общественной работой. Первое в России учебное заведение, дававшее женщинам высшее образование, знаменитые бестужевские курсы (названные по имени К. Н. Бестужева-Рюмина), могли стать и бекетовскими. Этому помешало то, что профессор в глазах начальства слыл революционером, «Робеспьером».
Действительно, ректор был близок и дружен и с коллегами, и со студентами. Он не только с огромным успехом читал лекции, но хлопотал за арестованных, помогал неимущим. Настоящий интеллигент, идеалист, всю жизнь много трудившийся, он все же страдал комплексом «кающегося дворянина», унаследованным от людей сороковых годов. «В своем сельце Шахматове (Клинского уезда, Московской губернии) дед мой выходил к мужикам на крыльцо, потряхивая носовым платком; совершенно по той же причине, по которой И. С. Тургенев, разговаривая со своими крепостными, смущенно отколупывал кусочки краски с подъезда, обещая отдать все, что ни спросят, лишь бы отвязались, – вспоминал Блок в автобиографии. – Однажды дед мой, видя, что мужик несет из лесу на плече березку, сказал ему: „Ты устал, дай я тебе помогу“. При этом ему и в голову не пришло то очевидное обстоятельство, что березка срублена в нашем лесу» («Автобиография», 1915).
Жена А. Н. Бекетова, Елизавета Григорьевна, – дочь известного путешественника и исследователя Средней Азии, самостоятельно выучила несколько языков, много переводила, сама писала стихи. «Наша мать, бабушка Александра Александровича, была выдающаяся женщина. Своеобразная, жизненная, остроумная и веселая, она распространяла вокруг себя праздничную и ясную атмосферу» (М. А. Бекетова «Александр Блок», 1922).
Вдруг в этом светлом доме появился совсем иной человек: умный, мрачный, нервный, напоминающий то романтических персонажей вроде Демона или Дон Жуана, то героев Достоевского (по семейной легенде, писатель встречался с ним и предполагал изобразить его в романе).
Александр Львович Блок окончил юридический факультет, но его интересы не исчерпывались будущей специальностью. Он любил Гёте и Шекспира, Лермонтова и Достоевского, прекрасно играл на фортепьяно, а последние двадцать лет жизни работал над трудом по классификации наук, собираясь написать научное сочинение в стиле Флобера, которого он считал своим учителем.
Он, утверждая, отрицал
И утверждал он, отрицая.
(Всё б – в крайностях бродить уму,
А середина золотая
Всё не давалася ему!)
Он ненавистное – любовью
Искал порою окружить,
Как будто труп хотел налить
Живой, играющею кровью…
(«Возмездие», первая глава, 1911)
Александра Андреевна, Ася, познакомилась с «интересным мужчиной» на вечере у гимназической подруги, и ее роман поначалу развертывался по канонам тургеневской прозы. Ее воображение поразил загадочный незнакомец. Он тоже влюбился в юную девушку из университетского Эдема. Родители, понимавшие перспективного молодого человека еще хуже, чем мужиков, дали согласие. 7 января 1878 года в университетской церкви состоялось венчание восемнадцатилетней, так и не закончившей гимназии, девушки, и вместе с мужем она уехала в Варшаву, где Александр Львович получил место.
