Страница:
– Всё тормошила тебя, веселила, – говорила бабка Анисья, – да, видишь ты, застудилась осенью и померла. А ты весь в неё. Только она была говорливая, а ты у меня дичок. Всё хоронишься по углам да думаешь. А думать тебе рано. Успеешь за жизнь надуматься. Жизнь долгая, в ней вон сколько дней! Не сочтёшь.
Когда Петя-маленький подрос, бабка Анисья определила его пасти колхозных телят.
Телята были как на подбор, лопоухие и ласковые. Только один, по имени Мужичок, бил Петю шерстистым лбом в бок и брыкался. Петя гонял телят пастись на Высокую реку. Старый пастух Семён-чаёвник подарил Пете рожок, и Петя трубил в него над рекой, скликал телят.
А река была такая, что лучше, должно быть, не найдёшь. Берега крутые, все в колосистых травах, в деревах. И каких только дерев не было на Высокой реке! В иных местах даже в полдень было пасмурно от старых ив. Они окунали в воду могучие свои ветви, и ивовый лист – узкий, серебряный, вроде рыбки уклейки, – дрожал в бегучей воде. А выйдешь из-под чёрных ив – и ударит с полян таким светом, что зажмуришь глаза. Рощицы молодых осин толпятся на берегу, и все осиновые листья дружно блестят на солнце.
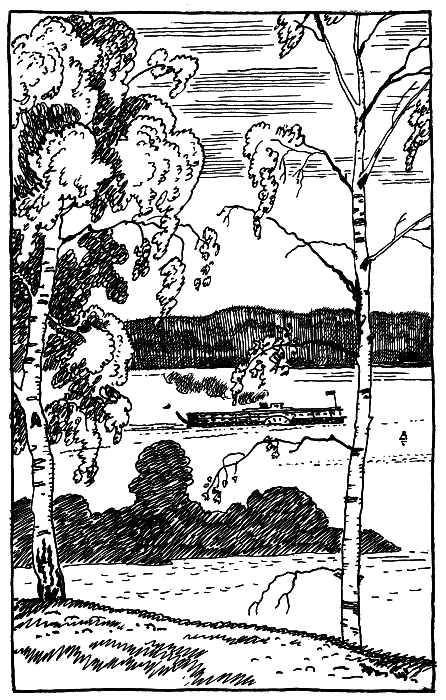
Ежевика на крутоярах так крепко хватала Петю за ноги, что он долго возился и сопел от натуги, прежде чем мог отцепить колючие плети. Но никогда он, осердясь, не хлестал ежевику палкой и не топтал ногами, как все остальные мальчишки.
На Высокой реке жили бобры. Бабка Анисья и Семён-чаёвник строго наказывали Пете не подходить к бобровым норам. Потому что бобр зверь строгий, самостоятельный, мальчишек деревенских вовсе не боится и может так хватить за ногу, что на всю жизнь останешься хромой. Но Пете была большая охота поглядеть на бобров, и потому он ближе к вечеру, когда бобры вылезали из нор, старался сидеть тихонько, чтобы не напугать сторожкого зверя.
Однажды Петя видел, как бобр вылез из воды, сел на берегу и начал тереть себе лапами грудь, драть её изо всех сил, сушить. Петя засмеялся, а бобр оглянулся на него, зашипел и нырнул в воду.
А другой раз вдруг с грохотом и плеском обрушилась в реку старая ольха. Тотчас под водой молниями полетели испуганные плотицы. Петя подбежал к ольхе и увидел, что она прогрызена бобровыми зубами до сердцевины, а в воде на ветках ольхи сидят эти самые бобры и жуют ольховую кору. Тогда Семён-чаёвник рассказал Пете, что бобр сперва подтачивает дерево, потом нажимает на него плечом, валит и питается этим деревом месяц или два, глядя по тому, толстое оно или не такое уж и толстое, как хотелось бобру.
В густоте листьев над Высокой рекой всегда было беспокойно. Там хлопотали разные птицы, а дятел, похожий на сельского почтаря Ивана Афанасьевича – такой же остроносый и с шустрым чёрным глазом, – колотил и колотил со всего размаха клювом по сухому осокорю. Ударит, отдёрнет голову, поглядит, примерится, зажмурит глаза и опять так ударит, что осокорь от макушки до корней загудит. Петя всё удивлялся – до чего крепкая голова у дятла! Весь день стучит по дереву, не теряет весёлости.
«Может, голова у него и не болит, – думал Петя, – но звон в ней стоит наверняка здоровый. Шутка ли – бить и бить целый день! Как только черепушка выдерживает!»
Пониже птиц, над всякими цветами – и зонтичными, и крестоцветными, и самыми невидными, как, скажем, подорожник, – летали ворсистые шмели, пчёлы и стрекозы.
Шмели не обращали на Петю внимания, а стрекозы останавливались в воздухе и, постреливая крылышками, рассматривали его выпуклыми глазищами, будто подумывали: ударить ли его в лоб со всего налёта, пугнуть с берега или не стоит с таким маленьким связываться?
И в воде тоже было хорошо. Смотришь на неё с берега – и так и подмывает нырнуть и поглядеть: что там, в глубокой глубине, где качаются водоросли? И всё чудится, что ползёт по дну рак величиной с бабкино корыто, растопырил клешни, а рыбы пятятся от него, помахивают хвостами.
Постепенно и звери и птицы привыкли к Пете и, бывало, прислушивались по утрам: когда же запоёт за кустами его рожок? Сначала они привыкли к Пете, а потом полюбили его за то, что не озоровал: не сбивал палками гнёзд, не связывал стрекоз за лапки ниткой, не швырял в бобров камнями и не травил рыбу едучей известью.
Деревья тихонько шумели навстречу Пете – помнили, что ни разу он не сгибал, как другие мальчишки, тоненьких осинок до самой земли, чтобы полюбоваться, как они, выпрямившись, долго дрожат от боли и шелестят-жалуются листьями.
Стоило Пете раздвинуть ветки и выйти на берег, как сразу начинали щёлкать птицы, шмели взлетали и покрикивали: «С дороги! С дороги!», рыбы выскакивали из воды, чтобы похвастаться перед Петей пёстрой чешуёй, дятел так ударял по осокорю, что бобры поджимали хвосты и семенили в норы. Выше всех птиц взлетал жаворонок и пускал такую трель, что синий колокольчик только качал головой.
– Вот и я! – говорил Петя, стаскивал старую шапчонку и вытирал ею мокрые от росы щёки. – Здравствуйте!
– Дра! Дра! – отвечала за всех ворона. Никак она не могла выучить до конца такое простое человеческое слово, как «здравствуйте». На это не хватало у неё вороньей памяти.
Все звери и птицы знали, что живёт за рекой, в большом лесу, старый медведь и прозвище у того медведя – Дремучий. Его шкура и вправду была похожа на дремучий лес: вся в жёлтых сосновых иглах, в давленой бруснике и смоле. И хоть старый это был медведь и кое-где даже седой, но глаза у него горели, как светляки, – зелёные, будто у молодого.
Звери часто видели, как медведь осторожно пробирался к реке, высовывал из травы морду и принюхивался к телятам, что паслись на другом берегу. Один раз он даже попробовал лапой воду и заворчал. Вода была холодная – со дна реки били ледяные ключи, – и медведь раздумал переплывать реку. Не хотелось ему мочить шкуру.
Когда приходил медведь, птицы начинали отчаянно хлопать крыльями, деревья – шуметь, рыбы – бить хвостами по воде, шмели – грозно гудеть, даже лягушки подымали такой крик, что медведь зажимал уши лапами и мотал головой.
А Петя удивлялся и смотрел на небо: не обкладывает ли его тучами, не к дождю ли раскричались звери? Но солнце спокойно плыло по небу. И только два облачка стояли в вышине, столкнувшись друг с другом на просторной небесной дороге.
С каждым днём медведь сердился всё сильнее. Он голодовал, брюхо у него совсем отвисло – одна кожа и шерсть. Лето выпало жаркое, без дождей. Малина в лесу посохла. Муравейник разроешь – так и там одна только пыль.
– Беда-а-а! – рычал медведь и выворачивал от злости молодые сосенки и берёзки. – Пойду задеру телка. А пастушок заступится, я его придушу лапой – и весь разговор!
От телят вкусно пахло парным молоком, и были они совсем рядом – только и дела, что переплыть каких-нибудь сто шагов.
«Неужто не переплыву? – сомневался медведь. – Да нет, пожалуй, переплыву. Мой дед, говорят, Волгу переплывал и то не боялся».
Думал медведь, думал, нюхал воду, скрёб в затылке и наконец решился – прыгнул в воду, ахнул и поплыл.
Петя в то время лежал под кустом, а телята – глупые они ещё были – подняли головы, наставили уши и смотрят: что это за старый пень плывёт по реке? А у медведя одна морда торчит над водой. И такая корявая эта морда, что с непривычки не то что телок, а даже человек может принять её за трухлявый пень.
Первой после телят заметила медведя ворона.
– Карраул! – крикнула она так отчаянно, что сразу охрипла. – Звери, воррр!
Всполошились все звери. Петя вскочил, руки у него затряслись, и уронил он свой рожок в траву: посредине реки плыл, загребая когтистыми лапами, старый медведь, отплёвывался и рычал. А телята подошли уже к самому крутояру, вытянули шеи и смотрят.
Закричал Петя, заплакал, схватил длинный свой кнут, размахнулся. Кнут щёлкнул, будто взорвался ружейный патрон. Да не достал кнут до медведя – ударил по воде. Медведь скосил на Петю глаз и зарычал:
– Погоди, сейчас вылезу на бережок – все кости твои пересчитаю. Что выдумал – старика кнутом бить!
Подплыл медведь к берегу, полез на крутояр к телятам, облизывается. Петя оглянулся, крикнул: «Подсобите!» – и видит: задрожали все осины и ивы и все птицы поднялись к небу. «Неужто все испугались и никто мне теперь не поможет?» – подумал Петя. А людей, как назло, никого рядом нету.
Но не успел он это подумать, как ежевика вцепилась колючими своими плетями в медвежьи лапы, и сколько медведь ни рвался, она его не пускала. Держит, а сама говорит: «Не-ет, брат, шутишь!»
Старая ива наклонила самую могучую ветку и начала изо всех сил хлестать ею медведя по худым бокам.
– Это что ж такое? – зарычал медведь. – Бунт? Я с тебя все листья сдеру, негодница!
А ива всё хлещет его и хлещет. В это время дятел слетел с дерева, сел на медвежью голову, потоптался, примерился и как долбанёт медведя по темени! У медведя позеленело в глазах, и жар прошёл от носа до самого кончика хвоста. Взвыл медведь, испугался насмерть, воет и собственного воя не слышит, слышит один хрип. Что такое? Никак медведь не догадается, что это шмели залезли ему в ноздри, в каждую по три шмеля, и сидят там, щекочут. Чихнул медведь, шмели вылетели, но тут же налетели пчёлы и начали язвить медведя в нос. А всякие птицы тучей вьются кругом и выщипывают у него шкуру волосок за волоском. Медведь начал кататься по земле, отбиваться лапами, закричал истошным голосом и полез обратно в реку.
Ползёт, пятится задом, а у берега уже ходит стопудовый окунь, поглядывает на медведя, дожидается. Как только медвежий хвост окунулся в воду, окунь хвать, зацепил его своими ста двадцатью зубами, напружился и потащил медведя в омут.
– Братцы! – заорал медведь, пуская пузыри. – Смилуйтесь! Отпустите! Слово даю… до смерти сюда не приду! И пастуха не обижу!
– Вот хлебнёшь бочку воды, тогда не придёшь! – прохрипел окунь, не разжимая зубов. – Уж я ли тебе поверю, Михайлыч, старый обманщик!
Только хотел медведь пообещать окуню кувшин липового мёда, как самый драчливый ёрш на Высокой реке, по имени Шипояд, разогнался, налетел на медведя и засадил ему в бок свой ядовитый и острый шип. Рванулся медведь, хвост оторвался, остался у окуня в зубах. А медведь нырнул, выплыл и пошёл махать сажёнками к своему берегу.
«Фу, – думает, – дёшево я отделался! Только хвост потерял. Хвост старый, облезлый, мне от него никакого толку».
Доплыл до половины реки, радуется, а бобры только этого и ждут. Как только началась заваруха с медведем, они кинулись к высокой ольхе и тут же начали её грызть. И так за минуту подгрызли, что держалась эта ольха на одном тонком шпеньке.
Подгрызли ольху, стали на задние лапы и ждут. Медведь плывёт, а бобры смотрят – рассчитывают, когда он подплывёт под самый под удар этой высоченной ольхи. У бобров расчёт всегда верный, потому что они единственные звери, что умеют строить разные хитрые вещи – плотины, подводные ходы и шалаши.
Как только подплыл медведь к назначенному месту, старый бобр крикнул:
– А ну, нажимай!
Бобры дружно нажали на ольху, шпенёк треснул, и ольха загрохотала – обрушилась в реку. Пошла пена, буруны, захлестали волны и водовороты. И так ловко рассчитали бобры, что ольха самой серединой ствола угодила медведю в спину, а ветками прижала его к иловатому дну.
«Ну, теперь крышка!» – подумал медведь. Он рванулся под водой изо всех сил, ободрал бока, замутил всю реку, но всё-таки как-то вывернулся и выплыл.
Вылез на свой берег и – где там отряхиваться, некогда! – пустился бежать по песку к своему лесу. А позади крик, улюлюканье. Бобры свищут в два пальца. А ворона так задохнулась от хохота, что один только раз и прокричала: «Дуррак!», а больше уже и кричать не могла. Осинки мелко тряслись от смеха, а ёрш Шипояд разогнался, выскочил из воды и лихо плюнул вслед медведю, да не доплюнул – где там доплюнуть при таком отчаянном беге!
Добежал медведь до леса, едва дышит. А тут, как на грех, девушки из Окулова пришли по грибы. Ходили они в лес всегда с пустыми бидонами от молока и палками, чтобы на случай встречи со зверем пугнуть его шумом.
Выскочил медведь на поляну, девушки увидали его – все враз завизжали и так грохнули палками по бидонам, что медведь упал, ткнулся мордой в сухую траву и затих. Девушки, понятно, убежали, только пёстрые их юбки метнулись в кустах.
А медведь стонал-стонал, потом съел какой-то гриб, что подвернулся на зуб, отдышался, вытер лапами пот и пополз на брюхе в своё логово. Залёг с горя спать на осень и зиму. И зарёкся на всю жизнь не выходить больше из дремучего леса. И уснул, хотя и побаливало у него то место, где был оторванный хвост.
Петя посмотрел вслед медведю, посмеялся, потом взглянул на телят. Они мирно жевали траву и то один, то другой чесали копытцем задней ноги у себя за ухом.
Тогда Петя стащил шапку и низко поклонился деревьям, шмелям, реке, рыбам, птицам и бобрам.
– Спасибо вам! – сказал Петя.
Но никто ему не ответил.
Тихо было на реке. Сонно висела листва ив, не трепетали осины, даже не было слышно птичьего щебета.
Петя никому не рассказал, что случилось на Высокой реке, только бабке Анисье: боялся, что не поверят. А бабка Анисья отложила недовязанную варежку, сдвинула очки в железной оправе на лоб, посмотрела на Петю и сказала:
– Вот уж и вправду говорят люди: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Звери за тебя не зря заступились, Петруша! Так, говоришь, окунь ему хвост начисто оторвал? Вот грех-то какой! Вот грех!
Бабка Анисья сморщилась, засмеялась и уронила варежку вместе с деревянным вязальным крючком.
Квакша
Когда Петя-маленький подрос, бабка Анисья определила его пасти колхозных телят.
Телята были как на подбор, лопоухие и ласковые. Только один, по имени Мужичок, бил Петю шерстистым лбом в бок и брыкался. Петя гонял телят пастись на Высокую реку. Старый пастух Семён-чаёвник подарил Пете рожок, и Петя трубил в него над рекой, скликал телят.
А река была такая, что лучше, должно быть, не найдёшь. Берега крутые, все в колосистых травах, в деревах. И каких только дерев не было на Высокой реке! В иных местах даже в полдень было пасмурно от старых ив. Они окунали в воду могучие свои ветви, и ивовый лист – узкий, серебряный, вроде рыбки уклейки, – дрожал в бегучей воде. А выйдешь из-под чёрных ив – и ударит с полян таким светом, что зажмуришь глаза. Рощицы молодых осин толпятся на берегу, и все осиновые листья дружно блестят на солнце.
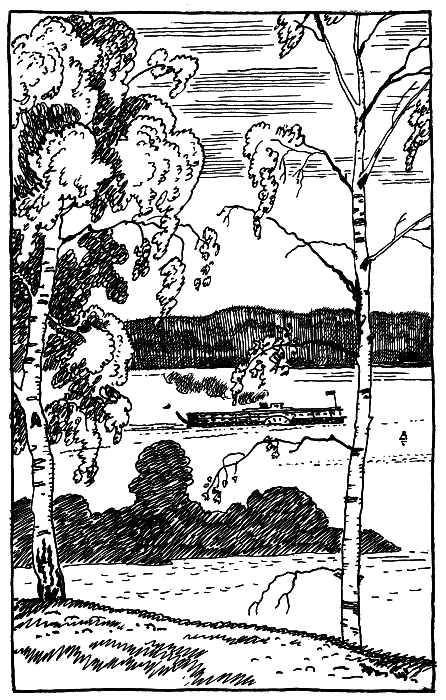
Ежевика на крутоярах так крепко хватала Петю за ноги, что он долго возился и сопел от натуги, прежде чем мог отцепить колючие плети. Но никогда он, осердясь, не хлестал ежевику палкой и не топтал ногами, как все остальные мальчишки.
На Высокой реке жили бобры. Бабка Анисья и Семён-чаёвник строго наказывали Пете не подходить к бобровым норам. Потому что бобр зверь строгий, самостоятельный, мальчишек деревенских вовсе не боится и может так хватить за ногу, что на всю жизнь останешься хромой. Но Пете была большая охота поглядеть на бобров, и потому он ближе к вечеру, когда бобры вылезали из нор, старался сидеть тихонько, чтобы не напугать сторожкого зверя.
Однажды Петя видел, как бобр вылез из воды, сел на берегу и начал тереть себе лапами грудь, драть её изо всех сил, сушить. Петя засмеялся, а бобр оглянулся на него, зашипел и нырнул в воду.
А другой раз вдруг с грохотом и плеском обрушилась в реку старая ольха. Тотчас под водой молниями полетели испуганные плотицы. Петя подбежал к ольхе и увидел, что она прогрызена бобровыми зубами до сердцевины, а в воде на ветках ольхи сидят эти самые бобры и жуют ольховую кору. Тогда Семён-чаёвник рассказал Пете, что бобр сперва подтачивает дерево, потом нажимает на него плечом, валит и питается этим деревом месяц или два, глядя по тому, толстое оно или не такое уж и толстое, как хотелось бобру.
В густоте листьев над Высокой рекой всегда было беспокойно. Там хлопотали разные птицы, а дятел, похожий на сельского почтаря Ивана Афанасьевича – такой же остроносый и с шустрым чёрным глазом, – колотил и колотил со всего размаха клювом по сухому осокорю. Ударит, отдёрнет голову, поглядит, примерится, зажмурит глаза и опять так ударит, что осокорь от макушки до корней загудит. Петя всё удивлялся – до чего крепкая голова у дятла! Весь день стучит по дереву, не теряет весёлости.
«Может, голова у него и не болит, – думал Петя, – но звон в ней стоит наверняка здоровый. Шутка ли – бить и бить целый день! Как только черепушка выдерживает!»
Пониже птиц, над всякими цветами – и зонтичными, и крестоцветными, и самыми невидными, как, скажем, подорожник, – летали ворсистые шмели, пчёлы и стрекозы.
Шмели не обращали на Петю внимания, а стрекозы останавливались в воздухе и, постреливая крылышками, рассматривали его выпуклыми глазищами, будто подумывали: ударить ли его в лоб со всего налёта, пугнуть с берега или не стоит с таким маленьким связываться?
И в воде тоже было хорошо. Смотришь на неё с берега – и так и подмывает нырнуть и поглядеть: что там, в глубокой глубине, где качаются водоросли? И всё чудится, что ползёт по дну рак величиной с бабкино корыто, растопырил клешни, а рыбы пятятся от него, помахивают хвостами.
Постепенно и звери и птицы привыкли к Пете и, бывало, прислушивались по утрам: когда же запоёт за кустами его рожок? Сначала они привыкли к Пете, а потом полюбили его за то, что не озоровал: не сбивал палками гнёзд, не связывал стрекоз за лапки ниткой, не швырял в бобров камнями и не травил рыбу едучей известью.
Деревья тихонько шумели навстречу Пете – помнили, что ни разу он не сгибал, как другие мальчишки, тоненьких осинок до самой земли, чтобы полюбоваться, как они, выпрямившись, долго дрожат от боли и шелестят-жалуются листьями.
Стоило Пете раздвинуть ветки и выйти на берег, как сразу начинали щёлкать птицы, шмели взлетали и покрикивали: «С дороги! С дороги!», рыбы выскакивали из воды, чтобы похвастаться перед Петей пёстрой чешуёй, дятел так ударял по осокорю, что бобры поджимали хвосты и семенили в норы. Выше всех птиц взлетал жаворонок и пускал такую трель, что синий колокольчик только качал головой.
– Вот и я! – говорил Петя, стаскивал старую шапчонку и вытирал ею мокрые от росы щёки. – Здравствуйте!
– Дра! Дра! – отвечала за всех ворона. Никак она не могла выучить до конца такое простое человеческое слово, как «здравствуйте». На это не хватало у неё вороньей памяти.
Все звери и птицы знали, что живёт за рекой, в большом лесу, старый медведь и прозвище у того медведя – Дремучий. Его шкура и вправду была похожа на дремучий лес: вся в жёлтых сосновых иглах, в давленой бруснике и смоле. И хоть старый это был медведь и кое-где даже седой, но глаза у него горели, как светляки, – зелёные, будто у молодого.
Звери часто видели, как медведь осторожно пробирался к реке, высовывал из травы морду и принюхивался к телятам, что паслись на другом берегу. Один раз он даже попробовал лапой воду и заворчал. Вода была холодная – со дна реки били ледяные ключи, – и медведь раздумал переплывать реку. Не хотелось ему мочить шкуру.
Когда приходил медведь, птицы начинали отчаянно хлопать крыльями, деревья – шуметь, рыбы – бить хвостами по воде, шмели – грозно гудеть, даже лягушки подымали такой крик, что медведь зажимал уши лапами и мотал головой.
А Петя удивлялся и смотрел на небо: не обкладывает ли его тучами, не к дождю ли раскричались звери? Но солнце спокойно плыло по небу. И только два облачка стояли в вышине, столкнувшись друг с другом на просторной небесной дороге.
С каждым днём медведь сердился всё сильнее. Он голодовал, брюхо у него совсем отвисло – одна кожа и шерсть. Лето выпало жаркое, без дождей. Малина в лесу посохла. Муравейник разроешь – так и там одна только пыль.
– Беда-а-а! – рычал медведь и выворачивал от злости молодые сосенки и берёзки. – Пойду задеру телка. А пастушок заступится, я его придушу лапой – и весь разговор!
От телят вкусно пахло парным молоком, и были они совсем рядом – только и дела, что переплыть каких-нибудь сто шагов.
«Неужто не переплыву? – сомневался медведь. – Да нет, пожалуй, переплыву. Мой дед, говорят, Волгу переплывал и то не боялся».
Думал медведь, думал, нюхал воду, скрёб в затылке и наконец решился – прыгнул в воду, ахнул и поплыл.
Петя в то время лежал под кустом, а телята – глупые они ещё были – подняли головы, наставили уши и смотрят: что это за старый пень плывёт по реке? А у медведя одна морда торчит над водой. И такая корявая эта морда, что с непривычки не то что телок, а даже человек может принять её за трухлявый пень.
Первой после телят заметила медведя ворона.
– Карраул! – крикнула она так отчаянно, что сразу охрипла. – Звери, воррр!
Всполошились все звери. Петя вскочил, руки у него затряслись, и уронил он свой рожок в траву: посредине реки плыл, загребая когтистыми лапами, старый медведь, отплёвывался и рычал. А телята подошли уже к самому крутояру, вытянули шеи и смотрят.
Закричал Петя, заплакал, схватил длинный свой кнут, размахнулся. Кнут щёлкнул, будто взорвался ружейный патрон. Да не достал кнут до медведя – ударил по воде. Медведь скосил на Петю глаз и зарычал:
– Погоди, сейчас вылезу на бережок – все кости твои пересчитаю. Что выдумал – старика кнутом бить!
Подплыл медведь к берегу, полез на крутояр к телятам, облизывается. Петя оглянулся, крикнул: «Подсобите!» – и видит: задрожали все осины и ивы и все птицы поднялись к небу. «Неужто все испугались и никто мне теперь не поможет?» – подумал Петя. А людей, как назло, никого рядом нету.
Но не успел он это подумать, как ежевика вцепилась колючими своими плетями в медвежьи лапы, и сколько медведь ни рвался, она его не пускала. Держит, а сама говорит: «Не-ет, брат, шутишь!»
Старая ива наклонила самую могучую ветку и начала изо всех сил хлестать ею медведя по худым бокам.
– Это что ж такое? – зарычал медведь. – Бунт? Я с тебя все листья сдеру, негодница!
А ива всё хлещет его и хлещет. В это время дятел слетел с дерева, сел на медвежью голову, потоптался, примерился и как долбанёт медведя по темени! У медведя позеленело в глазах, и жар прошёл от носа до самого кончика хвоста. Взвыл медведь, испугался насмерть, воет и собственного воя не слышит, слышит один хрип. Что такое? Никак медведь не догадается, что это шмели залезли ему в ноздри, в каждую по три шмеля, и сидят там, щекочут. Чихнул медведь, шмели вылетели, но тут же налетели пчёлы и начали язвить медведя в нос. А всякие птицы тучей вьются кругом и выщипывают у него шкуру волосок за волоском. Медведь начал кататься по земле, отбиваться лапами, закричал истошным голосом и полез обратно в реку.
Ползёт, пятится задом, а у берега уже ходит стопудовый окунь, поглядывает на медведя, дожидается. Как только медвежий хвост окунулся в воду, окунь хвать, зацепил его своими ста двадцатью зубами, напружился и потащил медведя в омут.
– Братцы! – заорал медведь, пуская пузыри. – Смилуйтесь! Отпустите! Слово даю… до смерти сюда не приду! И пастуха не обижу!
– Вот хлебнёшь бочку воды, тогда не придёшь! – прохрипел окунь, не разжимая зубов. – Уж я ли тебе поверю, Михайлыч, старый обманщик!
Только хотел медведь пообещать окуню кувшин липового мёда, как самый драчливый ёрш на Высокой реке, по имени Шипояд, разогнался, налетел на медведя и засадил ему в бок свой ядовитый и острый шип. Рванулся медведь, хвост оторвался, остался у окуня в зубах. А медведь нырнул, выплыл и пошёл махать сажёнками к своему берегу.
«Фу, – думает, – дёшево я отделался! Только хвост потерял. Хвост старый, облезлый, мне от него никакого толку».
Доплыл до половины реки, радуется, а бобры только этого и ждут. Как только началась заваруха с медведем, они кинулись к высокой ольхе и тут же начали её грызть. И так за минуту подгрызли, что держалась эта ольха на одном тонком шпеньке.
Подгрызли ольху, стали на задние лапы и ждут. Медведь плывёт, а бобры смотрят – рассчитывают, когда он подплывёт под самый под удар этой высоченной ольхи. У бобров расчёт всегда верный, потому что они единственные звери, что умеют строить разные хитрые вещи – плотины, подводные ходы и шалаши.
Как только подплыл медведь к назначенному месту, старый бобр крикнул:
– А ну, нажимай!
Бобры дружно нажали на ольху, шпенёк треснул, и ольха загрохотала – обрушилась в реку. Пошла пена, буруны, захлестали волны и водовороты. И так ловко рассчитали бобры, что ольха самой серединой ствола угодила медведю в спину, а ветками прижала его к иловатому дну.
«Ну, теперь крышка!» – подумал медведь. Он рванулся под водой изо всех сил, ободрал бока, замутил всю реку, но всё-таки как-то вывернулся и выплыл.
Вылез на свой берег и – где там отряхиваться, некогда! – пустился бежать по песку к своему лесу. А позади крик, улюлюканье. Бобры свищут в два пальца. А ворона так задохнулась от хохота, что один только раз и прокричала: «Дуррак!», а больше уже и кричать не могла. Осинки мелко тряслись от смеха, а ёрш Шипояд разогнался, выскочил из воды и лихо плюнул вслед медведю, да не доплюнул – где там доплюнуть при таком отчаянном беге!
Добежал медведь до леса, едва дышит. А тут, как на грех, девушки из Окулова пришли по грибы. Ходили они в лес всегда с пустыми бидонами от молока и палками, чтобы на случай встречи со зверем пугнуть его шумом.
Выскочил медведь на поляну, девушки увидали его – все враз завизжали и так грохнули палками по бидонам, что медведь упал, ткнулся мордой в сухую траву и затих. Девушки, понятно, убежали, только пёстрые их юбки метнулись в кустах.
А медведь стонал-стонал, потом съел какой-то гриб, что подвернулся на зуб, отдышался, вытер лапами пот и пополз на брюхе в своё логово. Залёг с горя спать на осень и зиму. И зарёкся на всю жизнь не выходить больше из дремучего леса. И уснул, хотя и побаливало у него то место, где был оторванный хвост.
Петя посмотрел вслед медведю, посмеялся, потом взглянул на телят. Они мирно жевали траву и то один, то другой чесали копытцем задней ноги у себя за ухом.
Тогда Петя стащил шапку и низко поклонился деревьям, шмелям, реке, рыбам, птицам и бобрам.
– Спасибо вам! – сказал Петя.
Но никто ему не ответил.
Тихо было на реке. Сонно висела листва ив, не трепетали осины, даже не было слышно птичьего щебета.
Петя никому не рассказал, что случилось на Высокой реке, только бабке Анисье: боялся, что не поверят. А бабка Анисья отложила недовязанную варежку, сдвинула очки в железной оправе на лоб, посмотрела на Петю и сказала:
– Вот уж и вправду говорят люди: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Звери за тебя не зря заступились, Петруша! Так, говоришь, окунь ему хвост начисто оторвал? Вот грех-то какой! Вот грех!
Бабка Анисья сморщилась, засмеялась и уронила варежку вместе с деревянным вязальным крючком.
Квакша
Жара стояла над землёй уже целый месяц. Взрослые говорили, что эту жару видно «невооружённым глазом».
– Как это можно увидеть жару? – спрашивала всех Таня.
Тане было пять лет, и потому она каждый день узнавала от взрослых много новых вещей. Действительно, можно было поверить дяде Глебу, что «сколько ни проживёшь на этом свете, хоть триста лет, а всего не узнаешь».
– Пойдём наверх, я тебе покажу жару, – сказал Глеб. – Оттуда лучше видно.
Таня вскарабкалась по крутой лестнице на мезонин. Там было светло и душно от нагретой крыши. Ветки старого клёна так упорно лезли в окна, что окна трудно было закрыть. Может быть, поэтому они всё лето и простояли настежь.
На мезонине был балкон с резными перилами. Глеб показал Тане с балкона на луга за рекой и на дальний лес.
– Видишь жёлтый дым? Как от самовара. И весь воздух дрожит. Это и есть жара. Всё можно заметить человеческим глазом. И жару, и холод, что хочешь.
– А холод – когда снег? – спросила Таня.
– Нет. Даже летом можно заметить. Вот будут прохладные дни, тогда я тебе покажу, как выглядит холод.
– А как?
– Небо вечером бывает зелёное, как мокрая трава. Холодное небо.
Пока же стояла жара, и больше всех от неё страдала маленькая лягушка. Она жила во дворе, под кустом бузины.
Двор так раскалялся от солнца, что всё живое пряталось. Даже муравьи не решались выбегать днём из подземных своих муравейников, а терпеливо дожидались вечера. Только одни кузнечики не боялись жары. Чем горячее был день, тем выше они прыгали и громче трещали. Поймать их было невозможно, и лягушка начала голодать.
Однажды она нашла щель под дверью в каменный погреб и с тех пор все дни просиживала, сонная, в погребе, на холодных кирпичных ступеньках.
Когда молоденькая работница Ариша спускалась в погреб за молоком, лягушка просыпалась, прыгала в сторону и пряталась за разбитый цветочный горшок. Ариша каждый раз пронзительно вскрикивала.
По вечерам лягушка вылезала во двор и осторожно пробиралась в тот угол, где на клумбе распускался к ночи табак и тесно росли кустистые астры. Цветы каждый вечер поливали из лейки, и потому на клумбе можно было дышать, – от политой земли тянуло сыростью, а с пахучих белых цветов табака изредка падали на голову холодные капли.
Лягушка сидела в темноте, таращила глаза и ждала, когда люди перестанут ходить, разговаривать, звенеть стаканами, стучать медным стерженьком от рукомойника и, наконец, прикрутят лампы, задуют их, и дом сразу сделается тёмным и таинственным.
Тогда можно будет немного попрыгать по клумбе, пожевать листья астр, потрогать лапкой уснувшего шмеля, чтобы послушать, как он заворчит сквозь сон.
А потом прокашляются и закричат по всем дворам петухи и придёт полночь – самое хорошее время. Может быть, даже упадёт роса и в мокрой траве заблестят звезды. Ночь будет тянуться долго, тихая и прохладная, и в лугах загудит нелюдимая птица выпь.
Бородатый Глеб был старым, опытным рыболовом. Каждый вечер он убирал со стола скатерть, осторожно высыпал из разных коробочек бронзовые золочёные крючки, круглые свинцовые грузила и прозрачные разноцветные лески и начинал чинить свои удочки. Тогда Тане не разрешалось подходить к столу, чтобы какой-нибудь «мушиный» крючок не впился ей в палец.
Когда Глеб чинил удочки, он всегда напевал одно и то же:
Глеб пришёл в отчаяние и написал на воротах дома огромными белыми буквами:
Глеб начал ходить за три километра в овраг, где под кучами старых щепок можно было накопать за час десятка два червей.
Глеб их берёг, будто эти черви были золотые: перекладывал сырым мхом, завязывал банку с червями марлей и держал её в тёмном погребе.
Там-то их и отыскала маленькая лягушка. Она долго трудилась, пока стащила марлю, потом залезла в банку и начала есть червей. Она так увлеклась, что не заметила, как в погреб спустился Глеб, вытащил её из банки за задние лапки и вынес во двор. Там Таня кормила злую подслеповатую курицу.
– Вот! – сказал Глеб грозным голосом. – Человек трудится в поте лица, чтобы нарыть хоть десяток червей, а нахальная лягушка бессовестно их ворует. И даже научилась развязывать марлю. Придётся её проучить.
– Как? – спросила с испугом Таня, а курица искоса посмотрела на лягушку прищуренным глазом.
– Отдать её на съедение этой курице – и всё!
Лягушка отчаянно задрыгала лапками, но вырваться ей не удалось. Курица взъерошилась, взлетела и чуть было не вырвала лягушку у Глеба.
– Не смей! – закричала Таня на курицу и заплакала. Курица отбежала в сторону, поджала лапу и стала ждать, что будет дальше.
– Дядя Глеб, зачем же её убивать? Дай её мне.
– Чтобы она опять воровала?
– Нет. Я её посажу в стеклянную банку и буду кормить. Разве тебе самому её не жалко?
– Ну ладно! – согласился Глеб. – Бери, так и быть. Ни за что бы я её не простил, если бы ты не заступилась. И если бы это была обыкновенная лягушка.
– А разве она необыкновенная? – спросила Таня и перестала плакать.
– А ты не видишь? Это древесная лягушка, квакша. Она замечательно предсказывает дождь.
– Вот она его нам и предскажет, – с облегчением вздохнула Таня и скороговоркой повторила слова, которые каждый день слышала от плотника Игната: – Дождик ой как нужен! А то хлеба и огороды посохнут, и тогда не миновать беды!
Глеб отдал лягушку Тане. Она посадила её в банку с травой и поставила на подоконник.
– Веточку нужно какую-нибудь засунуть в банку, – посоветовал Глеб.
– Зачем?
– Когда она влезет на веточку и начнет квакать, значит, будет дождь.
А дождя всё не было. Лягушка, сидя в банке, слушала разговоры людей о засухе и тяжело дышала – жить в банке было, конечно, безопасно, сытно, но душно.
Однажды ночью лягушка вылезла по кленовой ветке из банки и осторожно, останавливаясь и прислушиваясь, поскакала в сад. Там, в беседке, под крышей, жила в гнезде ласточка.
Лягушка тихонько квакнула, и ласточка тотчас выглянула из гнезда.
– Тебе чего? – спросила она. – Весь день носишься-носишься, даже звон в голове стоит. А тут ещё и ночью каждый будит, отдохнуть не даёт.
– Ты сначала послушай, а потом будешь чирикать, – ответила лягушка. – Я тебя никогда ещё не будила.
– Ну ладно, рассказывай, – ответила ласточка и зевнула. – Что у тебя стряслось?
Тогда лягушка рассказала ласточке, что девочка Таня спасла её, лягушку, от смерти и она, лягушка, всё думала, что бы такое хорошее сделать для Тани. И вот, наконец, придумала, но без ласточкиной помощи ничего не получится.
Люди очень тревожатся оттого, что нет дождя. Всё сохнет. Хлеб может сгореть на корню. Даже для них, для птиц и лягушек, пришло трудное время – пропали червяки и улитки.
Лягушка слышала, как отец Тани, агроном, говорил о засухе, а Таня слушала его и заплакала – ей было жалко и отца, и всех колхозников, что мучаются из-за этой засухи. Лягушка видела, как Таня стояла однажды около высохшего куста малины, трогала почернелые, ломкие листья и тоже плакала. И ещё лягушка слышала, как Танин отец говорил, что люди скоро придумают искусственный дождь. Но пока этого дождя ещё нет, и людям надо помочь.
– Помочь-то надо, – ответила ласточка. – Только как? Дождь отсюда далеко, за тысячу километров. Я вчера до него немного не долетела. А видеть видела. Сильный дождь, обложной. Только он сюда не дойдёт – весь выльется по дороге.
– А ты его приведи, – попросила лягушка.
– Легко сказать – приведи. Да и не наше это, ласточкино, дело. Это стрижей надо просить. Они быстрее летают.
– А ты поговори со стрижами.
– Так с ними и поговоришь. Сама небось знаешь, что за народ. Одного какого-нибудь стрижёнка нечаянно крылом зацепишь – не оберёшься неприятностей. Сейчас же в драку лезут. Крик, шум, писк.
Лягушка отвернулась, и из её глаз скатилась в траву маленькая слеза.
– Ну что ж, – прошептала она, – уж если вы, ласточки, не можете привести дождь, тогда со стрижами и говорить нечего.
– Это как так – не можем? – рассердилась ласточка. – Кто это тебе сказал? Мы всё можем. Даже увернуться от молнии и обогнать самолёт. Для нас дождь привести – пустое дело. Только надо всех ласточек собрать, со всей области. Ласточка почистила клюв лапкой, подумала. – Ну ладно! Не реви. Пригоним сюда дождь.
– А когда? – спросила лягушка.
Ласточка снова почесала клюв лапой.
– Это надо сообразить. Не так просто. Собрать всех ласточек – два часа. Лететь до дождя тоже два часа. Обратно с дождём лететь потруднее. Часа четыре пролетим, не меньше. Часов в десять утра будем здесь. Ну, прощай!
Ласточка перелетела на скворечню, пискнула и исчезла за тесовыми крышами.
Лягушка вернулась в дом. Там все спали.
Лягушка влезла в банку, взобралась на ветку клёна и тихонько квакнула. Никто не проснулся. Тогда она квакнула громче, потом ещё громче, ещё и ещё, и вскоре её кваканье заполнило все комнаты, стало слышно в саду. И по всей деревне в ответ на него сразу всполошились и заорали петухи. Они старались перекричать друг друга, срывали голоса, сипли и снова орали, неистово хлопая крыльями. Они подняли такой гомон, что со сна можно было подумать, будто в деревне пожар.
В доме все сразу проснулись.
– Что случилось? – спросонок спросила Таня.
– Дождь будет! Дождь! – ответил ей из соседней комнаты отец. – Слышишь, квакша кричит? И петухи заголосили по всем дворам. Верная примета.
Глеб вошёл со свечой в комнату к Тане и посветил на банку с лягушкой.
– Ну так и есть, – сказал он. – Так я и думал! Квакша влезла на ветку и кричит, надрывается. Даже позеленела от натуги.
Утро пришло, как всегда, безоблачное, но часам к десяти далеко на западе громыхнул и рассыпался по полям первый гром.
Колхозники вышли на обрыв над рекой и смотрели на запад, прикрыв глаза ладонями. Ребята полезли на крыши. Ариша начала торопливо подставлять под все водосточные трубы лоханки и вёдра. Отец Тани каждую минуту выходил во двор, смотрел на небо, прислушивался и всё повторял: «Лишь бы не мимо, лишь бы захватила нас эта гроза».
Таня ходила следом за ним и тоже прислушивалась.
Гром подходил ближе. Его раскаты стали торжественнее и шире. На западе поднялась чёрная туча Глеб спешно собирал свои удочки и смазывал сапоги, – после грозы должен был начаться, по его словам, бешеный клёв.
Потом в воздухе запахло свежестью дождя. Сад тихонько зашумел листвой, туча придвинулась, и весёлая молния как бы распахнула во всю глубину огромное небо.
Первая капля дождя звонко ударила по железной крыше. Тотчас стало так тихо, будто все прислушивались к этому звуку и затаив дыхание ждали второй капли. Сам дождь тоже прислушивался и соображал, правильно ли он уронил эту первую пробную каплю. И, помедлив, решил, что правильно, потому что вдруг сразу сорвался и загрохотал по крыше тысячами капель. За окнами полились-заблестели полноводные струи дождя.
– Идите сюда! – закричал с мезонина Глеб. – Скорее!
Все побежали по лестнице на мезонин, а Таня, конечно, отстала.
Сверху все увидели, как тысячи, а может быть, десятки тысяч маленьких птиц гнали над землёй дождевую тучу, не давали ей свернуть в сторону, бросались на неё несметными стаями, и от ветра, поднятого их крыльями, туча всё ниже опускалась к земле и нехотя шла, ворча и громыхая, на иссохшие поля и огороды.
– Как это можно увидеть жару? – спрашивала всех Таня.
Тане было пять лет, и потому она каждый день узнавала от взрослых много новых вещей. Действительно, можно было поверить дяде Глебу, что «сколько ни проживёшь на этом свете, хоть триста лет, а всего не узнаешь».
– Пойдём наверх, я тебе покажу жару, – сказал Глеб. – Оттуда лучше видно.
Таня вскарабкалась по крутой лестнице на мезонин. Там было светло и душно от нагретой крыши. Ветки старого клёна так упорно лезли в окна, что окна трудно было закрыть. Может быть, поэтому они всё лето и простояли настежь.
На мезонине был балкон с резными перилами. Глеб показал Тане с балкона на луга за рекой и на дальний лес.
– Видишь жёлтый дым? Как от самовара. И весь воздух дрожит. Это и есть жара. Всё можно заметить человеческим глазом. И жару, и холод, что хочешь.
– А холод – когда снег? – спросила Таня.
– Нет. Даже летом можно заметить. Вот будут прохладные дни, тогда я тебе покажу, как выглядит холод.
– А как?
– Небо вечером бывает зелёное, как мокрая трава. Холодное небо.
Пока же стояла жара, и больше всех от неё страдала маленькая лягушка. Она жила во дворе, под кустом бузины.
Двор так раскалялся от солнца, что всё живое пряталось. Даже муравьи не решались выбегать днём из подземных своих муравейников, а терпеливо дожидались вечера. Только одни кузнечики не боялись жары. Чем горячее был день, тем выше они прыгали и громче трещали. Поймать их было невозможно, и лягушка начала голодать.
Однажды она нашла щель под дверью в каменный погреб и с тех пор все дни просиживала, сонная, в погребе, на холодных кирпичных ступеньках.
Когда молоденькая работница Ариша спускалась в погреб за молоком, лягушка просыпалась, прыгала в сторону и пряталась за разбитый цветочный горшок. Ариша каждый раз пронзительно вскрикивала.
По вечерам лягушка вылезала во двор и осторожно пробиралась в тот угол, где на клумбе распускался к ночи табак и тесно росли кустистые астры. Цветы каждый вечер поливали из лейки, и потому на клумбе можно было дышать, – от политой земли тянуло сыростью, а с пахучих белых цветов табака изредка падали на голову холодные капли.
Лягушка сидела в темноте, таращила глаза и ждала, когда люди перестанут ходить, разговаривать, звенеть стаканами, стучать медным стерженьком от рукомойника и, наконец, прикрутят лампы, задуют их, и дом сразу сделается тёмным и таинственным.
Тогда можно будет немного попрыгать по клумбе, пожевать листья астр, потрогать лапкой уснувшего шмеля, чтобы послушать, как он заворчит сквозь сон.
А потом прокашляются и закричат по всем дворам петухи и придёт полночь – самое хорошее время. Может быть, даже упадёт роса и в мокрой траве заблестят звезды. Ночь будет тянуться долго, тихая и прохладная, и в лугах загудит нелюдимая птица выпь.
Бородатый Глеб был старым, опытным рыболовом. Каждый вечер он убирал со стола скатерть, осторожно высыпал из разных коробочек бронзовые золочёные крючки, круглые свинцовые грузила и прозрачные разноцветные лески и начинал чинить свои удочки. Тогда Тане не разрешалось подходить к столу, чтобы какой-нибудь «мушиный» крючок не впился ей в палец.
Когда Глеб чинил удочки, он всегда напевал одно и то же:
Но в это лето Глебу пришлось туго – из-за засухи пропали черви. Даже самые шустрые мальчишки отказывались их копать.
Сидел рыбак весёлый
На берегу реки,
И перед ним по ветру
Качались поплавки.
Глеб пришёл в отчаяние и написал на воротах дома огромными белыми буквами:
«ЗДЕСЬ ПРОИЗВОДИТСЯ СКУПКА ЧЕРВЕЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯ»Но это тоже не помогло. Прохожие останавливались, читали надпись, с восхищением качали головами: «Ну и хитрый же человек, чего написал!» – и шли дальше. А на второй день какой-то мальчишка приписал внизу такими же огромными буквами:
«В ОБМЕН НА КАРТОФЕЛЬНОЕ ВАРЕНИЕ»Пришлось стереть надпись.
Глеб начал ходить за три километра в овраг, где под кучами старых щепок можно было накопать за час десятка два червей.
Глеб их берёг, будто эти черви были золотые: перекладывал сырым мхом, завязывал банку с червями марлей и держал её в тёмном погребе.
Там-то их и отыскала маленькая лягушка. Она долго трудилась, пока стащила марлю, потом залезла в банку и начала есть червей. Она так увлеклась, что не заметила, как в погреб спустился Глеб, вытащил её из банки за задние лапки и вынес во двор. Там Таня кормила злую подслеповатую курицу.
– Вот! – сказал Глеб грозным голосом. – Человек трудится в поте лица, чтобы нарыть хоть десяток червей, а нахальная лягушка бессовестно их ворует. И даже научилась развязывать марлю. Придётся её проучить.
– Как? – спросила с испугом Таня, а курица искоса посмотрела на лягушку прищуренным глазом.
– Отдать её на съедение этой курице – и всё!
Лягушка отчаянно задрыгала лапками, но вырваться ей не удалось. Курица взъерошилась, взлетела и чуть было не вырвала лягушку у Глеба.
– Не смей! – закричала Таня на курицу и заплакала. Курица отбежала в сторону, поджала лапу и стала ждать, что будет дальше.
– Дядя Глеб, зачем же её убивать? Дай её мне.
– Чтобы она опять воровала?
– Нет. Я её посажу в стеклянную банку и буду кормить. Разве тебе самому её не жалко?
– Ну ладно! – согласился Глеб. – Бери, так и быть. Ни за что бы я её не простил, если бы ты не заступилась. И если бы это была обыкновенная лягушка.
– А разве она необыкновенная? – спросила Таня и перестала плакать.
– А ты не видишь? Это древесная лягушка, квакша. Она замечательно предсказывает дождь.
– Вот она его нам и предскажет, – с облегчением вздохнула Таня и скороговоркой повторила слова, которые каждый день слышала от плотника Игната: – Дождик ой как нужен! А то хлеба и огороды посохнут, и тогда не миновать беды!
Глеб отдал лягушку Тане. Она посадила её в банку с травой и поставила на подоконник.
– Веточку нужно какую-нибудь засунуть в банку, – посоветовал Глеб.
– Зачем?
– Когда она влезет на веточку и начнет квакать, значит, будет дождь.
А дождя всё не было. Лягушка, сидя в банке, слушала разговоры людей о засухе и тяжело дышала – жить в банке было, конечно, безопасно, сытно, но душно.
Однажды ночью лягушка вылезла по кленовой ветке из банки и осторожно, останавливаясь и прислушиваясь, поскакала в сад. Там, в беседке, под крышей, жила в гнезде ласточка.
Лягушка тихонько квакнула, и ласточка тотчас выглянула из гнезда.
– Тебе чего? – спросила она. – Весь день носишься-носишься, даже звон в голове стоит. А тут ещё и ночью каждый будит, отдохнуть не даёт.
– Ты сначала послушай, а потом будешь чирикать, – ответила лягушка. – Я тебя никогда ещё не будила.
– Ну ладно, рассказывай, – ответила ласточка и зевнула. – Что у тебя стряслось?
Тогда лягушка рассказала ласточке, что девочка Таня спасла её, лягушку, от смерти и она, лягушка, всё думала, что бы такое хорошее сделать для Тани. И вот, наконец, придумала, но без ласточкиной помощи ничего не получится.
Люди очень тревожатся оттого, что нет дождя. Всё сохнет. Хлеб может сгореть на корню. Даже для них, для птиц и лягушек, пришло трудное время – пропали червяки и улитки.
Лягушка слышала, как отец Тани, агроном, говорил о засухе, а Таня слушала его и заплакала – ей было жалко и отца, и всех колхозников, что мучаются из-за этой засухи. Лягушка видела, как Таня стояла однажды около высохшего куста малины, трогала почернелые, ломкие листья и тоже плакала. И ещё лягушка слышала, как Танин отец говорил, что люди скоро придумают искусственный дождь. Но пока этого дождя ещё нет, и людям надо помочь.
– Помочь-то надо, – ответила ласточка. – Только как? Дождь отсюда далеко, за тысячу километров. Я вчера до него немного не долетела. А видеть видела. Сильный дождь, обложной. Только он сюда не дойдёт – весь выльется по дороге.
– А ты его приведи, – попросила лягушка.
– Легко сказать – приведи. Да и не наше это, ласточкино, дело. Это стрижей надо просить. Они быстрее летают.
– А ты поговори со стрижами.
– Так с ними и поговоришь. Сама небось знаешь, что за народ. Одного какого-нибудь стрижёнка нечаянно крылом зацепишь – не оберёшься неприятностей. Сейчас же в драку лезут. Крик, шум, писк.
Лягушка отвернулась, и из её глаз скатилась в траву маленькая слеза.
– Ну что ж, – прошептала она, – уж если вы, ласточки, не можете привести дождь, тогда со стрижами и говорить нечего.
– Это как так – не можем? – рассердилась ласточка. – Кто это тебе сказал? Мы всё можем. Даже увернуться от молнии и обогнать самолёт. Для нас дождь привести – пустое дело. Только надо всех ласточек собрать, со всей области. Ласточка почистила клюв лапкой, подумала. – Ну ладно! Не реви. Пригоним сюда дождь.
– А когда? – спросила лягушка.
Ласточка снова почесала клюв лапой.
– Это надо сообразить. Не так просто. Собрать всех ласточек – два часа. Лететь до дождя тоже два часа. Обратно с дождём лететь потруднее. Часа четыре пролетим, не меньше. Часов в десять утра будем здесь. Ну, прощай!
Ласточка перелетела на скворечню, пискнула и исчезла за тесовыми крышами.
Лягушка вернулась в дом. Там все спали.
Лягушка влезла в банку, взобралась на ветку клёна и тихонько квакнула. Никто не проснулся. Тогда она квакнула громче, потом ещё громче, ещё и ещё, и вскоре её кваканье заполнило все комнаты, стало слышно в саду. И по всей деревне в ответ на него сразу всполошились и заорали петухи. Они старались перекричать друг друга, срывали голоса, сипли и снова орали, неистово хлопая крыльями. Они подняли такой гомон, что со сна можно было подумать, будто в деревне пожар.
В доме все сразу проснулись.
– Что случилось? – спросонок спросила Таня.
– Дождь будет! Дождь! – ответил ей из соседней комнаты отец. – Слышишь, квакша кричит? И петухи заголосили по всем дворам. Верная примета.
Глеб вошёл со свечой в комнату к Тане и посветил на банку с лягушкой.
– Ну так и есть, – сказал он. – Так я и думал! Квакша влезла на ветку и кричит, надрывается. Даже позеленела от натуги.
Утро пришло, как всегда, безоблачное, но часам к десяти далеко на западе громыхнул и рассыпался по полям первый гром.
Колхозники вышли на обрыв над рекой и смотрели на запад, прикрыв глаза ладонями. Ребята полезли на крыши. Ариша начала торопливо подставлять под все водосточные трубы лоханки и вёдра. Отец Тани каждую минуту выходил во двор, смотрел на небо, прислушивался и всё повторял: «Лишь бы не мимо, лишь бы захватила нас эта гроза».
Таня ходила следом за ним и тоже прислушивалась.
Гром подходил ближе. Его раскаты стали торжественнее и шире. На западе поднялась чёрная туча Глеб спешно собирал свои удочки и смазывал сапоги, – после грозы должен был начаться, по его словам, бешеный клёв.
Потом в воздухе запахло свежестью дождя. Сад тихонько зашумел листвой, туча придвинулась, и весёлая молния как бы распахнула во всю глубину огромное небо.
Первая капля дождя звонко ударила по железной крыше. Тотчас стало так тихо, будто все прислушивались к этому звуку и затаив дыхание ждали второй капли. Сам дождь тоже прислушивался и соображал, правильно ли он уронил эту первую пробную каплю. И, помедлив, решил, что правильно, потому что вдруг сразу сорвался и загрохотал по крыше тысячами капель. За окнами полились-заблестели полноводные струи дождя.
– Идите сюда! – закричал с мезонина Глеб. – Скорее!
Все побежали по лестнице на мезонин, а Таня, конечно, отстала.
Сверху все увидели, как тысячи, а может быть, десятки тысяч маленьких птиц гнали над землёй дождевую тучу, не давали ей свернуть в сторону, бросались на неё несметными стаями, и от ветра, поднятого их крыльями, туча всё ниже опускалась к земле и нехотя шла, ворча и громыхая, на иссохшие поля и огороды.
