Страница:
Владимир Курносенко
Этюды в жанре Хайбун
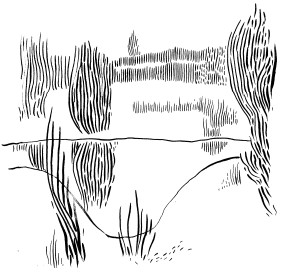
Не стоит искать следы древних.
Нужно искать то, что искали они [1].
Прощальные стихи
На веере хотел я написать, —
В руке сломался он.
КРАСОТА
Мы жили в Германии; мне было восемь, старшей сестре Люде четырнадцать, и она ходила учиться на пианино к одной немке.
– Папа, – позвала Люда как-то, просматривая привезенные из России ноты, – иди посмотри, что это?
Отец подошел, глянул и улыбнулся. Взял молча на колени отблескивающий перламутром дорогой немецкий аккордеон и неспешно, как все, что делал, нота за нотою разобрал мелодию. Это была «Когда я на почте служил ямщиком...», песня. Второю строкой шло: «был молод, имел я силенку», и эту «силенку» отец выдохнул эдак задорно-самонасмешливо, страшно как-то угаданно, то бишь, как назвал бы я это сегодня, потрясающе художественно хорошо.
Мы жили при военной комендатуре в «русском доме» у вокзала, не отгороженные, как это полагалось в военных городках, никаким забором, и квартиры у нас, у офицерских семейств, были по тем временам роскошные, с огромными кухнями, просторным коридором, с встроенной в угол, обложенной кафелем голландкой.
И вот мы стояли с мамой у кухонной двери, а сестра заглядывала в ноты через перетянутое ремнем отцовское плечо.
«Сначала я в девке не чуял беды, – пропел он слегка дрогнувшим, сразу приглохшим от волнения голосом, – потом задури-и-ил не на шу-у-утку...»
И снова, – и опять я это как-то очень понял, – «задурил» он тоже выделил, и именно так, как требовалось, как было оно кем-то в одобряемое Богом время задумано и сотворено.
«Куда ни пое-е-еду, куда-а ни пойду,
Я к ней загляну-у-у на мину-у-утку...»
Голос у папы был сипловатый: дымчатое серебро, – безукоризненно музыкальный высокий баритон, действующий от подсознания, и слух не то чтоб абсолютный, а как будто еще дальше за абсолют, более чем. Отчасти поэтому он, наверное, и любил больше петь вторым и третьим, чтобы подпевать, исподволь поддерживая сбивавшегося с тона ведущего, никогда не затрудняясь собственно гармонической стороною дела. И вот спустя годы, спустя жизнь я, оказалось, не слышал и не слыхивал, чтобы кто-то пел точнее и незаметно артистичнее, чем мой отец, а сам он пел когда-либо лучше, чем тогда в Германии.
Но речь веду я здесь не о нем, не об отце. Открытием была для меня история, рассказанная в песне. История человека. Мужская история.
Начальник дает герою пакет, «казенный», как говаривалось с деловитой важностию в те поры. А тот «принял пакет и скорей на коня и по полю вихрем помчался». И вот (рассказывала песня) он мчится, летит, ямщик, на рыжем своем, муругом или соловом, на Гнедко или, может, Серко али Чубарке, а кругом – в небе и в заснеженных приовражных околышах, в клубящемся предрассветно черном воздухе стоит и дышит отовсюду, подползает тихою сапой к молодецкому сердцу тревога-тоска, дурное предощущение, предзнаменованье беды. И я, ну да – я представлял и представляю сейчас, – как близит, клонит он удалую головушку к припахивающей угольком и морозцем гриве верного друга, а тот, верный чалый-чубарый-буланый с прыгающей по глазам челкой, стелет рысь по заснеженному бескрайнему полю, отбрасывая с копыт спрессованные потемнелые шматочки.
И вот – да. То самое, непредставимое ранее, невозможное и непоправимое. Несносимое сердцем. Роковое.
Как ни в чем не бывало выходит оно, вырезается из туманца эдаким приставленным к животу жалом ножа. У надутого степным ветром сугроба Чубарый захрапел и «встал» и, кося обезумевшим своим глазом, не идет, не слушается и не сдвигается дальше прочь.
Аккордеонный, набирающий все большую, нежную мощь трагедии проигрыш, аккорд, обрыв и вослед мигу замогильной трансцендентной тишины, словно б разом исчерпывающе, всеобъясняюще на этом свете и итоговое -
Отец самолично отстукивал одним пальцем этот свой «Сборник» на тугой, тяжкоподъемной и старой моей пишущей машинке, а потом сам переплел, сделал оглавление и комментарий к «Ямщицким». В разных отделах были и дедушкины «Очаровательные глазки», «Трансвааль» и «Тюрьма», был другого дедушки «Рос на опушке рощи клен» и несколько украинских с «Посеяла гирочки» и «Туманом» (за коим ничего не видно), а по причине, что приуготовлялся «Сборник» в качестве краткого духовного пособия для внучек – внука у папы не родилось, – завершался он не слишком органическим приложеньем «О Родине» на слова двух известных советских поэтов.
Однако ж косвенно и словно бы застенчиво этот самиздатовский песенник в одном экземпляре предназначался и мне, «писателю» – небось-де где да и сгодится какая строка... И вот по последней-то этой причине песни про не снесшего кончину любимой женщины человека в «Сборнике» и не обнаружилось после отцовой смерти. Он, всю жизнь оберегая меня, подстраховал и здесь: от непредсказуемого воздействия.
Лет еще за десять до отец практически перестал петь. От первоголосого запевалы курсантской роты в военчастевской самодеятельности он сознательно и незаметно приотодвинулся сперва ко второму в застольных, иной раз замечательных, пирах, а затем, ежели обнаруживался приличный второй, и к третьему голосу. Ему нравилось поддерживать или исподволь исправлять чужую ошибку или, не выдаваясь, сделать песню сложнее и красивее... Позже он замолчал, а еще позже не включил в «Сборник» нашу с ним лучшую и любимую. Он отступал.
И в те же примерно «замолчавшие» годы я увидел впервые, как он плачет.
Возвратившись из очередного вояжа в метрополию, я привез и поставил ему на проигрыватель пластинку Окуджавы. «Женщины той очарованный лик скрыт в твоем празднестве вечном...»
Дело было не в голосе или в мелодии и не в слишком-то ловком этом «празднестве», а дело было в том, в чем оно было в Германии: в красоте. В женщине, которая была, мелькнула либо (пускай) взаправду побыла немного твоей, а потом... потом все это кончилось.
Отец потому и не включил «Когда я на почте...» в «Сборник», что предчувствовал неминучесть этой одной из двух-трех по сути на свете историй и хотел отвести ее от меня.
Красота (делаю я из рассказанного вывод) – это есть боль от того, что до задыха и замираний сердца любишь, а потом этого «что-то» у тебя нет.
– Папа, – позвала Люда как-то, просматривая привезенные из России ноты, – иди посмотри, что это?
Отец подошел, глянул и улыбнулся. Взял молча на колени отблескивающий перламутром дорогой немецкий аккордеон и неспешно, как все, что делал, нота за нотою разобрал мелодию. Это была «Когда я на почте служил ямщиком...», песня. Второю строкой шло: «был молод, имел я силенку», и эту «силенку» отец выдохнул эдак задорно-самонасмешливо, страшно как-то угаданно, то бишь, как назвал бы я это сегодня, потрясающе художественно хорошо.
Мы жили при военной комендатуре в «русском доме» у вокзала, не отгороженные, как это полагалось в военных городках, никаким забором, и квартиры у нас, у офицерских семейств, были по тем временам роскошные, с огромными кухнями, просторным коридором, с встроенной в угол, обложенной кафелем голландкой.
И вот мы стояли с мамой у кухонной двери, а сестра заглядывала в ноты через перетянутое ремнем отцовское плечо.
«Сначала я в девке не чуял беды, – пропел он слегка дрогнувшим, сразу приглохшим от волнения голосом, – потом задури-и-ил не на шу-у-утку...»
И снова, – и опять я это как-то очень понял, – «задурил» он тоже выделил, и именно так, как требовалось, как было оно кем-то в одобряемое Богом время задумано и сотворено.
«Куда ни пое-е-еду, куда-а ни пойду,
Я к ней загляну-у-у на мину-у-утку...»
Голос у папы был сипловатый: дымчатое серебро, – безукоризненно музыкальный высокий баритон, действующий от подсознания, и слух не то чтоб абсолютный, а как будто еще дальше за абсолют, более чем. Отчасти поэтому он, наверное, и любил больше петь вторым и третьим, чтобы подпевать, исподволь поддерживая сбивавшегося с тона ведущего, никогда не затрудняясь собственно гармонической стороною дела. И вот спустя годы, спустя жизнь я, оказалось, не слышал и не слыхивал, чтобы кто-то пел точнее и незаметно артистичнее, чем мой отец, а сам он пел когда-либо лучше, чем тогда в Германии.
Но речь веду я здесь не о нем, не об отце. Открытием была для меня история, рассказанная в песне. История человека. Мужская история.
Начальник дает герою пакет, «казенный», как говаривалось с деловитой важностию в те поры. А тот «принял пакет и скорей на коня и по полю вихрем помчался». И вот (рассказывала песня) он мчится, летит, ямщик, на рыжем своем, муругом или соловом, на Гнедко или, может, Серко али Чубарке, а кругом – в небе и в заснеженных приовражных околышах, в клубящемся предрассветно черном воздухе стоит и дышит отовсюду, подползает тихою сапой к молодецкому сердцу тревога-тоска, дурное предощущение, предзнаменованье беды. И я, ну да – я представлял и представляю сейчас, – как близит, клонит он удалую головушку к припахивающей угольком и морозцем гриве верного друга, а тот, верный чалый-чубарый-буланый с прыгающей по глазам челкой, стелет рысь по заснеженному бескрайнему полю, отбрасывая с копыт спрессованные потемнелые шматочки.
И вот – да. То самое, непредставимое ранее, невозможное и непоправимое. Несносимое сердцем. Роковое.
Как ни в чем не бывало выходит оно, вырезается из туманца эдаким приставленным к животу жалом ножа. У надутого степным ветром сугроба Чубарый захрапел и «встал» и, кося обезумевшим своим глазом, не идет, не слушается и не сдвигается дальше прочь.
Отец сделал маленькую паузу, вздохнул и, куда было деваться, спел и это, ну да.
«Под снегом-то, братцы, лежала она-а,
Закрыв свои ка-а-рие о-о-чи...»
Аккордеонный, набирающий все большую, нежную мощь трагедии проигрыш, аккорд, обрыв и вослед мигу замогильной трансцендентной тишины, словно б разом исчерпывающе, всеобъясняюще на этом свете и итоговое -
«Отчего так много песен про ямщиков?» – безлично спрашивалось в самописном комментарии к разделу «Ямщицкие» в песенном «Сборнике», составленном отцом. «Оттого, – отвечалось крупными же полупечатными буквами, – что, предположим, на знаменитом Московско-Сибирском тракте фигура ямщика была главной...» «Автор песни „Однозвучно гремит колокольчик“, – добавлялось для общего сведенья, – Иван Иванович Макаров из поселка Сива Пермской области служил старшим ямщиком конвойной роты...»
«Налейте, налейте скорей мне вина,
Рассказывать не-ет больше мо-о-чи...»
Отец самолично отстукивал одним пальцем этот свой «Сборник» на тугой, тяжкоподъемной и старой моей пишущей машинке, а потом сам переплел, сделал оглавление и комментарий к «Ямщицким». В разных отделах были и дедушкины «Очаровательные глазки», «Трансвааль» и «Тюрьма», был другого дедушки «Рос на опушке рощи клен» и несколько украинских с «Посеяла гирочки» и «Туманом» (за коим ничего не видно), а по причине, что приуготовлялся «Сборник» в качестве краткого духовного пособия для внучек – внука у папы не родилось, – завершался он не слишком органическим приложеньем «О Родине» на слова двух известных советских поэтов.
Однако ж косвенно и словно бы застенчиво этот самиздатовский песенник в одном экземпляре предназначался и мне, «писателю» – небось-де где да и сгодится какая строка... И вот по последней-то этой причине песни про не снесшего кончину любимой женщины человека в «Сборнике» и не обнаружилось после отцовой смерти. Он, всю жизнь оберегая меня, подстраховал и здесь: от непредсказуемого воздействия.
Лет еще за десять до отец практически перестал петь. От первоголосого запевалы курсантской роты в военчастевской самодеятельности он сознательно и незаметно приотодвинулся сперва ко второму в застольных, иной раз замечательных, пирах, а затем, ежели обнаруживался приличный второй, и к третьему голосу. Ему нравилось поддерживать или исподволь исправлять чужую ошибку или, не выдаваясь, сделать песню сложнее и красивее... Позже он замолчал, а еще позже не включил в «Сборник» нашу с ним лучшую и любимую. Он отступал.
И в те же примерно «замолчавшие» годы я увидел впервые, как он плачет.
Возвратившись из очередного вояжа в метрополию, я привез и поставил ему на проигрыватель пластинку Окуджавы. «Женщины той очарованный лик скрыт в твоем празднестве вечном...»
Дело было не в голосе или в мелодии и не в слишком-то ловком этом «празднестве», а дело было в том, в чем оно было в Германии: в красоте. В женщине, которая была, мелькнула либо (пускай) взаправду побыла немного твоей, а потом... потом все это кончилось.
Отец потому и не включил «Когда я на почте...» в «Сборник», что предчувствовал неминучесть этой одной из двух-трех по сути на свете историй и хотел отвести ее от меня.
Красота (делаю я из рассказанного вывод) – это есть боль от того, что до задыха и замираний сердца любишь, а потом этого «что-то» у тебя нет.
НИКА
Ника Самофракийская... кажется, так.
В рабоче-мещанском нашем городище, тридцать пять лет неотрывно-внеотрыв глядящем в телевизор, что бы оттудова ни показывали, и чтущем-читающем неослабно газеты, что бы туда ни писали, такая вот искренне взволнованная, романтическая девушка, если у нее вкус и эстетическая, если уж не духовная, тяга, мечтает, воображает и втихомолочку томится о... о чем, бишь, собственно? О кино, наверное, о литературе, о живописи, о театре, о каких-то людях, разгадывающих загадку жизни хоть на чуть-чуть сбоку от универсальной чичиковской копейки или, еще хуже, универсальной марксистско-ленинской ереси.
Она, эта девушка, волей-неволей накручивает сама себе разное-всякое, придумывает и, как со стороны может показаться и кажется, «воображает о себе» («выбражает»). Но если всерьез, если вслушаться в глубинно-подспудный мотив ее грез и сердечных намерений, она, эта тонколодыжная дева и девушка-лоза, и впрямь чиста, благородна и ни на йоту, ни на йоту, видит Бог, потому не лукавит.
– Можно Нику? – иной раз просят ее к телефону.
– Ка-во-о? – грубо, с нескрываемой досадой на всю эту «поэзию» уточняет мать.
И если позвонивший вдруг почутче прочих душой и посообразительней, наитие, возможно, подскажет ему поправку:
– Нину...
– А, – брови сошлись, и брови расправились, с интонационным, принимающим поправку кивком ответит маман. – Счас!
«Ника» – это все, это, собственно, и все, что выкристаллизовалось и удержалось, что выпало в сухой осадок из всех отчаянных попыток преображения, из всех бесчисленных поползновений вылезти из ороговевшей, не выпускающей куколки и... полететь. Да, полететь.
Поначалу шло еще ничего. Студенчество, какие-то все же компании с претендованьем к живости ума, киноклубно-филологическая эклектика... Бардовские полустихи-полупесни, редко по-настоящему удачные, но порою со всамделишно одиноко-прекрасной печалью, столь ценимой Басё. Остроумие к тому. Товарищество. Анекдоты даже. Иногда поцелуи... И на гребне всего этого, а точнее – безжалостнее – за гребнем, на истоке спада – лет в двадцать шесть – выход замуж за небезызвестного по городу Фрэда, «Рыжего Фрэда», старше ее, Ники Самофракийской, лет на двенадцать, – за великовозрастного этого инфантила-балдежника, доморощенного стилягу-шестидесятника, любителя джаза или, скорее, рок-н-ролльной «чучи», оболтуса, словом, а официально и формально – самоучного оператора местного телевиденья, рабски обезьянничающего Москву, которая сама в свой черед снимает кальки с... впрочем, бог с этим.
И идут, бегут годы, уходят отныне всерьез, и вот она, Ника, Ника сорокапятилетняя Самофракийская, идет, ступает в долгополом пальто по исхоженному тротуару, и отяжелевшее изнутри тонкое ее лицо самоочевидно исполнено подлинной трагической глубины, выстраданного покоя... Зрелое, великолепное, роскошно прекрасное лицо – лик сознающе жертвующего человека, женщины... Ставшее и осуществившееся, смысл коего свидетельствует о полной, до донышка постигнутости загадочной загадки... И сделал это рыжий, а теперь лысый Фрэд, которого и по сей день справедливые до сладострастия контролеры высаживают из троллейбуса за безбилетный проезд.
В рабоче-мещанском нашем городище, тридцать пять лет неотрывно-внеотрыв глядящем в телевизор, что бы оттудова ни показывали, и чтущем-читающем неослабно газеты, что бы туда ни писали, такая вот искренне взволнованная, романтическая девушка, если у нее вкус и эстетическая, если уж не духовная, тяга, мечтает, воображает и втихомолочку томится о... о чем, бишь, собственно? О кино, наверное, о литературе, о живописи, о театре, о каких-то людях, разгадывающих загадку жизни хоть на чуть-чуть сбоку от универсальной чичиковской копейки или, еще хуже, универсальной марксистско-ленинской ереси.
Она, эта девушка, волей-неволей накручивает сама себе разное-всякое, придумывает и, как со стороны может показаться и кажется, «воображает о себе» («выбражает»). Но если всерьез, если вслушаться в глубинно-подспудный мотив ее грез и сердечных намерений, она, эта тонколодыжная дева и девушка-лоза, и впрямь чиста, благородна и ни на йоту, ни на йоту, видит Бог, потому не лукавит.
– Можно Нику? – иной раз просят ее к телефону.
– Ка-во-о? – грубо, с нескрываемой досадой на всю эту «поэзию» уточняет мать.
И если позвонивший вдруг почутче прочих душой и посообразительней, наитие, возможно, подскажет ему поправку:
– Нину...
– А, – брови сошлись, и брови расправились, с интонационным, принимающим поправку кивком ответит маман. – Счас!
«Ника» – это все, это, собственно, и все, что выкристаллизовалось и удержалось, что выпало в сухой осадок из всех отчаянных попыток преображения, из всех бесчисленных поползновений вылезти из ороговевшей, не выпускающей куколки и... полететь. Да, полететь.
Поначалу шло еще ничего. Студенчество, какие-то все же компании с претендованьем к живости ума, киноклубно-филологическая эклектика... Бардовские полустихи-полупесни, редко по-настоящему удачные, но порою со всамделишно одиноко-прекрасной печалью, столь ценимой Басё. Остроумие к тому. Товарищество. Анекдоты даже. Иногда поцелуи... И на гребне всего этого, а точнее – безжалостнее – за гребнем, на истоке спада – лет в двадцать шесть – выход замуж за небезызвестного по городу Фрэда, «Рыжего Фрэда», старше ее, Ники Самофракийской, лет на двенадцать, – за великовозрастного этого инфантила-балдежника, доморощенного стилягу-шестидесятника, любителя джаза или, скорее, рок-н-ролльной «чучи», оболтуса, словом, а официально и формально – самоучного оператора местного телевиденья, рабски обезьянничающего Москву, которая сама в свой черед снимает кальки с... впрочем, бог с этим.
И идут, бегут годы, уходят отныне всерьез, и вот она, Ника, Ника сорокапятилетняя Самофракийская, идет, ступает в долгополом пальто по исхоженному тротуару, и отяжелевшее изнутри тонкое ее лицо самоочевидно исполнено подлинной трагической глубины, выстраданного покоя... Зрелое, великолепное, роскошно прекрасное лицо – лик сознающе жертвующего человека, женщины... Ставшее и осуществившееся, смысл коего свидетельствует о полной, до донышка постигнутости загадочной загадки... И сделал это рыжий, а теперь лысый Фрэд, которого и по сей день справедливые до сладострастия контролеры высаживают из троллейбуса за безбилетный проезд.
СОН
Если все когда-то явилось из одной точки или, по-иному, из одной Творящей Руки, то и отпущенное во времени рано или поздно исчерпывается и, приходит день, хочешь или нет, попадаешь в эдакую ледяную паузу, продолговато-длинный коридор либо предбанник, в самом конце которого... Словом, я работал второй или третий год в одной такой небольшой, почти районной больнице, и к нам в хирургию поступила сорокалетняя женщина с деструктивным аппендицитом. Прооперировали, выписали «с выздоровлением», а спустя месяц гинекологи позвали меня ассистировать на внематочную – к ней же. И снова худо-бедно ее «спасли», выписали, а еще недель через шесть она все же умерла от черепно-мозговой травмы после автомобильной аварии в травматологии.
Тогда-то вопервой я и заподозрил о «сроках дотации» – так во мне не очень удачно назвалось это ощущение. Подходит, мол, некий день, срок – и будущее по неведомой причине не впускает человека в себя... Способ неважен. Смерть придет, причину найдет, говорят деревенские, а пришла ли она, нет, зависит неизвестно от чего, от Промысла Божьего, от Того, стало быть, без ведома и участия Кого не упадет, как провозвещено, ни единый даже волос.
И что лучше: побыть в этой ледяной паузе-коридоре и успеть хоть как-то ее почувствовать и подготовиться или, как того желал и получил Юлий Цезарь, заполучить смерть «внезапно и сразу»?
Мне снилось, я приехал как раз туда, в первую и лучшую из всех мою больницу, словно соступив ногой с то ли вверх, то ли вниз ползущего эскалатора жизни. Я приехал разом-сразу сегодняшним и тогдашним, лет получалось двадцать с гаком спустя, в поисках уголка чувству не столь оскорбленному, сколь вусмерть уморившемуся в своих путях и заблудах.
Я шел во сне по слегка ссутулившимся, пустым и пожухшим улицам, на каком-то истерическом серьезе предощущая и веруя, что вот, что, быть может, совсем скоро я снова сделаюсь здесь нужен и непритворно любим. Я шел, шагал и озирался, и тоска моя, – а оказывалось, что я страстно скучал по этому месту, – горько-кисло-сладкая моя тоска крошилась и плавилась в крови накатным лихорадочным жаром.
Обойдя больницу с торца, я взошел на знакомое крыльцо.
В приемной на первом этаже все было по-новому: просторно, чистенько и по-казенному прохладно. За обитой дубовою рейкой дверью сидел, я знал, не единственный на все времена Олег Николаевич Локотилов, горячий, умный, хитрый и справедливый наш главврач, с бесперебойной сигаретой и кривой всепроникающей усмешкой, а там, за дубовым нынешним дизайном, знал я откуда-то, должна находиться некая средних лет женщина, новый начальник, но, по слухам, будто б тоже ничего – толковая, малословная и деловая. Я уселся на стул и стал ждать. Ну что ж, не боялся я, она ведь, эта новая, как-нибудь наверное же наслышана обо мне, и она так или иначе возьмет меня на прежнее место.
Мне дадут – гнал я послушных коней воображения – опять полторы моих ставки, не считая дежурств, выделят квартиру где-нибудь неподалеку от больницы и проведут телефон, чтобы, если надо, я мог безо всякой «скорой помощи» прибегать по первому зову. Я примусь честно и хорошо работать, стану жить, куплю тяжелый с коляскою мотоцикл, ружье, буду ездить с Олегом Николаевичем на зори... («С каким Олегом Николаевичем? Он же...») Ну хорошо-хорошо, один. Можно и без зорь. Отыщется, может быть, какая-нибудь женщина. Ну да, да. И рано иль поздно я возвращу на последнем, свободном от запальчивых заблуждений витке молодость, верну в сердце ту тугую, исполненную смыслами жизнь.
Главврачихи с обеда не оказалось, и секретарша, все не попадающая в фокус сновидения, предложила «маленько ее обождать». Ну что ж, сказал себе я. Но ждать отчего-то не стал, а поднялся старой протертой посередке лестницей на третий этаж: в хирургическую ординаторскую. Я заглянул, поздоровался, но не вошел. Молодые и не очень молодые люди в высоких, открахмаленных, ломко-красивых колпаках, в голубовато-белых глянцевитых халатах, абсолютно чужие и неприветливые. Оглянувшись, они мгновенно, будто ожегшись, отдергивали от меня взоры, отворачивали головы. Все – с одним выражением. Им не просто желалось, чтобы я закрыл поскорее дверь, не отвлекая их от сокрыто интересной – не для непосвященных – жизни, а им хотелось этого со страстным, нетерпеливым отвращением...
Я закрыл дверь и, применив незаметно для себя специфические возможности сна, перелетел единым духом весь длинный, поделенный наш надвое с травматологией коридор. Запахов йода, мази Вишневского и степленной человечьей плоти я не услышал, ведь это был сон. Он только вспомнился отчего-то у двери травматологов, этот запах, – отдельным приложеньем, нагнавшим послевкусием. Пустая, с незнакомо расположенными в рядок столами ординаторская травматологов была еще чужее, чем те лица.
Притормозив на лестничной площадке между вторым и третьим, я немного поразмышлял над создавшимся положением.
Выходило, что среди «них», тех людей в нашей хирургической ординаторской, не было ни Яши Доманцевича, ни анестезиолога Женьки Рубайлова, ни хитрована умельца Попова, ни моего учителя и друга-врага Евг. Ив. Корлва.
Так, минуточку! – приходил я потихоньку в себя.
И никто не выскочил вслед мне из предоперационной или из перевязочной, никто не кликнул с палатного сестринского поста... Получается, нету, стало быть, здесь ни Физы, ни Ильиничны, ни постовых, ни старшей нашей, ни анестезисток... Никого! Что это? Ни-ко-го! Ни единого человечика!
Получалось, – постигал я мало-помалу, присев на лестничный низенький подоконник, – облако отношений, в котором плавали и дышали мы все в ту далекую пору, в котором ругались, злились, а иной раз красиво и по-товарищески прикрывали друг друга, про которое и о котором от души полагали, что оно-то, это облако, и есть взаправдашняя и всеобщая жизнь, – что это были лишь мы сами, что-то вроде личного запаха, мы среди себя и для себя, и вот оно, «облако-мы», унесено и рассеяно ветром времени раз и навсегда... Где-нибудь после обхода иль перевязки или плановой дневной операции ты подходил к столу или подоконнику, где ставились положенные за наркозную вредность бутылки с молоком и плоская тарелка с тоненько порезанным черным украинским хлебом, продавливал пальцем станиолевую мягкую пробку и не спеша, медленно делал три больших отделенных друг от друга глотка, а затем откусывал и жевал, нарочито долго и с возрастающим наслаждением, этот пахучий, свежий и какой-то подлинный хлеб, хлеб свой насущный, вкуснее которого после ничего больше и не было. А ночью, если случалась «экстра», гуськом выходили из операционной, усталые, но чаще всего довольные, усаживались, писали впару протокол операции, а потом шваркали грамм по семьдесят пять неразведенного, растекающегося из углов рта спирта, съедали оставшиеся с ужина холодные или (если успевала дежурная сестра) разогретые котлеты с пюре, и кто-то закуривал, а кто просто откидывался затылком на спинку кресла. Такая роскошная, такая полноценная была усталость, что лень поднять и передвинуть было даже ногу.Значит, всё! – думал я. Аллюр три хвоста! И спускался ступенька за ступенькою по лестнице, и перетряхнувшееся от всей этой истории мое сознание осваивало некий страшноватый и нежданный раньше ниоткуда смысл: мне вовсе незачем и не нужно заходить ни к какой главврачихе.
Потом я проснулся. Ресницы, брови и кожа вокруг глаз были у меня мокры от слезной влаги, а сердце стукало и делало долгие сосуще-щекотные какие-то замирания после экстрасистол. Как будто я выбрался, едва уцелев, из длиннющей и вовсе не обязательно проходимой для человека трубы.
И что это такое было? Зачем? И с какой стати я туда лазил? Или от чего?
Не ледяная ли это та самая пауза обнаруживает себя в столь мудрено-выморочном виде? Не местечка ль для могилки, грубее говоря, наискивала, летая туда, поожегшаяся на всяческих молочных берегах, перезапуганная моя душенька? И если это так, то какие же выводы-умозаключения следует извлечь из сей более чем успешной разведки боем?
Тогда-то вопервой я и заподозрил о «сроках дотации» – так во мне не очень удачно назвалось это ощущение. Подходит, мол, некий день, срок – и будущее по неведомой причине не впускает человека в себя... Способ неважен. Смерть придет, причину найдет, говорят деревенские, а пришла ли она, нет, зависит неизвестно от чего, от Промысла Божьего, от Того, стало быть, без ведома и участия Кого не упадет, как провозвещено, ни единый даже волос.
И что лучше: побыть в этой ледяной паузе-коридоре и успеть хоть как-то ее почувствовать и подготовиться или, как того желал и получил Юлий Цезарь, заполучить смерть «внезапно и сразу»?
Мне снилось, я приехал как раз туда, в первую и лучшую из всех мою больницу, словно соступив ногой с то ли вверх, то ли вниз ползущего эскалатора жизни. Я приехал разом-сразу сегодняшним и тогдашним, лет получалось двадцать с гаком спустя, в поисках уголка чувству не столь оскорбленному, сколь вусмерть уморившемуся в своих путях и заблудах.
Я шел во сне по слегка ссутулившимся, пустым и пожухшим улицам, на каком-то истерическом серьезе предощущая и веруя, что вот, что, быть может, совсем скоро я снова сделаюсь здесь нужен и непритворно любим. Я шел, шагал и озирался, и тоска моя, – а оказывалось, что я страстно скучал по этому месту, – горько-кисло-сладкая моя тоска крошилась и плавилась в крови накатным лихорадочным жаром.
Обойдя больницу с торца, я взошел на знакомое крыльцо.
В приемной на первом этаже все было по-новому: просторно, чистенько и по-казенному прохладно. За обитой дубовою рейкой дверью сидел, я знал, не единственный на все времена Олег Николаевич Локотилов, горячий, умный, хитрый и справедливый наш главврач, с бесперебойной сигаретой и кривой всепроникающей усмешкой, а там, за дубовым нынешним дизайном, знал я откуда-то, должна находиться некая средних лет женщина, новый начальник, но, по слухам, будто б тоже ничего – толковая, малословная и деловая. Я уселся на стул и стал ждать. Ну что ж, не боялся я, она ведь, эта новая, как-нибудь наверное же наслышана обо мне, и она так или иначе возьмет меня на прежнее место.
Мне дадут – гнал я послушных коней воображения – опять полторы моих ставки, не считая дежурств, выделят квартиру где-нибудь неподалеку от больницы и проведут телефон, чтобы, если надо, я мог безо всякой «скорой помощи» прибегать по первому зову. Я примусь честно и хорошо работать, стану жить, куплю тяжелый с коляскою мотоцикл, ружье, буду ездить с Олегом Николаевичем на зори... («С каким Олегом Николаевичем? Он же...») Ну хорошо-хорошо, один. Можно и без зорь. Отыщется, может быть, какая-нибудь женщина. Ну да, да. И рано иль поздно я возвращу на последнем, свободном от запальчивых заблуждений витке молодость, верну в сердце ту тугую, исполненную смыслами жизнь.
Главврачихи с обеда не оказалось, и секретарша, все не попадающая в фокус сновидения, предложила «маленько ее обождать». Ну что ж, сказал себе я. Но ждать отчего-то не стал, а поднялся старой протертой посередке лестницей на третий этаж: в хирургическую ординаторскую. Я заглянул, поздоровался, но не вошел. Молодые и не очень молодые люди в высоких, открахмаленных, ломко-красивых колпаках, в голубовато-белых глянцевитых халатах, абсолютно чужие и неприветливые. Оглянувшись, они мгновенно, будто ожегшись, отдергивали от меня взоры, отворачивали головы. Все – с одним выражением. Им не просто желалось, чтобы я закрыл поскорее дверь, не отвлекая их от сокрыто интересной – не для непосвященных – жизни, а им хотелось этого со страстным, нетерпеливым отвращением...
Я закрыл дверь и, применив незаметно для себя специфические возможности сна, перелетел единым духом весь длинный, поделенный наш надвое с травматологией коридор. Запахов йода, мази Вишневского и степленной человечьей плоти я не услышал, ведь это был сон. Он только вспомнился отчего-то у двери травматологов, этот запах, – отдельным приложеньем, нагнавшим послевкусием. Пустая, с незнакомо расположенными в рядок столами ординаторская травматологов была еще чужее, чем те лица.
Притормозив на лестничной площадке между вторым и третьим, я немного поразмышлял над создавшимся положением.
Выходило, что среди «них», тех людей в нашей хирургической ординаторской, не было ни Яши Доманцевича, ни анестезиолога Женьки Рубайлова, ни хитрована умельца Попова, ни моего учителя и друга-врага Евг. Ив. Корлва.
Так, минуточку! – приходил я потихоньку в себя.
И никто не выскочил вслед мне из предоперационной или из перевязочной, никто не кликнул с палатного сестринского поста... Получается, нету, стало быть, здесь ни Физы, ни Ильиничны, ни постовых, ни старшей нашей, ни анестезисток... Никого! Что это? Ни-ко-го! Ни единого человечика!
Получалось, – постигал я мало-помалу, присев на лестничный низенький подоконник, – облако отношений, в котором плавали и дышали мы все в ту далекую пору, в котором ругались, злились, а иной раз красиво и по-товарищески прикрывали друг друга, про которое и о котором от души полагали, что оно-то, это облако, и есть взаправдашняя и всеобщая жизнь, – что это были лишь мы сами, что-то вроде личного запаха, мы среди себя и для себя, и вот оно, «облако-мы», унесено и рассеяно ветром времени раз и навсегда... Где-нибудь после обхода иль перевязки или плановой дневной операции ты подходил к столу или подоконнику, где ставились положенные за наркозную вредность бутылки с молоком и плоская тарелка с тоненько порезанным черным украинским хлебом, продавливал пальцем станиолевую мягкую пробку и не спеша, медленно делал три больших отделенных друг от друга глотка, а затем откусывал и жевал, нарочито долго и с возрастающим наслаждением, этот пахучий, свежий и какой-то подлинный хлеб, хлеб свой насущный, вкуснее которого после ничего больше и не было. А ночью, если случалась «экстра», гуськом выходили из операционной, усталые, но чаще всего довольные, усаживались, писали впару протокол операции, а потом шваркали грамм по семьдесят пять неразведенного, растекающегося из углов рта спирта, съедали оставшиеся с ужина холодные или (если успевала дежурная сестра) разогретые котлеты с пюре, и кто-то закуривал, а кто просто откидывался затылком на спинку кресла. Такая роскошная, такая полноценная была усталость, что лень поднять и передвинуть было даже ногу.Значит, всё! – думал я. Аллюр три хвоста! И спускался ступенька за ступенькою по лестнице, и перетряхнувшееся от всей этой истории мое сознание осваивало некий страшноватый и нежданный раньше ниоткуда смысл: мне вовсе незачем и не нужно заходить ни к какой главврачихе.
Потом я проснулся. Ресницы, брови и кожа вокруг глаз были у меня мокры от слезной влаги, а сердце стукало и делало долгие сосуще-щекотные какие-то замирания после экстрасистол. Как будто я выбрался, едва уцелев, из длиннющей и вовсе не обязательно проходимой для человека трубы.
И что это такое было? Зачем? И с какой стати я туда лазил? Или от чего?
Не ледяная ли это та самая пауза обнаруживает себя в столь мудрено-выморочном виде? Не местечка ль для могилки, грубее говоря, наискивала, летая туда, поожегшаяся на всяческих молочных берегах, перезапуганная моя душенька? И если это так, то какие же выводы-умозаключения следует извлечь из сей более чем успешной разведки боем?
ОТЕЦ И СЫН
Отец – старик, заслуженный какой-то ветеран труда, фронтовик. Он ходит со скорбно сжатыми, оскорбленными миром губами, надмевая без вникания в подробности, в един взмах и ни на един вздох не принимая «ничего этого нового» на дух.
На пиджаке, на левом просторном лацкане плексигласовые орденские колодки, и ежедневно около двух он неспешно спускается с солиднолицым, чуть не патологическим серьезом к почтовому ящику. Газеты «Труд», «Футбол-хоккей» и, если не ошибаюсь, «Правда».
Сын же как будто совсем иное уже дело. Он весел, приветлив и жизнелюбив. Ему лет сорок – сорок пять. Он заметно смахивает на единокровного своего отича, хотя ростком поменьше, в щеках шире, и, если у отца в осях сероватых колючих радужек едва намечается раскосость, у сына один глаз глядит вовсе уж куда-то за ухо...
Сын – генетический урод. По развитию сознания ему, как фолкнеровскому Бенджи из «Шума и ярости», три или четыре года.
Он всегда улыбается, всегда. Он здоровается, начиная мотать вверх-вниз головою задолго до приближения, непритворно радуясь всякому хотя б чуть-чуть знакомцу, а тем паче если сосед и вот такая счастливая встреча.
Приколов на левый борт великовато поношенного пиджака штук сорок всяческих эмблем, значков и детских брошечек, он тоже, как и отец к газетам, спускается под вечер поразгуляться во двор.
– Ишь чё, – улыбаются словно по команде на лавочке приподъездные бабушки-старухи. – Украсился-то, нацепил... Г-ге-рой!
И улыбаются всё, и продолжают-длят и нежно-любовно тешат на нелепой, зато безопасной фигуре в пиджаке изнуренные отгрохотавшей жизнью дальнозоркие глаза, без слов невыносимо понимая эту нашу родимо-семейную «и смех и грех» ситуацию-беду, на этом вот чуде-юде в перьях, уже которую скоро, через десяток лет, никто и ни при какой погоде больше не узнает уже и не различит.
Если Гете прав и это в самом деле «Бог играет на органе, а дьявол раздувает меха», то возможно, наверное, и вот так.
Он, она, ребенок. Та известная фаза в браке, когда горячечное сочувствие исподволь готовится преобразиться в глухое нескрываемое злорадство. Ссоры. Исполненные логики и неопровержимой правоты монологи. Не вполне искренние, компромиссные примирения от невозможности расстаться из-за ребенка... Возможно, пьянство либо даже супружеская измена с одной или другой стороны. А может – одно с одной, а другое с другой. В целом же мрак – «тьма, горе и свет померк в облацех...».
И вот друг советует ему – обмани! Ненавидь-то ненавидь, а видом покажи – любишь. Она, это я тебе говорю (уверял друг), поведется, а ты поглядишь.
И он в самом деле пробует, хватается за эту соломинку. Ломая себя, при выпадающем удобном случае слегка плюсует и удерживает, стараясь изо всех сил, недоподорванных и последних... И она, неожиданно, – кто бы мог подумать! – нежданно-негаданно взаправду отвечает ему. Ведется, как назвал это явление мудрый его друг.
От удивления и растерянности он врет дальше, он, как бы это поточнее, артистически увлекается... Она отзывается со страстью. И как когда-то, как слепой бабахнувший в степи дождь, как всесокрушающая песчаная буря или неудержимый в горах обвал, на них, на него и на нее, на горемычные их победные головушки обрушивается сумасшедшая, бешеная, та самая их когда-то любовь.
И бесконечно-бескрайняя эта, ну да, да, обоюдоготовность к любой жертве, и этот восторг.
Друг был очень доволен.
На пиджаке, на левом просторном лацкане плексигласовые орденские колодки, и ежедневно около двух он неспешно спускается с солиднолицым, чуть не патологическим серьезом к почтовому ящику. Газеты «Труд», «Футбол-хоккей» и, если не ошибаюсь, «Правда».
Сын же как будто совсем иное уже дело. Он весел, приветлив и жизнелюбив. Ему лет сорок – сорок пять. Он заметно смахивает на единокровного своего отича, хотя ростком поменьше, в щеках шире, и, если у отца в осях сероватых колючих радужек едва намечается раскосость, у сына один глаз глядит вовсе уж куда-то за ухо...
Сын – генетический урод. По развитию сознания ему, как фолкнеровскому Бенджи из «Шума и ярости», три или четыре года.
Он всегда улыбается, всегда. Он здоровается, начиная мотать вверх-вниз головою задолго до приближения, непритворно радуясь всякому хотя б чуть-чуть знакомцу, а тем паче если сосед и вот такая счастливая встреча.
Приколов на левый борт великовато поношенного пиджака штук сорок всяческих эмблем, значков и детских брошечек, он тоже, как и отец к газетам, спускается под вечер поразгуляться во двор.
– Ишь чё, – улыбаются словно по команде на лавочке приподъездные бабушки-старухи. – Украсился-то, нацепил... Г-ге-рой!
И улыбаются всё, и продолжают-длят и нежно-любовно тешат на нелепой, зато безопасной фигуре в пиджаке изнуренные отгрохотавшей жизнью дальнозоркие глаза, без слов невыносимо понимая эту нашу родимо-семейную «и смех и грех» ситуацию-беду, на этом вот чуде-юде в перьях, уже которую скоро, через десяток лет, никто и ни при какой погоде больше не узнает уже и не различит.
Если Гете прав и это в самом деле «Бог играет на органе, а дьявол раздувает меха», то возможно, наверное, и вот так.
Он, она, ребенок. Та известная фаза в браке, когда горячечное сочувствие исподволь готовится преобразиться в глухое нескрываемое злорадство. Ссоры. Исполненные логики и неопровержимой правоты монологи. Не вполне искренние, компромиссные примирения от невозможности расстаться из-за ребенка... Возможно, пьянство либо даже супружеская измена с одной или другой стороны. А может – одно с одной, а другое с другой. В целом же мрак – «тьма, горе и свет померк в облацех...».
И вот друг советует ему – обмани! Ненавидь-то ненавидь, а видом покажи – любишь. Она, это я тебе говорю (уверял друг), поведется, а ты поглядишь.
И он в самом деле пробует, хватается за эту соломинку. Ломая себя, при выпадающем удобном случае слегка плюсует и удерживает, стараясь изо всех сил, недоподорванных и последних... И она, неожиданно, – кто бы мог подумать! – нежданно-негаданно взаправду отвечает ему. Ведется, как назвал это явление мудрый его друг.
От удивления и растерянности он врет дальше, он, как бы это поточнее, артистически увлекается... Она отзывается со страстью. И как когда-то, как слепой бабахнувший в степи дождь, как всесокрушающая песчаная буря или неудержимый в горах обвал, на них, на него и на нее, на горемычные их победные головушки обрушивается сумасшедшая, бешеная, та самая их когда-то любовь.
И бесконечно-бескрайняя эта, ну да, да, обоюдоготовность к любой жертве, и этот восторг.
Друг был очень доволен.
МИМО
Человек сугубой чуткости, истончивший мучительную эту остроту восприятия до звона, до трепета, до самой иной раз поэзии, дважды раненный и уцелевший в Отечественную, отзывавшийся свыше меры и насущной нужды чуть не на всякую чужую беду и боль, он, этот человек, когда, «бросив» им с женой на руки двух школьников-внуков, умерла во цвете лет единственная дочь – разом, внезапно и словно б ни с того ни с сего, он, – как-то бессознательно получилось, – не впустил в себя эту весть.
Из дальнего далека он перевез на самолете дочерний труп в свинцовом гробу и схоронил близко, под боком, дабы жене и внукам сручней было ходить на кладбище и плакать без помех, – предал пухом земле красу и радость свою, не обронив у могилы ни слова, ни слезы. У него недозавершенным оставалось огромной важности дело, а отныне вот внуки и трясущая головой, помутившаяся от горя старуха-жена...
И отвернулся, приотодвинулся от гибельного жуткого факта, дабы не поддаться ему и не открыть в сердце дверь искушенью печали, чтобы курносая не прокралась в него тихою сапой и, как когда-то фронтовой кореш, не рванула зубами вверх избавляющее гранатное кольцо.
Да, пропустил мимо.
Спасаясь.
Из дальнего далека он перевез на самолете дочерний труп в свинцовом гробу и схоронил близко, под боком, дабы жене и внукам сручней было ходить на кладбище и плакать без помех, – предал пухом земле красу и радость свою, не обронив у могилы ни слова, ни слезы. У него недозавершенным оставалось огромной важности дело, а отныне вот внуки и трясущая головой, помутившаяся от горя старуха-жена...
И отвернулся, приотодвинулся от гибельного жуткого факта, дабы не поддаться ему и не открыть в сердце дверь искушенью печали, чтобы курносая не прокралась в него тихою сапой и, как когда-то фронтовой кореш, не рванула зубами вверх избавляющее гранатное кольцо.
Да, пропустил мимо.
Спасаясь.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕЙСМАНИЗМА
Было времечко,
ела кума семечко.
Еще чуть, годков пятнадцать-двадцать – и за иными песнями сменившего репертуары Хроноса неважно станет, кто такой есть великий академик Лысенко, его враги вейсманисты-морганисты и что за ноты в тоешной партитуре жизни могли и предпочитали выбирать мы.
В школе его, Запорожца, любили мало, куда популярнее среди нас, «чрез год идущих следом», были Юра Дубров и Сашка Мамотов. С Юрой Дубровым Запорожец в одиннадцатом ходил на медаль. Юра получил золотую, Запорожец серебряную, и в ту пору они и наловчились вышибать пятерки на любую тему из любого преподавателя, а потом, в институте, с этого разгону вылучили себе повышенную стипендию и вообще, как тогда выражались, «пошли».
Юра был пониже среднего роста, но крупен, могуче широк в кости и потрясающе, сказочно-богатырски красив. Наши девочки в седьмом-восьмом бегали на переменках на него смотреть. Отец у Юры (он же в школьном туалете Дубровский, он же Дуб) был директором завода, и в наследственной его повадке в шестнадцать еще лет выказывалась та мужская несуетная основательность, что мимо воли внушает истинное уважение и учителям, и шпане.
На втором курсе Юра Дубров женился на девочке из класса, и сразу, а скорее всего, еще до, она стала сильно и как-то нехорошо болеть – что-то вроде кистозного панкреатита, воспаления поджелудочной железы... с многократными хирургическими операциями, кишечными свищами, с безвременной кончиной на больничной койке в двадцать шесть или семь лет.
Когда приводилось идти к могилам бабушки и дедушки, а теперь вот и отца, черно-мраморный небольшой памятник Юриной жены виден был по левую руку центральной кладбищенской аллеи. Я узнавал тонкоскулый нестареющий абрис лика девочки нашей школы, напоминающий по изяществу косульи глаза и тонкие копытца пришвинской непревзойденной красавицы Хуан-Лу. Гравер добросовестно перенес все с фотографии на студенческом билете.
Юра тяжко переживал эту смерть. Пил, пил по-черному, ходили смутные слухи, что он спивается.
Как-то в дантовой середине жизни я повстречал его в вестибюле одной из городских больниц. В тридцать пять лет он был ни на что не годный конченый старик, беззубый, с растерянно-добрыми, беспомощными глазами, словно сгнивший изнутри будыль.
В школе его, Запорожца, любили мало, куда популярнее среди нас, «чрез год идущих следом», были Юра Дубров и Сашка Мамотов. С Юрой Дубровым Запорожец в одиннадцатом ходил на медаль. Юра получил золотую, Запорожец серебряную, и в ту пору они и наловчились вышибать пятерки на любую тему из любого преподавателя, а потом, в институте, с этого разгону вылучили себе повышенную стипендию и вообще, как тогда выражались, «пошли».
Юра был пониже среднего роста, но крупен, могуче широк в кости и потрясающе, сказочно-богатырски красив. Наши девочки в седьмом-восьмом бегали на переменках на него смотреть. Отец у Юры (он же в школьном туалете Дубровский, он же Дуб) был директором завода, и в наследственной его повадке в шестнадцать еще лет выказывалась та мужская несуетная основательность, что мимо воли внушает истинное уважение и учителям, и шпане.
На втором курсе Юра Дубров женился на девочке из класса, и сразу, а скорее всего, еще до, она стала сильно и как-то нехорошо болеть – что-то вроде кистозного панкреатита, воспаления поджелудочной железы... с многократными хирургическими операциями, кишечными свищами, с безвременной кончиной на больничной койке в двадцать шесть или семь лет.
Когда приводилось идти к могилам бабушки и дедушки, а теперь вот и отца, черно-мраморный небольшой памятник Юриной жены виден был по левую руку центральной кладбищенской аллеи. Я узнавал тонкоскулый нестареющий абрис лика девочки нашей школы, напоминающий по изяществу косульи глаза и тонкие копытца пришвинской непревзойденной красавицы Хуан-Лу. Гравер добросовестно перенес все с фотографии на студенческом билете.
Юра тяжко переживал эту смерть. Пил, пил по-черному, ходили смутные слухи, что он спивается.
Как-то в дантовой середине жизни я повстречал его в вестибюле одной из городских больниц. В тридцать пять лет он был ни на что не годный конченый старик, беззубый, с растерянно-добрыми, беспомощными глазами, словно сгнивший изнутри будыль.
