Страница:
Он улыбался, так как теперь чувствовал и видел в ней только прелестную женщину. Уступая своему радостному, почти детски-веселому восторгу, он прикинулся ревнующим и отвечал на вопрос вопросом, пользуясь вызовом, который ему был сделан.
– Уж не любишь ли ты тех молодых людей, таких красивых, таких смелых в разговоре, которые пришли с тобой тогда на набережную Буколеона? – спросил Дромунд тоном, выражавшим больше любезности, чем упрека.
Ирина почувствовала себя счастливой, что имеет случай высказать ему, как чиста была до сих пор ее душа, и отвечала:
– Те, про кого ты говоришь, – мои братья. Их братская любовь оберегала свежесть моей души, сохранившей все силы любви, готовые излиться теперь на одного тебя!
Неудержимое опьянение волновало ее грудь и вызывало блеск в глазах.
Оно сообщилось также Дромунду, и он, торжественно подняв руку к небу, вскричал:
– Я проводил целые годы в море. Я плавал по рекам с цветущими берегами… Я жег незнакомые мне города… Я брал в плен женщин, как часть добычи… Я видел дев, принявших крещение и в объятиях моих товарищей забывавших все, даже не исключая самого имени Белого Человека. Я принуждал невольниц вышивать мне туники. Я их менял на оружие и браслеты… Но я никогда не любил!
Испугавшись того, что Дромунд в неудержимом порыве любви заключит ее в свои объятия, Ирина понемногу отступала к скамейке, удерживая своего возлюбленного жестами и маня его взором.

Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
– Уж не любишь ли ты тех молодых людей, таких красивых, таких смелых в разговоре, которые пришли с тобой тогда на набережную Буколеона? – спросил Дромунд тоном, выражавшим больше любезности, чем упрека.
Ирина почувствовала себя счастливой, что имеет случай высказать ему, как чиста была до сих пор ее душа, и отвечала:
– Те, про кого ты говоришь, – мои братья. Их братская любовь оберегала свежесть моей души, сохранившей все силы любви, готовые излиться теперь на одного тебя!
Неудержимое опьянение волновало ее грудь и вызывало блеск в глазах.
Оно сообщилось также Дромунду, и он, торжественно подняв руку к небу, вскричал:
– Я проводил целые годы в море. Я плавал по рекам с цветущими берегами… Я жег незнакомые мне города… Я брал в плен женщин, как часть добычи… Я видел дев, принявших крещение и в объятиях моих товарищей забывавших все, даже не исключая самого имени Белого Человека. Я принуждал невольниц вышивать мне туники. Я их менял на оружие и браслеты… Но я никогда не любил!
Испугавшись того, что Дромунд в неудержимом порыве любви заключит ее в свои объятия, Ирина понемногу отступала к скамейке, удерживая своего возлюбленного жестами и маня его взором.

Глава 17
Чувство
Полулежа на постели, Ирина смотрела на Дромунда, который сидел на ступени у ее ног, обратив к ней мужественное лицо. Она жалела, что они не могут оставаться так навсегда, в виде двух мраморных статуй, увековечивающих минуты несказанного счастия.
– Спой! – нежно сказала она Дромунду.
Поднявшись на ноги, он улыбнулся при виде того, как исчезла в ней последняя тень сопротивления. Стоя на ступеньке и опираясь рукой на мечь, он запел звучным голосом гимн, сочиненный одним варяжским князем в честь несчастной любви. В этом гимне говорилось, как во дни плавания на ладьях, среди тумана, окружающего пловцов темной могилой, тоска любви охватывает сердце гребца.
Мы дрались мечами! Мое судно оставляло за собою кровавый след, змеившийся по реке, как пурпурная лента. А несмотря на это дева из племени руссов меня отвергает.
Мы дрались мечами! Тысячи людей убивал я. Когда-нибудь убьют и меня… Тогда я буду встречен с улыбкой Валькирией, а дева из племени руссов будет меня оплакивать!
Переживая радости любви, Дромунд пел о смерти и страданиях.
Подавленная чувствами, Ирина хранила молчание. Она не могла вернуться к действительности, в ее ушах все еще раздавалось бряцание мечей, в глазах стояли льющиеся, как вино, наливаемое в кубки, потоки крови.
Ей было страшно и жутко. Она не могла понять, осталась ли она прежней Ириной – женой Никифора, Ириной – крещенной патриархом Полиевктом, ставшей христианкой, верящей в истинного Бога и ожидающей будущей жизни или превратилась в ту самую богиню, украшенную шлемом, вооруженную копьем и встречающую поцелуем своих алых уст освобожденные от тела души героев.
Горя желанием подарить такой поцелуй, она страстно придвинулась к Дромунду и прошептала:
– Моя душа вливается в твою, как весенний ручей в широкую речку… Я хочу забыться в твоем поцелуе, с которым любовь и возникает и кончается. Твой голос меня чарует и восхищает!..
Сильными, могучими руками, столько раз избавлявшими воина от смертельной опасности, привлек он к себе Ирину, обнимая ее трепещущий стан, точно желая испепелить ее своею любовью.
Бессильная в его руках, Ирина покорно отдавалась его объятиям и, не в силах отвести глаз от его горячего взора, едва шептала:
– Возьми меня! Ты дал мне душу, я твоя, твоя!..
Как бурное море, готовое поглотить все в своих грозных волнах, бушевала любовь в сердце Дромунда.
Забыв, что может причинить ей боль кольцами своей твердой кольчуги, он прижал ее к пылающей груди, весь отдаваясь своей страсти, своему счастью, своей любви.
Любовь, возвышающаяся над человеческими силами, уносила их от земли. Их союз был одновременно свадебным пиром и грозной битвой. Им казалось, что сама жизнь должна окончиться с их счастьем, с их поцелуем…
Последние лучи вечерней зари погасли. Темная южная ночь окутала своим таинственным покровом Босфор, дворцы, сады, геникеи, где кипело так много желаний, монастыри, где схоронено столько разбитых надежд. Окутала и счастливых влюбленных, забывших весь мир в объятиях друг друга.
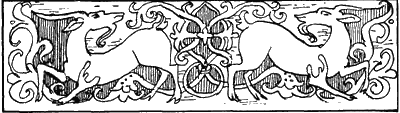
– Спой! – нежно сказала она Дромунду.
Поднявшись на ноги, он улыбнулся при виде того, как исчезла в ней последняя тень сопротивления. Стоя на ступеньке и опираясь рукой на мечь, он запел звучным голосом гимн, сочиненный одним варяжским князем в честь несчастной любви. В этом гимне говорилось, как во дни плавания на ладьях, среди тумана, окружающего пловцов темной могилой, тоска любви охватывает сердце гребца.
Мы дрались мечами! Мое судно оставляло за собою кровавый след, змеившийся по реке, как пурпурная лента. А несмотря на это дева из племени руссов меня отвергает.
Мы дрались мечами! Тысячи людей убивал я. Когда-нибудь убьют и меня… Тогда я буду встречен с улыбкой Валькирией, а дева из племени руссов будет меня оплакивать!
Переживая радости любви, Дромунд пел о смерти и страданиях.
Подавленная чувствами, Ирина хранила молчание. Она не могла вернуться к действительности, в ее ушах все еще раздавалось бряцание мечей, в глазах стояли льющиеся, как вино, наливаемое в кубки, потоки крови.
Ей было страшно и жутко. Она не могла понять, осталась ли она прежней Ириной – женой Никифора, Ириной – крещенной патриархом Полиевктом, ставшей христианкой, верящей в истинного Бога и ожидающей будущей жизни или превратилась в ту самую богиню, украшенную шлемом, вооруженную копьем и встречающую поцелуем своих алых уст освобожденные от тела души героев.
Горя желанием подарить такой поцелуй, она страстно придвинулась к Дромунду и прошептала:
– Моя душа вливается в твою, как весенний ручей в широкую речку… Я хочу забыться в твоем поцелуе, с которым любовь и возникает и кончается. Твой голос меня чарует и восхищает!..
Сильными, могучими руками, столько раз избавлявшими воина от смертельной опасности, привлек он к себе Ирину, обнимая ее трепещущий стан, точно желая испепелить ее своею любовью.
Бессильная в его руках, Ирина покорно отдавалась его объятиям и, не в силах отвести глаз от его горячего взора, едва шептала:
– Возьми меня! Ты дал мне душу, я твоя, твоя!..
Как бурное море, готовое поглотить все в своих грозных волнах, бушевала любовь в сердце Дромунда.
Забыв, что может причинить ей боль кольцами своей твердой кольчуги, он прижал ее к пылающей груди, весь отдаваясь своей страсти, своему счастью, своей любви.
Любовь, возвышающаяся над человеческими силами, уносила их от земли. Их союз был одновременно свадебным пиром и грозной битвой. Им казалось, что сама жизнь должна окончиться с их счастьем, с их поцелуем…
Последние лучи вечерней зари погасли. Темная южная ночь окутала своим таинственным покровом Босфор, дворцы, сады, геникеи, где кипело так много желаний, монастыри, где схоронено столько разбитых надежд. Окутала и счастливых влюбленных, забывших весь мир в объятиях друг друга.
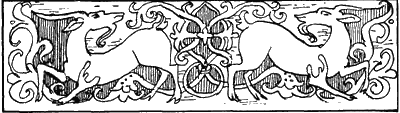
Глава 18
Сомнение
Дромунд с Ириной совсем забылись в сладкой дреме, которую ничто не нарушало.
Ирина унеслась в тот волшебный край, где нет всеразрушающего времени, где цветы не отцветают, поцелуй не прерывается и любовь живет вечно.
Дромунд тоже находился как бы в том ожидаемом раю, где Валкирии встречают лаской героев.
Воспоминания о жарких битвах и веселых оргиях заменились в его душе блаженством близости чистого, любящего существа.
Сам побежденный своим торжеством, он наслаждался покоем, при котором в душе чувствовалось так много сил и жизни.
Журчание фонтана пробудило Дромунда к сознанию. Он не сожалел о приятном забытье, так как ясное сознание давало ему еще большее счастие.
Не отрываясь от уст Ирины, он улыбнулся своему блаженству.
Полуразбуженная этим движением, Ирина медлила открыть глаза, чувствуя себя как бы в плену в сильных руках Дромунда; она боялась, что вместе с прерванным сном исчезнет и милая неволя.
В саду, между тем еще полным волшебных теней, готовилось нечто, ускорившее ее пробуждение.
Не способная удержаться даже и в этом случае от шутки Евдокия подговорила Троила и Агафия спрятаться под деревьями и оттуда следить за влюбленной парочкой.
К дружбе, которую питала Евдокия к благоразумной Ирине, примешивалось некоторое чувство зависти и желания увидать падение этой образцовой добродетели. Она страдала от необходимости с уважением преклоняться перед женщиной, которую любила.
Неспособная удержаться от каприза или прихоти, она с удовольствием видела теперь это. Ирина не нашла счастия в своей сдержанности и в конце концов отдалась любви неудержимо и страстно.
Падение сестры хотя и веселило Троила и Агафия, но и внушало им некоторое беспокойство. Они так безгранично пользовались ее расположением, что появление в ее сердце другой любви пугало их.
Несмотря на это, однако же, они не могли лишить себя маленького развлечения подшутить над сестрой. Спрятавшись в тени деревьев, они следили за нею и подслушивали.
– Что там делается? – спрашивал Троил.
– Все еще шепчутся, – отвечал Агафий.
– Да это журчит вода.
– Нет же!
– Я тебе говорю наверное: вода.
– Дай же слушать! – нетерпеливо прервала их Евдокия.
Услыхав пение Дромунда, они притихли, очарованные его удивительным голосом, но когда после пения наступила продолжительная тишина, трое шалунов весело переглянулись.
– Наконец-то! – сказал Агафий.
– Ну, слава Богу! – добавил Троил. – А то этот северный воин мне становился подозрителен.
– Нет, я в нем никогда не сомневалась! – воскликнула Евдокия смеясь.
Внезапно у них явилась мысль спеть под окном серенаду, причем Евдокия взялась аккомпанировать их пению на псалтерионе. Агафий и Троил должны были петь по очереди, так как голоса их не подходили друг к другу: Агафий пискливо визжал, а голос Троила напоминал собою звук падения каменьев в воду.
Они пережидали пока длившееся молчание еще больше подтвердило их догадку. При свете луны, волшебно озарявшем все кругом, наконец, полилась их песенка, сопровождаемая дребезжанием натянутых струн.
Милая, ночь так прекрасна, И сердце надежды полно, Но счастие долго не длится, Скоро проходит оно.
Услыхав слова этой песенки, Дромунд приподнялся и стал нетерпеливо искать в ногах свой меч.
Ирина удержала его в своих объятиях, сказав:
– Не бойся за меня, это поют они, вечные школьники, все обращающие в шутку, – Троил, Евдокия и Агафий.
Ирина успокаивала Дромунда, хотя сама глубоко чувствовала боль от этой неуместной шутки, так сильно диссонирующей с настроением, в котором она находилась, что лучше предпочла бы погибнуть, чем услышать пустую жестокую насмешку.
Но голоса между тем продолжали:
Скоро день настанет, Все тогда поймешь, Пожалеешь поцелуя, Что теперь даешь!
Дромунд сидел на конце постели и едва сдерживался, прислушиваясь к словам песни.
Ирина прижалась к его плечу, как бы ища защиты от нахлынувших тяжелых мыслей и предчувствий, которые заставляли ее так сильно страдать.
– О Боже! – шептала она. – Почему эта песня еще сильнее заставляет меня любить и еще больше желать тебя?
Она скрыла лицо на его широкой груди. А песня под окном между тем продолжала дальше свои жестокие предсказания:
Переполненные кубки Фалернского вина Печали, муки сердца Лишь утолят тогда.
Это было более, чем могла вынести взволнованная Ирина. Точно желая разбить себя и избавиться от невыносимой мысли, она приподняла голову и с силой стукнула ею о грудь Дромунда.
Из ее уст, только что улыбавшихся от счастья, вырвался крик отчаянной тоски.
И она зарыдала.

Ирина унеслась в тот волшебный край, где нет всеразрушающего времени, где цветы не отцветают, поцелуй не прерывается и любовь живет вечно.
Дромунд тоже находился как бы в том ожидаемом раю, где Валкирии встречают лаской героев.
Воспоминания о жарких битвах и веселых оргиях заменились в его душе блаженством близости чистого, любящего существа.
Сам побежденный своим торжеством, он наслаждался покоем, при котором в душе чувствовалось так много сил и жизни.
Журчание фонтана пробудило Дромунда к сознанию. Он не сожалел о приятном забытье, так как ясное сознание давало ему еще большее счастие.
Не отрываясь от уст Ирины, он улыбнулся своему блаженству.
Полуразбуженная этим движением, Ирина медлила открыть глаза, чувствуя себя как бы в плену в сильных руках Дромунда; она боялась, что вместе с прерванным сном исчезнет и милая неволя.
В саду, между тем еще полным волшебных теней, готовилось нечто, ускорившее ее пробуждение.
Не способная удержаться даже и в этом случае от шутки Евдокия подговорила Троила и Агафия спрятаться под деревьями и оттуда следить за влюбленной парочкой.
К дружбе, которую питала Евдокия к благоразумной Ирине, примешивалось некоторое чувство зависти и желания увидать падение этой образцовой добродетели. Она страдала от необходимости с уважением преклоняться перед женщиной, которую любила.
Неспособная удержаться от каприза или прихоти, она с удовольствием видела теперь это. Ирина не нашла счастия в своей сдержанности и в конце концов отдалась любви неудержимо и страстно.
Падение сестры хотя и веселило Троила и Агафия, но и внушало им некоторое беспокойство. Они так безгранично пользовались ее расположением, что появление в ее сердце другой любви пугало их.
Несмотря на это, однако же, они не могли лишить себя маленького развлечения подшутить над сестрой. Спрятавшись в тени деревьев, они следили за нею и подслушивали.
– Что там делается? – спрашивал Троил.
– Все еще шепчутся, – отвечал Агафий.
– Да это журчит вода.
– Нет же!
– Я тебе говорю наверное: вода.
– Дай же слушать! – нетерпеливо прервала их Евдокия.
Услыхав пение Дромунда, они притихли, очарованные его удивительным голосом, но когда после пения наступила продолжительная тишина, трое шалунов весело переглянулись.
– Наконец-то! – сказал Агафий.
– Ну, слава Богу! – добавил Троил. – А то этот северный воин мне становился подозрителен.
– Нет, я в нем никогда не сомневалась! – воскликнула Евдокия смеясь.
Внезапно у них явилась мысль спеть под окном серенаду, причем Евдокия взялась аккомпанировать их пению на псалтерионе. Агафий и Троил должны были петь по очереди, так как голоса их не подходили друг к другу: Агафий пискливо визжал, а голос Троила напоминал собою звук падения каменьев в воду.
Они пережидали пока длившееся молчание еще больше подтвердило их догадку. При свете луны, волшебно озарявшем все кругом, наконец, полилась их песенка, сопровождаемая дребезжанием натянутых струн.
Милая, ночь так прекрасна, И сердце надежды полно, Но счастие долго не длится, Скоро проходит оно.
Услыхав слова этой песенки, Дромунд приподнялся и стал нетерпеливо искать в ногах свой меч.
Ирина удержала его в своих объятиях, сказав:
– Не бойся за меня, это поют они, вечные школьники, все обращающие в шутку, – Троил, Евдокия и Агафий.
Ирина успокаивала Дромунда, хотя сама глубоко чувствовала боль от этой неуместной шутки, так сильно диссонирующей с настроением, в котором она находилась, что лучше предпочла бы погибнуть, чем услышать пустую жестокую насмешку.
Но голоса между тем продолжали:
Скоро день настанет, Все тогда поймешь, Пожалеешь поцелуя, Что теперь даешь!
Дромунд сидел на конце постели и едва сдерживался, прислушиваясь к словам песни.
Ирина прижалась к его плечу, как бы ища защиты от нахлынувших тяжелых мыслей и предчувствий, которые заставляли ее так сильно страдать.
– О Боже! – шептала она. – Почему эта песня еще сильнее заставляет меня любить и еще больше желать тебя?
Она скрыла лицо на его широкой груди. А песня под окном между тем продолжала дальше свои жестокие предсказания:
Переполненные кубки Фалернского вина Печали, муки сердца Лишь утолят тогда.
Это было более, чем могла вынести взволнованная Ирина. Точно желая разбить себя и избавиться от невыносимой мысли, она приподняла голову и с силой стукнула ею о грудь Дромунда.
Из ее уст, только что улыбавшихся от счастья, вырвался крик отчаянной тоски.
И она зарыдала.

Глава 19
Клятва
С гневно нахмуренными бровями прислушивался Дромунд к раздавшимся аккордам псалтериона, едва сдерживая желание наказать и уничтожить своих обидчиков. Плач и горе Ирины лишили его последнего самообладания. Бережно положив свою возлюбленную на подушки, он вышел на террасу ярко освещенную луной.
Появление его грозной фигуры моментально прекратило игру Евдокии и заставило смолкнуть один за другим голоса братьев.
Испугавшись разгневанного Дромунда, наши три музыканта, как дети, пустились бежать, и их веселый смех опять послышался уже далеко, в конце аллеи.
Оставшись одна, Ирина заплакала еще сильнее. Она как бы уже переживала страдания, которые ей предсказывались в песне. Но страх потерять любимого человека из-за минутного гнева или несдержанности, которая могла повести к трагической развязке, заставил ее сдержать горе. Приподнявшись, она стала смотреть в окно.
Полная луна щедро разливала кругом свой мягкий, волшебный свет. В саду деревья бросали таинственные тени. Купола и крыши Царицы мира искрились и блистали, стены же зданий казались совсем мрачно-белыми. Над Босфором торжественно сиял лазурный свод небес, а на горизонте виднелись стоявшие, как призраки, темные леса.
Дромунд продолжал стоять на залитой лунным светом террасе и тревожно смотрел на звезды.
Днем, среди обычного оживления Буколеона, под горячими приветливыми лучами солнца, озарявшего дворцы и улицы, Дромунд не чувствовал обыкновенно присутствия богов. Без сомнений и трепета вел он веселую жизнь воина; но таинственный свет луны заставил его оглянуться на свои византийские увлечения и припомнить трезвые верования своей родины.
Считая земную жизнь как бы предверием рая, он боялся оскорбить будущую вечную любовь горячностью здешней страсти.
Ирина подошла и склонила свою голову к нему на грудь, на которой было нататуировано изображение ладьи, обвила его стан руками и со страданием смотрела на его глаза, обращенные к небу. Она не боялась, что какая-нибудь женщина отнимет его от нее но она чувствовала существование неземной соперницы, с которой у нее не хватило бы сил бороться. От избытка страдания она, наконец, закричала:
– Вернись ко мне, или я умру!
Разбуженный этой мольбой, он медленно опустил голову, и только тогда заметил, что Ирина лежала на его груди, когда взглянул на ее грустное лицо, казавшееся от тени распущенных волос страшно бледным.
Она показалась ему каким-то неземным существом, и он невольно подумал: «Она не долго будет жить».
Тысячу раз со своими товарищами он проливал кровь. Ничто их не останавливало, ни ужас женщин, ни беззащитность детей. Они смеялись над мольбами, над отчаянием. Никогда ни одна слеза не навернулась на его светлых глазах, и никогда сожаление не лишало его сана.
Теперь же при виде этой женщины, готовой отдать за его любовь всю жизнь, он почувствовал, как под кольчугой больно защемило его сердце; женщина эта стала ему так дорога, как не была и в бурную минуту страсти.
Это новое чувство, нарушившее покой Дромунда, давало его душе неизведанную сладость.
Он подумал, что никакие клятвы существу, которого любовь уже наполовину разбита, не стеснят его и не поставятся ему в вину. Завтра же звук рога и призыв полководца Фоки возвратят его на настоящий путь. И потому он может убаюкать тоску этой женщины лаской и любовью, не изменяя своим надеждам и своим богам.
– Ирина, – сказал он, бросая последний взгляд на звезды, как бы прося у них прощения, – позволь своей любви свободно нестись навстречу моему поцелую…
И он старался заглушить в ней ревность новыми ласками, вливая в них всю возвращающуюся силу своей любви и страсти.
Ему вспомнилось, как овладел он этой душой, и что, должно быть, сами асы сделали его пение таким чарующим, что так всецело отдалось ему сердце Ирины.
Опьяняя свою возлюбленную самыми горячими ласками, Дромунд под аккомпанемент тихого шелеста ночи запел:
Если бы перед моими ослепленными очами показалась гордая богиня и молвила: «Твой час настал! Один открывает для тебя двери рая!»
Я бы отвечал тогда Валькирии:
Напротив того, ее сердце наполнилось сладкой уверенностью, которая могла бы выразиться в таких словах: «Он мною овладел… Теперь он сам мой невольник…»
Счастье было почти не по силам Ирине; Дромунд снова почувствовал, что она падает, и, нежно обхватив ее стан, он унес ее в окутанный мраком альков.

Появление его грозной фигуры моментально прекратило игру Евдокии и заставило смолкнуть один за другим голоса братьев.
Испугавшись разгневанного Дромунда, наши три музыканта, как дети, пустились бежать, и их веселый смех опять послышался уже далеко, в конце аллеи.
Оставшись одна, Ирина заплакала еще сильнее. Она как бы уже переживала страдания, которые ей предсказывались в песне. Но страх потерять любимого человека из-за минутного гнева или несдержанности, которая могла повести к трагической развязке, заставил ее сдержать горе. Приподнявшись, она стала смотреть в окно.
Полная луна щедро разливала кругом свой мягкий, волшебный свет. В саду деревья бросали таинственные тени. Купола и крыши Царицы мира искрились и блистали, стены же зданий казались совсем мрачно-белыми. Над Босфором торжественно сиял лазурный свод небес, а на горизонте виднелись стоявшие, как призраки, темные леса.
Дромунд продолжал стоять на залитой лунным светом террасе и тревожно смотрел на звезды.
Днем, среди обычного оживления Буколеона, под горячими приветливыми лучами солнца, озарявшего дворцы и улицы, Дромунд не чувствовал обыкновенно присутствия богов. Без сомнений и трепета вел он веселую жизнь воина; но таинственный свет луны заставил его оглянуться на свои византийские увлечения и припомнить трезвые верования своей родины.
Считая земную жизнь как бы предверием рая, он боялся оскорбить будущую вечную любовь горячностью здешней страсти.
Ирина подошла и склонила свою голову к нему на грудь, на которой было нататуировано изображение ладьи, обвила его стан руками и со страданием смотрела на его глаза, обращенные к небу. Она не боялась, что какая-нибудь женщина отнимет его от нее но она чувствовала существование неземной соперницы, с которой у нее не хватило бы сил бороться. От избытка страдания она, наконец, закричала:
– Вернись ко мне, или я умру!
Разбуженный этой мольбой, он медленно опустил голову, и только тогда заметил, что Ирина лежала на его груди, когда взглянул на ее грустное лицо, казавшееся от тени распущенных волос страшно бледным.
Она показалась ему каким-то неземным существом, и он невольно подумал: «Она не долго будет жить».
Тысячу раз со своими товарищами он проливал кровь. Ничто их не останавливало, ни ужас женщин, ни беззащитность детей. Они смеялись над мольбами, над отчаянием. Никогда ни одна слеза не навернулась на его светлых глазах, и никогда сожаление не лишало его сана.
Теперь же при виде этой женщины, готовой отдать за его любовь всю жизнь, он почувствовал, как под кольчугой больно защемило его сердце; женщина эта стала ему так дорога, как не была и в бурную минуту страсти.
Это новое чувство, нарушившее покой Дромунда, давало его душе неизведанную сладость.
Он подумал, что никакие клятвы существу, которого любовь уже наполовину разбита, не стеснят его и не поставятся ему в вину. Завтра же звук рога и призыв полководца Фоки возвратят его на настоящий путь. И потому он может убаюкать тоску этой женщины лаской и любовью, не изменяя своим надеждам и своим богам.
– Ирина, – сказал он, бросая последний взгляд на звезды, как бы прося у них прощения, – позволь своей любви свободно нестись навстречу моему поцелую…
И он старался заглушить в ней ревность новыми ласками, вливая в них всю возвращающуюся силу своей любви и страсти.
Ему вспомнилось, как овладел он этой душой, и что, должно быть, сами асы сделали его пение таким чарующим, что так всецело отдалось ему сердце Ирины.
Опьяняя свою возлюбленную самыми горячими ласками, Дромунд под аккомпанемент тихого шелеста ночи запел:
Если бы перед моими ослепленными очами показалась гордая богиня и молвила: «Твой час настал! Один открывает для тебя двери рая!»
Я бы отвечал тогда Валькирии:
Ирина далека была от подозрений и потому не могла различить в душе этого богатыря чувства, отождествляющего ее с загробными тенями, чувства, в котором ее земное счастье должно было погибнуть.
«Из-за любви к смертной
я отказываюсь от вечной девы.
Я на земле нашел мой рай!»
Напротив того, ее сердце наполнилось сладкой уверенностью, которая могла бы выразиться в таких словах: «Он мною овладел… Теперь он сам мой невольник…»
Счастье было почти не по силам Ирине; Дромунд снова почувствовал, что она падает, и, нежно обхватив ее стан, он унес ее в окутанный мраком альков.

Глава 20
Упоение
Луна ярко сияла в вышине и освещала забывшихся покойным сном в объятиях друг друга Дромунда и Ирину.
Кругом царила торжественная тишина. Лишь иногда донесется из отдаленных улиц Буколеона лай собаки, или в кипарисовой аллее звучно раздадутся торопливые шаги запоздалого раба. Иногда мимолетное облачко закроет диск луны, и опять наступает тишина и опять светло, опять ясная южная ночь хранит покой и счастие влюбленных, как бы празднуя свободу.
С первым прокравшимся в комнату лучом утренней зари Дромунд и Ирина проснулись. Из мира очаровательных грез и восторгов опять пришлось возвращаться к действительной жизни. При этом они оба почувствовали, что нечто прекрасное прошло и уже никогда более не возвратится.
Целуя глаза своей возлюбленной, Дромунд стер слезу с ее длинных ресниц.
– Это роса, которую ночь оставляет в каждом цветке, – сказала Ирина, протягивая к нему, как ребенок, руки.
Он нежно поднял ее и, поддерживая, подвел к бассейну.
Но когда Дромунд увидал ее спускающуюся с последней ступени мраморной лесенки к прозрачной воде, в которой дрожал, отражаясь, ее чудный образ, он не мог удержаться от крика восхищения:
– Подожди, подожди меня! Я хочу с тобой вместе погрузиться в воду…
Улыбаясь, она смотрела, как спешил он распустить пояс, расстегнуть кольчугу и сбросить с себя куртку из лосиной кожи. Отвернувшись потом, она подала ему руку.
Бассейн Евдокии был устроен по образцу тех, которые базилисса Теофано приказала соорудить в садах гинекея. Посредине его стоял столб, служивший убежищем для голубей. Купающейся приятно было видеть в зеркале воды свое отражение, окруженное этими снежно-белыми птицами. Но скромная Ирина, смущенная прозрачностью воды, поспешила взволновать гладкую ее поверхность, хлопая по ней руками, причем испуганные голуби разлетелись в разные стороны.
Последние звездочки уже погасли на небосклоне, когда возлюбленные вышли в сад, освежившись прохладной водой и подкрепясь фигами, полную корзину которых, поставленную заботливым слугою Евдокии, они нашли на балконе. На дне корзины лежала записка последней, вполне сглаживающая неприятное впечатление серенады.
Евдокия писала:
Хорина обещал мне удержать твоего мужа за городом до завтра. Не прерывай своего счастья. Я уступаю тебе мой дом. Вечером приходи в конец сада, где я буду ждать тебя с носилками, в которых мы и отправимся в твой дворец, так что никто нас не увидит.
Успокоенная такой заботливостью, Ирина об руку с Дромундом направилась в таинственную глубину сада. Никогда до сих пор не испытав любви, Дромунд не замечал красот природы и не любовался весенней утренней зарей. Теперь же он чувствовал, что аромат проснувшихся цветов, пение птиц, журчанье ручейков, – все сливалось в один стройный хор, воспевавший его счастье.
Долго гуляли влюбленные под тенью кипарисов, упиваясь новыми для них ощущениями, и, наконец, по лабиринту извилистых аллей поднялись на возвышенную террасу, с которой открывался восхитительный вид на город.
Группы домов Буколеона, сверкая различными красками – розовой, лиловой, белой, – сливались между собой в некоторое подобие пчелиного улья, в котором пробуждалась уже жизнь. В прозрачном утреннем воздухе ярко сияли золоченые крыши и круглые купола церквей, которые казались грандиозными хрустальными шарами, громоздившимися один над другим. А внизу расстилался Босфор, как бы опоясанный бледным поясом тумана. Бледно-розовый цвет зари понемногу принял оттенок пурпура, и небо на востоке, казалось, горело ярким пламенем. Это огненное зарево, разливаясь по городу, придавало зданиям красноватый оттенок и как бы обхватывало их пожаром, в котором колонны большого дворца казались огненными столбами.
Пораженный этой волшебной картиной, Дромунд воскликнул:
– Смотри! Пожар! Весь город в огне!
Но зарево восхода отразилось и на их лицах. Взглянув на своего возлюбленного, Ирина с восторгом увидала в его расширенных зрачках всю силу этой варварской души, в которой опьянение убийством, битвам, дикими оргиями и бурными порывами страсти заменилось теперь чувством восторга перед красотой, перед прекрасным.
Видя выражение экстаза в его глазах, она забыла весь мир и сосредоточилась на одном желании доставить ему полное счастие, познакомить его с блаженством, даваемым широкой мыслью, сильным чувством, красотой, страданием, короче – полной сознательной жизнью.
В эту минуту в ней сказалась душа византийки, выросшей среди золота и мишурного блеска, среди красоты и растления, среди аскетизма монастырей и разврата гинекеев, и со страстным жестом, как бы желая обнять весь горизонт со всеми церквами, садами, дворцами и даже хижинами азиатского берега, она бросилась на шею варвара, воскликнув:
– Море с его кораблями, город со всеми его сокровищами, весь Божий мир – все твое!
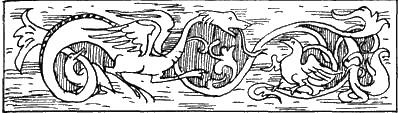
Кругом царила торжественная тишина. Лишь иногда донесется из отдаленных улиц Буколеона лай собаки, или в кипарисовой аллее звучно раздадутся торопливые шаги запоздалого раба. Иногда мимолетное облачко закроет диск луны, и опять наступает тишина и опять светло, опять ясная южная ночь хранит покой и счастие влюбленных, как бы празднуя свободу.
С первым прокравшимся в комнату лучом утренней зари Дромунд и Ирина проснулись. Из мира очаровательных грез и восторгов опять пришлось возвращаться к действительной жизни. При этом они оба почувствовали, что нечто прекрасное прошло и уже никогда более не возвратится.
Целуя глаза своей возлюбленной, Дромунд стер слезу с ее длинных ресниц.
– Это роса, которую ночь оставляет в каждом цветке, – сказала Ирина, протягивая к нему, как ребенок, руки.
Он нежно поднял ее и, поддерживая, подвел к бассейну.
Но когда Дромунд увидал ее спускающуюся с последней ступени мраморной лесенки к прозрачной воде, в которой дрожал, отражаясь, ее чудный образ, он не мог удержаться от крика восхищения:
– Подожди, подожди меня! Я хочу с тобой вместе погрузиться в воду…
Улыбаясь, она смотрела, как спешил он распустить пояс, расстегнуть кольчугу и сбросить с себя куртку из лосиной кожи. Отвернувшись потом, она подала ему руку.
Бассейн Евдокии был устроен по образцу тех, которые базилисса Теофано приказала соорудить в садах гинекея. Посредине его стоял столб, служивший убежищем для голубей. Купающейся приятно было видеть в зеркале воды свое отражение, окруженное этими снежно-белыми птицами. Но скромная Ирина, смущенная прозрачностью воды, поспешила взволновать гладкую ее поверхность, хлопая по ней руками, причем испуганные голуби разлетелись в разные стороны.
Последние звездочки уже погасли на небосклоне, когда возлюбленные вышли в сад, освежившись прохладной водой и подкрепясь фигами, полную корзину которых, поставленную заботливым слугою Евдокии, они нашли на балконе. На дне корзины лежала записка последней, вполне сглаживающая неприятное впечатление серенады.
Евдокия писала:
Хорина обещал мне удержать твоего мужа за городом до завтра. Не прерывай своего счастья. Я уступаю тебе мой дом. Вечером приходи в конец сада, где я буду ждать тебя с носилками, в которых мы и отправимся в твой дворец, так что никто нас не увидит.
Успокоенная такой заботливостью, Ирина об руку с Дромундом направилась в таинственную глубину сада. Никогда до сих пор не испытав любви, Дромунд не замечал красот природы и не любовался весенней утренней зарей. Теперь же он чувствовал, что аромат проснувшихся цветов, пение птиц, журчанье ручейков, – все сливалось в один стройный хор, воспевавший его счастье.
Долго гуляли влюбленные под тенью кипарисов, упиваясь новыми для них ощущениями, и, наконец, по лабиринту извилистых аллей поднялись на возвышенную террасу, с которой открывался восхитительный вид на город.
Группы домов Буколеона, сверкая различными красками – розовой, лиловой, белой, – сливались между собой в некоторое подобие пчелиного улья, в котором пробуждалась уже жизнь. В прозрачном утреннем воздухе ярко сияли золоченые крыши и круглые купола церквей, которые казались грандиозными хрустальными шарами, громоздившимися один над другим. А внизу расстилался Босфор, как бы опоясанный бледным поясом тумана. Бледно-розовый цвет зари понемногу принял оттенок пурпура, и небо на востоке, казалось, горело ярким пламенем. Это огненное зарево, разливаясь по городу, придавало зданиям красноватый оттенок и как бы обхватывало их пожаром, в котором колонны большого дворца казались огненными столбами.
Пораженный этой волшебной картиной, Дромунд воскликнул:
– Смотри! Пожар! Весь город в огне!
Но зарево восхода отразилось и на их лицах. Взглянув на своего возлюбленного, Ирина с восторгом увидала в его расширенных зрачках всю силу этой варварской души, в которой опьянение убийством, битвам, дикими оргиями и бурными порывами страсти заменилось теперь чувством восторга перед красотой, перед прекрасным.
Видя выражение экстаза в его глазах, она забыла весь мир и сосредоточилась на одном желании доставить ему полное счастие, познакомить его с блаженством, даваемым широкой мыслью, сильным чувством, красотой, страданием, короче – полной сознательной жизнью.
В эту минуту в ней сказалась душа византийки, выросшей среди золота и мишурного блеска, среди красоты и растления, среди аскетизма монастырей и разврата гинекеев, и со страстным жестом, как бы желая обнять весь горизонт со всеми церквами, садами, дворцами и даже хижинами азиатского берега, она бросилась на шею варвара, воскликнув:
– Море с его кораблями, город со всеми его сокровищами, весь Божий мир – все твое!
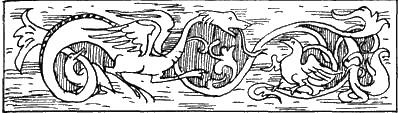
Глава 21
На могилах
Никифор между тем наблюдал в малом порте за разгрузкой судов с зерном.
Вдыхая зловредные испарения морского берега, он заразился тяжелой лихорадкой. Мучимый попеременно ознобом и жаром, он то приказывал разводить огонь в жаровнях, чтобы согреть коченеющие члены, то кидался раздетый на каменный пол, желая хоть немного охладиться.
Несмотря на то, что жадность к деньгам сделала его жизнь совсем жалкой, Никифор все-таки страшно боялся умереть. Может быть, его путало то возмездие, которое на том свете, как обещали священники, ожидало всех скряг, а может быть, он был уверен, что в раю не позволяется копить золото; и этой уверенности уже было достаточно для того, чтобы не желать попасть туда.
Болезнь настигла его при ссыпке испорченного зерна, которым он намеревался кормить солдат Фоки; поэтому он принял ее как наказание Божье, но, не будучи в силах отказаться от возможности увеличить свое богатство, он вздумал войти с небом в сделку.
Для этого Никифор отправился в молельню патриарха, где Полиевкт принимал избранных овец своего духовного стада, и со свойственной торговым людям манерой утаивать положение своих дел сказал ему:
– У меня есть проект, благодаря которому положение стариков в приюте очень бы улучшилось, и если бы только Господь Бог исцелил меня, то проект этот тотчас же был бы выполнен. Мое выздоровление и небу принесло бы пользу.
– Бог, – сказал строго набожный монах, – не нуждается ни в какой выгоде. Молись Ему, смиряя свою гордость, и Он поможет, если ты будешь достоин спасения.
– Благодарю за добрый совет, – отвечал банкир. – В таком случае я отправлюсь в монастырь на Олимпе и буду молиться о своем выздоровлении, а на приют все же прошу принять мою лепту.
При этом он подал Полиевкту довольно значительную сумму денег. Принимая презрение патриарха к золоту за проявление этикета, обязательно для духовных лиц, Никифор был уверен, что за плату Полиевкт все же помянет в своих молитвах такого щедрого благотворителя. Он радовался, что так удачно обошел большое препятствие: Бог получил теперь выгоду с хлебного дела, без большой потери для дьявола.
С такими набожными мыслями Никифор сел в носилки и отправился на богомолье.
Весь бледный от страха, поднимался он по крутому подъему священной горы. Посетил все монастыри, побывал во всех келиях и молился вместе с отшельниками, подвергая себя благодетельным влияниям воздержания и пребывания на чистом воздухе.
Пользуясь его отлучкой, Ирина со своим возлюбленным отдавалась между тем восторгам любви…
Они уходили гулять в отдаленные кварталы, где их близость не обращала на себя ничьего внимания. Охотнее всего они взбирались по горе до церкви Всех Святых, находя среди могил нужное им уединение.
Вокруг старинного храма, который был сооружен еще Юстинианом, находилось царское кладбище. Тут лежали все умершие базилевсы, как храбрые и воинственные, проведшие свою жизнь на поле брани, в заботах о защите и укреплении своего государства, так и мудрые правители, не покидавшие своих дворцов, подобно тем мозаичным их изображениям, которые красовались на стенах гинекея.
Гробницы были расположены или рядом, под портиками, около церкви, или по одиночке, в кладбищенском саду. Они были сделаны из прекрасного дорогого мрамора, привезенного из отдаленных провинций.
В их крышках высечены были кресты и тексты из Святого Писания. Каждая гробница была изукрашена редкими драгоценностями и обнесена золоченной решеткой с самоцветными камнями.
Дромунд, как ребенок, любовался игрой этих камней, переливавшихся всеми цветами радуги под яркими лучами солнца; он с наслаждением проводил рукой по остроконечным крышкам саркофагов и разглядывал высеченные на мраморе изображения.
Ирине нравилось, собственно, кладбище, так много говорившее о смерти, в силу контраста с тем ярким и живым чувством, которое горело в ее душе, а кроме того, под портиками было так тихо, так уединенно. Ничто не нарушало молчаливого покоя гробниц, только ветер, доносившийся с Босфора, легкой дрожью пробегал по траве и густой зелени кипарисов.
Однажды вечером, сидя перед совершенно новым и роскошно украшенным драгоценностями саркофагом, высеченным из редкого бледно-розового мрамора Сангорских копей, Ирина спросила:
– Знаешь ли ты имя императора, который покоится в этой гробнице?
– Тут лежит Багрянородный, – отвечал Дромунд.
– Кто же сказал тебе это?
– Я сам видел его похороны. При мне сняли с его чела корону, и я слышал, как патриарх вскричал три раза: «Отыди с миром, базилевс! Царь царствующих, Господь господствующих тебя призывает».
– И я тоже была при погребении, – сказала Ирина. – Я находилась в свите, сопровождавшей базилиссу Теофано. Все подробности этого дня я живо помню. Будто и теперь стоят перед глазами ряды императорской стражи из руссов, армян, скандинавов, венецианцев и амальфитян. Будто вижу двойной ряд заостренных с обеих сторон секир, изогнутые сабли, щиты, пики; вижу пансебаста и главного гетериара. О, мой милый! Как же случилось, что я не заметила тебя!.. Почему мои глаза не увидали твоего лица среди толпы? Как время, канувшее в вечность, потеряны для нас часы, когда мы не знали друг друга, не сливались в поцелуй любви!
И Ирина прижалась к Дромунду, желая вознаградить и утешить себя лаской; но густые брови ее возлюбленного нахмурились, в глазах его блеснул огонь, выдававший всю дикость его нетронутой натуры, и он сказал:
– Ты помнишь, конечно, и Ангуля? Женщины всегда обращают внимание на знатных начальников, выдающихся из рядов тем, что едут впереди верхами. Не стыдишься ли ты, что полюбила меня, шедшего тогда пешком, в строю воинов? Не желала ли ты, чтобы друзья твои, видя проходящую дружину, с завистью восклицали: «Вот избранник Ирины, это воин, блистающий красотой и силой».
Чувствуя страдание под жесткостью его тона, Ирина не оскорбилась этими словами и мягко ответила:
– О, Дромунд! Не по зависти других наша любовь дает нам счастие! Я люблю тебя и не нуждаюсь в том, чтоб другие женщины находили тебя достойным любви. Я упиваюсь твоей красотой, твоей силой не потому, что все превозносят их. Я ставлю тебя выше, чем может это сделать мнение людей, – так высоко, что никакая земная власть не в силах поставить тебя на такую высоту, ничей взгляд, горящий завистью или восхищением, не достигнет до тебя. Ты владеешь мною безраздельно, в мечтах и на деле, на земле и на небе, а, пожалуй, между небом и землею, так же далеко от Бога, как и от людей, в уединении нашей взаимной любви.
Вдыхая зловредные испарения морского берега, он заразился тяжелой лихорадкой. Мучимый попеременно ознобом и жаром, он то приказывал разводить огонь в жаровнях, чтобы согреть коченеющие члены, то кидался раздетый на каменный пол, желая хоть немного охладиться.
Несмотря на то, что жадность к деньгам сделала его жизнь совсем жалкой, Никифор все-таки страшно боялся умереть. Может быть, его путало то возмездие, которое на том свете, как обещали священники, ожидало всех скряг, а может быть, он был уверен, что в раю не позволяется копить золото; и этой уверенности уже было достаточно для того, чтобы не желать попасть туда.
Болезнь настигла его при ссыпке испорченного зерна, которым он намеревался кормить солдат Фоки; поэтому он принял ее как наказание Божье, но, не будучи в силах отказаться от возможности увеличить свое богатство, он вздумал войти с небом в сделку.
Для этого Никифор отправился в молельню патриарха, где Полиевкт принимал избранных овец своего духовного стада, и со свойственной торговым людям манерой утаивать положение своих дел сказал ему:
– У меня есть проект, благодаря которому положение стариков в приюте очень бы улучшилось, и если бы только Господь Бог исцелил меня, то проект этот тотчас же был бы выполнен. Мое выздоровление и небу принесло бы пользу.
– Бог, – сказал строго набожный монах, – не нуждается ни в какой выгоде. Молись Ему, смиряя свою гордость, и Он поможет, если ты будешь достоин спасения.
– Благодарю за добрый совет, – отвечал банкир. – В таком случае я отправлюсь в монастырь на Олимпе и буду молиться о своем выздоровлении, а на приют все же прошу принять мою лепту.
При этом он подал Полиевкту довольно значительную сумму денег. Принимая презрение патриарха к золоту за проявление этикета, обязательно для духовных лиц, Никифор был уверен, что за плату Полиевкт все же помянет в своих молитвах такого щедрого благотворителя. Он радовался, что так удачно обошел большое препятствие: Бог получил теперь выгоду с хлебного дела, без большой потери для дьявола.
С такими набожными мыслями Никифор сел в носилки и отправился на богомолье.
Весь бледный от страха, поднимался он по крутому подъему священной горы. Посетил все монастыри, побывал во всех келиях и молился вместе с отшельниками, подвергая себя благодетельным влияниям воздержания и пребывания на чистом воздухе.
Пользуясь его отлучкой, Ирина со своим возлюбленным отдавалась между тем восторгам любви…
Они уходили гулять в отдаленные кварталы, где их близость не обращала на себя ничьего внимания. Охотнее всего они взбирались по горе до церкви Всех Святых, находя среди могил нужное им уединение.
Вокруг старинного храма, который был сооружен еще Юстинианом, находилось царское кладбище. Тут лежали все умершие базилевсы, как храбрые и воинственные, проведшие свою жизнь на поле брани, в заботах о защите и укреплении своего государства, так и мудрые правители, не покидавшие своих дворцов, подобно тем мозаичным их изображениям, которые красовались на стенах гинекея.
Гробницы были расположены или рядом, под портиками, около церкви, или по одиночке, в кладбищенском саду. Они были сделаны из прекрасного дорогого мрамора, привезенного из отдаленных провинций.
В их крышках высечены были кресты и тексты из Святого Писания. Каждая гробница была изукрашена редкими драгоценностями и обнесена золоченной решеткой с самоцветными камнями.
Дромунд, как ребенок, любовался игрой этих камней, переливавшихся всеми цветами радуги под яркими лучами солнца; он с наслаждением проводил рукой по остроконечным крышкам саркофагов и разглядывал высеченные на мраморе изображения.
Ирине нравилось, собственно, кладбище, так много говорившее о смерти, в силу контраста с тем ярким и живым чувством, которое горело в ее душе, а кроме того, под портиками было так тихо, так уединенно. Ничто не нарушало молчаливого покоя гробниц, только ветер, доносившийся с Босфора, легкой дрожью пробегал по траве и густой зелени кипарисов.
Однажды вечером, сидя перед совершенно новым и роскошно украшенным драгоценностями саркофагом, высеченным из редкого бледно-розового мрамора Сангорских копей, Ирина спросила:
– Знаешь ли ты имя императора, который покоится в этой гробнице?
– Тут лежит Багрянородный, – отвечал Дромунд.
– Кто же сказал тебе это?
– Я сам видел его похороны. При мне сняли с его чела корону, и я слышал, как патриарх вскричал три раза: «Отыди с миром, базилевс! Царь царствующих, Господь господствующих тебя призывает».
– И я тоже была при погребении, – сказала Ирина. – Я находилась в свите, сопровождавшей базилиссу Теофано. Все подробности этого дня я живо помню. Будто и теперь стоят перед глазами ряды императорской стражи из руссов, армян, скандинавов, венецианцев и амальфитян. Будто вижу двойной ряд заостренных с обеих сторон секир, изогнутые сабли, щиты, пики; вижу пансебаста и главного гетериара. О, мой милый! Как же случилось, что я не заметила тебя!.. Почему мои глаза не увидали твоего лица среди толпы? Как время, канувшее в вечность, потеряны для нас часы, когда мы не знали друг друга, не сливались в поцелуй любви!
И Ирина прижалась к Дромунду, желая вознаградить и утешить себя лаской; но густые брови ее возлюбленного нахмурились, в глазах его блеснул огонь, выдававший всю дикость его нетронутой натуры, и он сказал:
– Ты помнишь, конечно, и Ангуля? Женщины всегда обращают внимание на знатных начальников, выдающихся из рядов тем, что едут впереди верхами. Не стыдишься ли ты, что полюбила меня, шедшего тогда пешком, в строю воинов? Не желала ли ты, чтобы друзья твои, видя проходящую дружину, с завистью восклицали: «Вот избранник Ирины, это воин, блистающий красотой и силой».
Чувствуя страдание под жесткостью его тона, Ирина не оскорбилась этими словами и мягко ответила:
– О, Дромунд! Не по зависти других наша любовь дает нам счастие! Я люблю тебя и не нуждаюсь в том, чтоб другие женщины находили тебя достойным любви. Я упиваюсь твоей красотой, твоей силой не потому, что все превозносят их. Я ставлю тебя выше, чем может это сделать мнение людей, – так высоко, что никакая земная власть не в силах поставить тебя на такую высоту, ничей взгляд, горящий завистью или восхищением, не достигнет до тебя. Ты владеешь мною безраздельно, в мечтах и на деле, на земле и на небе, а, пожалуй, между небом и землею, так же далеко от Бога, как и от людей, в уединении нашей взаимной любви.
