Страница:
Фантазии Льюиса не давали покоя картины гниения, распада, кишения трупных червей. Возможно, этому феномену нетрудно было бы подыскать истолкование по Фрейду, но мы, не имея доступа к подсознанию автора, ограничимся указанием на этот документально зафиксированный факт и отметим, что тут рисунок Льюиса отличался особой наглядностью и выразительностью. Пример. Агнеса пробуждается от летаргического сна и обнаруживает, что покоится в склепе: «Я держала в руках разложившуюся, кишащую червями мертвую голову! И узнала истлевшие черты монахини, скончавшейся несколько месяцев назад… Отовсюду на меня смотрели эмблемы Смерти — черепа, берцовые кости, лопатки и другие останки смертных тел валялись на покрытом сыростью полу».
Уж на что немецкие (любимые Льюисом Бюргер и Уланд) и английские (Колридж, Саути) романтики поднаторели в изображении кладбищенской и демонической жути, тут Льюис оставил их позади, особенно в живописании тлена. Одной из наиболее леденящих в романтической поэзии считается сцена явления замогильного возлюбленного в канонической балладе Бюргера «Ленора». Сравним ее в двойном варианте — по вольному переложению и сравнительно точному переводу В. А. Жуковского — с аналогичным эпизодом баллады Льюиса «Алонсо Отважный и Краса Имоген», вставленной в текст романа.
Одержимость Льюиса поэзией нашла в романе самое прямое подтверждение — проза изрядно разбавлена длинными поэтическими вставками, большей частью уместными, но иной раз выбивающимися из контекста и даже, как в случае с растянутым на пятнадцать строф «Полуночным песнопением» кроткой девы, оставляющими комичное впечатление. Один из персонажей книги вдается в обстоятельные и сочувственные рассуждения о бедах начинающих поэтов, что, строго говоря, тоже не имеет прямого отношения к тексту. В основном приводятся оригинальные сочинения Льюиса и лишь в двух случаях — переложения с других языков. За это Льюиса упрекали в плагиате, что, впрочем, так же вздорно, как именовать плагиатом, допустим, свободные переводы Жуковским на русский язык произведений Гете, Грея, Бюргера, Шиллера или Саути, ставшие достоянием русской поэзии. Щедро вставлял Льюис стихи и в свои пьесы (если последние были написаны прозой) и сам же сочинял на них музыку.
Льюиса принято считать второстепенным поэтом, уступающим таким звездам английского романтизма, как Колридж, Вордсворт, Байрон, Китс, Шелли, хотя трудно сказать, чем он ниже Саути, тоже включаемого в этот традиционный перечень. Байрон находил поэтическое видение Льюиса ограниченным, но и он, и Вальтер Скотт высоко ставили мастерство Льюиса-стихотворца и признавали, что обязаны ему кое-чем в области версификации.
Как автор пьес Льюис пользовался у современников куда большей известностью. Помимо «Призрака замка», он оставил свыше полутора десятков трагедий, «готических» драм, комедий и даже комическую оперу «Богатый и бедный» (1812). В основном все это оригинальные сочинения, но порой он перелицовывал для английской сцены чужие произведения; пример — пьеса французского драматурга де Монвеля «Жертвы монастыря», которую Льюис видел в Париже еще юношей. Его переделка под названием «Винони, или Послушник монастыря св. Марка» шла на подмостках «Друри Лейн» в 1808 году. Мы упоминаем об этом еще и потому, что «Жертвы» подсказали Льюису сюжетную линию Амбросио в «Монахе».
Льюис обладал ярким драматургическим даром, который в полной мере проявился уже в «Монахе». По сути, роман представляет собой последовательность профессионально сопряженных друг с другом панорамных драматических сцен, дающих персонажей «крупных планом» и построенных на живых диалогах и косвенных внутренних монологах, которые легко преображаются в сценические. Долгие эпизоды перемежаются краткими сообщениями о переменах в положении и обстоятельствах действующих лиц и о событиях, происходящих как бы за сценой. Испания как место действия по-сценически условна, и столь же условны описания жилых интерьеров, кельи, внутренности храма, подземелья, склепа, разбойничьего логова, замка или узилища инквизиции: продуманные декорации, отвечающие атмосфере действия и в немалой степени ее создающие. Время действия, и то условно: судя по вскользь оброненной фразе, что инквизиция уже не внушает толпе былого ужаса (том III, глава II), предположительно — вторая половина XVII столетия, но с равным успехом может быть первая, а то и XVI век.
Роман буквально просится на подмостки, настолько в нем все драматично, настолько заботливо учтена любая мелочь — известный принцип ружья, висящего на стене в первом акте. Если магическое зеркало забыто (или нарочно оставлено) Матильдой в келье настоятеля, то оно всплывет на допросах монаха в застенках инквизиции. Вещие сны персонажей и предсказания непременно сбываются. Детали приобретают характер знамения, провидческая их аура пропитывает ткань романа, а в одном случае поистине роковым образом выходит за пределы текста и распространяется на самого автора: М. Г. Льюис умер, возвращаясь с Ямайки, от той самой тропической лихорадки, которая в романе сгубила на Кубе дона Гонсальво, отца Антонии.
Судьба литературного наследия Монаха Льюиса оказалась не менее неожиданной. Отошло в прошлое то, что он ценил более всего и считал смыслом жизни, — пьесы и поэзия, которая если и сохранилась для читателя, так только в виде стихотворных вставок в прозу. Уцелели же проза, его первая книга и последняя, посмертная, — великий «готический» роман, славе которого он дивился при жизни, и «Дневник», писавшийся в основном для себя, хотя, вероятно, и не без надежды, втайне лелеемой всяким литератором, на то, что написанное «для себя» вдруг да и увидит впоследствии свет.
Английскому «готическому» роману в России XX века не везло. Сперва он как-то выпал из поля зрения переводчиков и издателей, впоследствии же, в связи с печально известным большевистским постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград», которое мое поколение «проходило» еще в школе, был практически отменен, как и творчество многих поэтов английского романтизма, объявленного тогда «реакционным» — в противоположность наследию Байрона и Шелли, декретированному как «революционное». Лишь после 1960 года мы смогли прочитать два канонических образца этой прозы в достойных их переводах — «Замок Отранто» (перевод В. Шора) и «Мельмот Скиталец» (перевод А. Шадрина). Обстоятельные и глубокие сопроводительные статьи к этим изданиям написали В. М. Жирмунский, Н. А. Сигал и М. П. Алексеев. К этим статьям, как и к текстам романов, с удовольствием отсылаю тех, кто хотел бы расширить свое знакомство с английским «готическим» романом и его авторами. [8]Получили мы также возможность прочесть и изящные пародийные вариации на «готическую» тему, принадлежащие мастерам английской прозы XIX века — Джейн Остен и Томасу Лаву Пикоку. [9]Но выдающиеся памятники «готического» романа — книги Анны Радклиф и «Монах» М. Г. Льюиса — продолжали оставаться «белыми пятнами» на карте нашего чтения.
Теперь одно из них закрыто. Перевод И. Г. Гуровой, не сомневаюсь, еще будет оценен в должной мере в контексте крупнейших наших удач последних десятилетий, связанных с переводом на русский английской классики. Но уже сейчас ясно, что мы получили книгу, со страниц которой, разворачивая удивительную фантастическую сказку, полную немыслимых приключений, к нам обращается на русском языке наполовину мальчик, наполовину мужчина, блудное дитя своего рационалистического века, принадлежащее уже другой эпохе, — первый состоявшийся романтик великой английской литературы. Обращается на языке внятном и чистом, свободном и от новомодной развязности, и от натужной для современного уха архаики додержавинских времен. Говорит же он о вещах странных, страшных и непривычных, но увлекающих нас и сегодня благодаря труду переводчика.
Повторим вслед за Вальтером Скоттом, воздавшим в свое время должное предшественнику «Монаха» Льюиса — Горацию Уолполу: «В общем, мы не можем не принести дани нашей признательности тому, кто умеет вызвать в нас столь сильные чувства, как страх и сострадание…» [10]
Или — понимание, сочувствие, интерес, что тоже не мало.
В. СКОРОДЕНКО
ПРЕДИСЛОВИЕ

ПОДРАЖАНИЕ ГОРАЦИЮ
ПРЕДВАРЕНИЕ
 Идею этого романа подсказала история Сантона Барсиса, изложенная в «Гардиан». Легенда об Окровавленной Монахине по-прежнему пользуется верой во многих частях Германии, и мне говорили, что на границе Тюрингии еще можно видеть развалины замка Лауенштейн, ее обиталища. Строфы «Водяного царя» с третьей по двенадцатую — это отрывок из подлинной датской баллады. А «Белерма и Дурандарте» — перевод, оригинал которого можно найти в сборнике старинной испанской поэзии, содержащем также народную песню о Гайферосе и Мелесиндре, упомянутую в «Дон Кихоте».
Идею этого романа подсказала история Сантона Барсиса, изложенная в «Гардиан». Легенда об Окровавленной Монахине по-прежнему пользуется верой во многих частях Германии, и мне говорили, что на границе Тюрингии еще можно видеть развалины замка Лауенштейн, ее обиталища. Строфы «Водяного царя» с третьей по двенадцатую — это отрывок из подлинной датской баллады. А «Белерма и Дурандарте» — перевод, оригинал которого можно найти в сборнике старинной испанской поэзии, содержащем также народную песню о Гайферосе и Мелесиндре, упомянутую в «Дон Кихоте».
Итак, я признался во всех случаях плагиата в книге, известных мне самому. Но, полагаю, возможно, еще сыщется много таких, которые сам я пока не заметил.
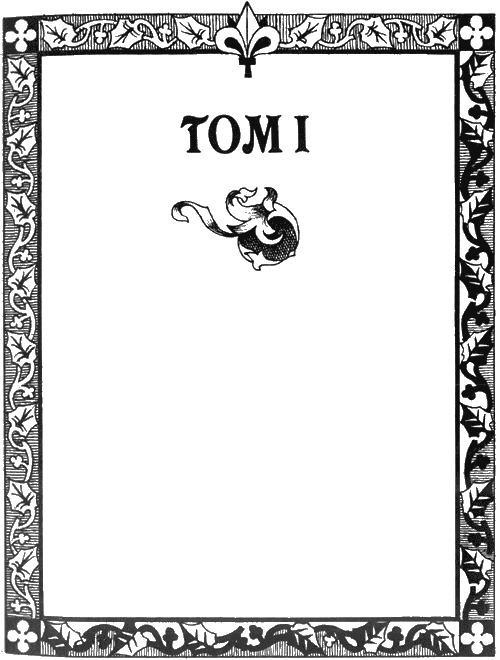
ТОМ I
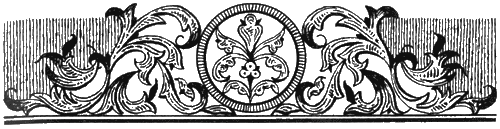
ГЛАВА I
Колокол не звонил еще и пяти минут, а церковь при капуцинском монастыре уже наполнялась прихожанами. Не обольщайтесь мыслью, будто стекались они туда, влекомые благочестием или жаждой просвещения. Лишь очень немногими руководили эти чувства, ибо в городе, где суеверие столь всевластно, как в Мадриде, тщетно искать искреннюю набожность. И богомольцев в церкви Капуцинов собрали разные причины, но только не та, которая якобы привела их в храм. Женщины явились показать себя, мужчины — поглазеть на них; некоторые любопытствовали послушать прославленного проповедника, другие не нашли иного способа скоротать время перед театральным представлением; иные поторопились, потому что их заверили, будто в церковь невозможно будет войти, а половина Мадрида поспешила туда в чаянии встретить другую половину. Искренне желали послушать проповедника лишь горстка дряхлых благочестивцев и благочестивиц да десяток его соперников на поприще духовного красноречия, заранее вознамерившихся разбранить и высмеять его поучения. Что до остальных прихожан, то, останься проповедь непроизнесенной, они ничуть не огорчились бы, а, весьма вероятно, даже не заметили бы, что лишились ее.
Но как бы то ни было, церковь Капуцинов еще никогда не видела в своих стенах столь многочисленного собрания. Ни единого свободного уголка, ни единого незанятого сиденья — пощады не было дано даже статуям, украшавшим длинные проходы. На крыльях херувимов повисли мальчишки, святой Франциск и святой Марк оба несли на плечах по зрителю, а святая Агата терпела двойную тяжесть. Вот почему две наши новоприбывшие, как ни торопились, войдя в церковь, тщетно искали взглядом свободное местечко.
Однако старшая, ничтоже сумняшеся, продолжала пробираться вперед. Напрасны были раздававшиеся со всех сторон негодующие возгласы, напрасно к ней взывали: «Уверяю вас, сеньора, тут все занято», «Прошу, сеньора, не толкайте меня так сильно!», «Сеньора, здесь невозможно пройти! И как это люди позволяют себе подобное!» — пожилая богомолка упрямо двигалась дальше. Упорство и два могучих локтя помогли ей проложить путь сквозь толпу почти к самой кафедре. Ее спутница в полном молчании робко следовала за ней, пожиная плоды усилий своей проводницы.
— Пресвятая Дева! — разочарованным тоном воскликнула та, оглядываясь по сторонам. — Пресвятая Дева! Какая духота! Какая толпа! Что бы это значило, хотела бы я знать! Пожалуй, нам придется уйти. Ни одного свободного сиденья, и никто как будто не желает уступить нам свое.
Этот прозрачный намек привлек внимание двух кавалеров, которые, занимая два табурета по правую руку от прохода, прислонялись спиной к седьмой колонне от кафедры. Оба были молоды и одеты пышно. Услышав женский голос, взывавший к их учтивости, они прервали беседу и посмотрели на говорившую. Она откинула покрывало, чтобы яснее рассмотреть внутренность храма. Волосы у нее были рыжие, она косила. Кавалеры отвернулись и возобновили разговор.
— О, конечно! — ответила ее спутница. — О, конечно, Леонелла, вернемся сейчас же домой. Здесь так жарко и душно! А многолюдие меня пугает.
Слова эти были сказаны удивительно мелодичным голосом. Кавалеры вновь прервали беседу, но на этот раз не удовлетворились одним только взглядом, а невольно встали и повернулись к той, что их произнесла.
Стройная изящная фигура вызвала у юношей живейшее желание увидеть лицо говорившей. Но в этом им было отказано: черты ее были скрыты под покрывалом. Однако, пока их владелица пробиралась через толпу, покрывало несколько сбилось в сторону, открыв шею, которая красотой и симметричностью могла бы поспорить с шеей Венеры Медицейской. Она поражала ослепительной белизной и вдвойне пленяла, потому что ее оттеняли золотистые локоны, ниспадавшие до талии. Неизвестная была скорее ниже, чем выше среднего роста, но легкостью и воздушностью сложения напоминала дриаду. Грудь ее была тщательно укрыта покрывалом. Белое платье, стянутое кушаком, позволяло увидеть кончик прелестнейшей ножки. С запястья свисали крупные четки, лицо же пряталось за завесой из плотного черного газа. Такова была та, кому младший из юношей уже предлагал свой табурет, а его товарищ счел необходимым оказать ту же услугу ее пожилой спутнице, которая, рассыпаясь в изъявлениях благодарности, не замедлила воспользоваться его любезностью и села.
Младшая последовала ее примеру, но в знак признательности только сделала простой и грациозный реверанс. Дон Лоренцо (так звали кавалера, уступившего ей место) встал подле нее. Но прежде он шепнул несколько слов на ухо своему другу, который тотчас попытался отвлечь внимание своей дамы от обворожительного создания, которое она опекала.
— Без сомнения, вы в Мадриде совсем недавно, — сказал дон Лоренцо прекрасной соседке. — Ведь невозможно, чтобы такие чары оставались не замеченными долго. Будь это не первый ваш выход в свет, зависть женщин и преклонение мужчин уже прославили бы вас.
Он умолк в ожидании, но, так как его речь не требовала непременного ответа, красавица не разомкнула уст, и через несколько мгновений он продолжал:
— Я ошибся, предположив, что вы лишь недавно в Мадриде?
Она заколебалась, но наконец голосом столь тихим, что его трудно было расслышать, произнесла:
— Нет, сеньор.
— Вы намереваетесь остаться в столице долгое время?
— Да, сеньор.
— Я почел бы себя счастливым, будь в моей власти сделать ваше пребывание здесь приятнее. Меня в Мадриде знают, и моя семья пользуется некоторым влиянием при дворе. Если в моих силах чем-либо услужить вам, вы не могли бы сделать мне большей чести и большего одолжения, дозволив быть вам полезным. («Уж конечно, — сказал он себе, — ответить на это она одним словом не сумеет и вынуждена будет заговорить со мной!»)
Однако Лоренцо ошибся: она ответила ему лишь легким поклоном.
Теперь он окончательно убедился, что его соседка не слишком словоохотлива, но что было причиной ее молчаливости — гордость, благоразумие, робость или глупость, решить не мог.
Спустя минуту-другую он сказал:
— Несомненно, вы остаетесь под покрывалом потому, что еще не успели узнать наши обычаи. Позвольте, я помогу вам снять его.
И он протянул руку к черному газу, но красавица подняла ладонь, чтобы помешать ему.
— Я никогда не открываю лица на людях, сеньор.
— Но что тут плохого, хотела бы я знать? — перебила ее спутница резким тоном. — Ты ведь видишь, что все дамы и девицы сняли покрывала, без сомнения, из почтения к святому месту, где мы находимся? И я сняла свое, а уж ежели я открываю лицо всем взглядам, у тебя не может быть причин для такой робости! Пресвятая Дева Мария! Сколько жеманства из-за личика. Дитя! Открой его. Поверь мне, никто его у тебя не похитит…
— Милая тетенька, в Мурсии это не в обычае.
— В Мурсии, скажите на милость! Святая Варвара, до каких же пор! Вечно ты мне напоминаешь об этой мерзкой глуши. Если таков мадридский обычай, ничего другого нам знать не надо, а потому я желаю, чтобы ты сейчас же сняла покрывало. Повинуйся мне немедля, ты знаешь, я не терплю возражений…
Племянница промолчала, но не воспротивилась, когда дон Лоренцо, вооружившись разрешением тетушки, поспешил снять с нее покрывало. Какая ангельская головка предстала его восхищенному взору! И все же она была не столько красивой, сколько обворожительной, пленяя не правильностью черт, а нежностью и прелестью выражения. Взятые по отдельности черты ее не были лишены изъянов, но сочетание их восхищало. Ее кожа, хотя и белоснежная, кое-где была тронута веснушками, глаза не отличались величиной, а ресницы — длиной. Но губы у нее были свежими и алыми, золотистые волосы, перехваченные простой лентой, ниспадали до пояса волнами пышных локонов. Изумительно красивая шея, руки и пальцы отличала безупречная гармоничность, кроткие голубые глаза таили безмятежность небес и искрящийся блеск алмазов. Ей нельзя было дать более пятнадцати лет. Игравшая на ее губах лукавая улыбка свидетельствовала о живости нрава, которую в эту минуту умеряла застенчивость. Она бросала вокруг робкие взоры и едва встречала взгляд Лоренцо, как тотчас потупляла глаза на четки и, залившись румянцем, начинала их перебирать, но, судя по ее движениям, не замечала того, что делает.
Лоренцо смотрел на нее с восхищенным изумлением, но тетушка сочла нужным извиниться за mauvaise honte [13]Антонии:
— Она еще совсем дитя и не знакома со светом и его обычаями. Росла она в Мурсии в старом замке под надзором только своей матушки, а у той, Господи помилуй ее, ума хватает, разве чтобы ложку с супом мимо рта не пронести. А ведь добрая душа мне сестра и по отцу и по матери.
— И столь неразумна? — спросил дон Кристобаль с притворным изумлением. — Как странно!
— Правда ваша, сеньор. Не удивительно ли? Однако так оно и есть. Но подумайте, как счастье улыбается некоторым. Молодой, весьма знатный юноша вообразил, будто Эльвира может считать себя красавицей… Ну, считать-то она считала, но вот была ли!.. Да если бы я хоть вполовину так прихорашивалась, как она… Хотя это просто к слову. А сказать я хотела, что молодой вельможа влюбился и женился на ней без ведома своего отца. Союз их сохранялся в тайне три года, но затем о нем прознал старый маркиз и, как можете догадаться, доволен не остался, но поспешил в Кордову, намереваясь схватить Эльвиру и запрятать куда-нибудь, чтобы она и вести о себе подать не могла. Святой Павел! Как он гневался, узнав, что она спаслась от него, воссоединилась с мужем и они отплыли в Индии. Он осыпал нас проклятиями, словно в него вселился Злой Дух. И бросил в темницу нашего отца, такого честного и усердного сапожника, каких и в Кордове мало, а когда уехал, то имел жестокость увезти от нас малютку сына моей сестры, которого та, вынужденная к поспешному бегству, взять с собой не могла. Полагаю, бедный крошка терпел от него самое дурное обращение, потому что не прошло и нескольких месяцев, как мы получили известие о его смерти.
— Что за ужасный старик, сеньора!
— О, самый гнусный! И к тому же совершенно лишенный вкуса! Поверите ли, сеньор, когда я пыталась успокоить его, он с проклятием назвал меня ведьмой и пожелал, чтобы моя сестра в наказание графу стала такой же безобразной, как я. Безобразной, подумать только! Я ему очень признательна.
— Какая нелепость! — вскричал дон Кристобаль. — Без сомнения, граф почел бы себя счастливым, если бы ему было дозволено обменять одну сестру на другую.
— Господи помилуй! Сеньор, вы весьма учтивы. Однако я сердечно рада, что граф был иного мнения. Много радости все это принесло Эльвире! Тринадцать долгих лет жарясь и парясь в Индиях, ее супруг умирает, и она возвращается в Испанию, не имея ни дома, чтобы преклонить там главу, ни денег, чтобы купить его. Антония, вот она, была тогда еще крошкой, единственным ее ребенком, оставшимся в живых. Эльвира узнала, что ее свекор снова женился, что графа он не простил и что его вторая жена подарила ему сына, теперь, по слухам, выросшего в весьма достойного юношу. Старый маркиз не пожелал увидеть мою сестру и ее дочь, однако, поставив условие, что больше ему о ней слышать не придется, он назначил ей небольшое содержание и разрешил жить в принадлежащем ему в Мурсии старом замке. Замок этот особенно любил его старший сын, и после бегства того из Испании старый маркиз возненавидел его и оставил ветшать и разрушаться. Моя сестра согласилась, уехала в Мурсию и прожила там до прошлого месяца.
— И что же привело ее теперь в Мадрид? — осведомился дон Лоренцо, который, восхищаясь юной Антонией, с интересом слушал рассказ ее болтливой тетки.
— Увы, сеньор! Ее свекор недавно скончался, и управляющий его мурсийским имением отказался выплачивать ей содержание. И вот в надежде упросить его сына и наследника дать распоряжение, чтобы она продолжала получать эту скудную сумму, моя сестра отправилась в Мадрид. Но, полагаю, она могла бы избавить себя от хлопот. Ведь у вас, знатных молодых людей, всегда находится применение вашим деньгам, и тратить их на старух вы не очень-то склонны. Я посоветовала сестрице послать с прошением Антонию, но она и слышать об этом не желает. Такая упрямая! Ну, пренебрегая моими советами, она себе же хуже делает, — у девочки такое миленькое личико, и, надобно полагать, она многого достигла бы!
— Ах, сеньора, — перебил дон Кристобаль, напуская на себя страстный вид, — если тут достаточно миленького личика, почему же ваша сестрица не обратилась к вам?
— Святый Боже! Любезный сеньор, вы, право, смущаете меня своей галантностью. Но признаюсь, мне слишком хорошо известны опасности, сопряженные с такими поручениями, и я не позволю себе оказаться во власти знатного юноши! Нет-нет, я до сих пор храню безупречной мою добрую славу и всегда умела держать мужчин на почтительном расстоянии.
Уж на что немецкие (любимые Льюисом Бюргер и Уланд) и английские (Колридж, Саути) романтики поднаторели в изображении кладбищенской и демонической жути, тут Льюис оставил их позади, особенно в живописании тлена. Одной из наиболее леденящих в романтической поэзии считается сцена явления замогильного возлюбленного в канонической балладе Бюргера «Ленора». Сравним ее в двойном варианте — по вольному переложению и сравнительно точному переводу В. А. Жуковского — с аналогичным эпизодом баллады Льюиса «Алонсо Отважный и Краса Имоген», вставленной в текст романа.
Видит труп оцепенелый:
Прям, недвижим, посинелый,
Длинным саваном обвит.
Страшен милый прежде вид;
Впалы мертвые ланиты;
Мутен взор полуоткрытый;
Руки сложены крестом.
(«Людмила»)
Кусок одежды за куском
Слетел с него, как тленье;
И нет уж кожи на костях;
Безглазый череп на плечах;
Нет каски, нет колета;
Она в руках скелета.
(«Ленора»)
Льюис, похоже, обгоняет здесь не только свое время, но и эпоху романтизма, приближаясь к поэтике символистов с их эстетизацией отталкивающего (как в «Цветах зла» у Бодлера). И пример такого рода не единственный в наследии Льюиса.
Взглянула Краса Имоген на него
И черепа встретила взгляд.
Узрела она — обитатель гробниц,
Змей лоб костяной обвивал,
И черви клубились в провалах глазниц.
(«Алонсо Отважный и Краса Имоген»)
Одержимость Льюиса поэзией нашла в романе самое прямое подтверждение — проза изрядно разбавлена длинными поэтическими вставками, большей частью уместными, но иной раз выбивающимися из контекста и даже, как в случае с растянутым на пятнадцать строф «Полуночным песнопением» кроткой девы, оставляющими комичное впечатление. Один из персонажей книги вдается в обстоятельные и сочувственные рассуждения о бедах начинающих поэтов, что, строго говоря, тоже не имеет прямого отношения к тексту. В основном приводятся оригинальные сочинения Льюиса и лишь в двух случаях — переложения с других языков. За это Льюиса упрекали в плагиате, что, впрочем, так же вздорно, как именовать плагиатом, допустим, свободные переводы Жуковским на русский язык произведений Гете, Грея, Бюргера, Шиллера или Саути, ставшие достоянием русской поэзии. Щедро вставлял Льюис стихи и в свои пьесы (если последние были написаны прозой) и сам же сочинял на них музыку.
Льюиса принято считать второстепенным поэтом, уступающим таким звездам английского романтизма, как Колридж, Вордсворт, Байрон, Китс, Шелли, хотя трудно сказать, чем он ниже Саути, тоже включаемого в этот традиционный перечень. Байрон находил поэтическое видение Льюиса ограниченным, но и он, и Вальтер Скотт высоко ставили мастерство Льюиса-стихотворца и признавали, что обязаны ему кое-чем в области версификации.
Как автор пьес Льюис пользовался у современников куда большей известностью. Помимо «Призрака замка», он оставил свыше полутора десятков трагедий, «готических» драм, комедий и даже комическую оперу «Богатый и бедный» (1812). В основном все это оригинальные сочинения, но порой он перелицовывал для английской сцены чужие произведения; пример — пьеса французского драматурга де Монвеля «Жертвы монастыря», которую Льюис видел в Париже еще юношей. Его переделка под названием «Винони, или Послушник монастыря св. Марка» шла на подмостках «Друри Лейн» в 1808 году. Мы упоминаем об этом еще и потому, что «Жертвы» подсказали Льюису сюжетную линию Амбросио в «Монахе».
Льюис обладал ярким драматургическим даром, который в полной мере проявился уже в «Монахе». По сути, роман представляет собой последовательность профессионально сопряженных друг с другом панорамных драматических сцен, дающих персонажей «крупных планом» и построенных на живых диалогах и косвенных внутренних монологах, которые легко преображаются в сценические. Долгие эпизоды перемежаются краткими сообщениями о переменах в положении и обстоятельствах действующих лиц и о событиях, происходящих как бы за сценой. Испания как место действия по-сценически условна, и столь же условны описания жилых интерьеров, кельи, внутренности храма, подземелья, склепа, разбойничьего логова, замка или узилища инквизиции: продуманные декорации, отвечающие атмосфере действия и в немалой степени ее создающие. Время действия, и то условно: судя по вскользь оброненной фразе, что инквизиция уже не внушает толпе былого ужаса (том III, глава II), предположительно — вторая половина XVII столетия, но с равным успехом может быть первая, а то и XVI век.
Роман буквально просится на подмостки, настолько в нем все драматично, настолько заботливо учтена любая мелочь — известный принцип ружья, висящего на стене в первом акте. Если магическое зеркало забыто (или нарочно оставлено) Матильдой в келье настоятеля, то оно всплывет на допросах монаха в застенках инквизиции. Вещие сны персонажей и предсказания непременно сбываются. Детали приобретают характер знамения, провидческая их аура пропитывает ткань романа, а в одном случае поистине роковым образом выходит за пределы текста и распространяется на самого автора: М. Г. Льюис умер, возвращаясь с Ямайки, от той самой тропической лихорадки, которая в романе сгубила на Кубе дона Гонсальво, отца Антонии.
Судьба литературного наследия Монаха Льюиса оказалась не менее неожиданной. Отошло в прошлое то, что он ценил более всего и считал смыслом жизни, — пьесы и поэзия, которая если и сохранилась для читателя, так только в виде стихотворных вставок в прозу. Уцелели же проза, его первая книга и последняя, посмертная, — великий «готический» роман, славе которого он дивился при жизни, и «Дневник», писавшийся в основном для себя, хотя, вероятно, и не без надежды, втайне лелеемой всяким литератором, на то, что написанное «для себя» вдруг да и увидит впоследствии свет.
Английскому «готическому» роману в России XX века не везло. Сперва он как-то выпал из поля зрения переводчиков и издателей, впоследствии же, в связи с печально известным большевистским постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград», которое мое поколение «проходило» еще в школе, был практически отменен, как и творчество многих поэтов английского романтизма, объявленного тогда «реакционным» — в противоположность наследию Байрона и Шелли, декретированному как «революционное». Лишь после 1960 года мы смогли прочитать два канонических образца этой прозы в достойных их переводах — «Замок Отранто» (перевод В. Шора) и «Мельмот Скиталец» (перевод А. Шадрина). Обстоятельные и глубокие сопроводительные статьи к этим изданиям написали В. М. Жирмунский, Н. А. Сигал и М. П. Алексеев. К этим статьям, как и к текстам романов, с удовольствием отсылаю тех, кто хотел бы расширить свое знакомство с английским «готическим» романом и его авторами. [8]Получили мы также возможность прочесть и изящные пародийные вариации на «готическую» тему, принадлежащие мастерам английской прозы XIX века — Джейн Остен и Томасу Лаву Пикоку. [9]Но выдающиеся памятники «готического» романа — книги Анны Радклиф и «Монах» М. Г. Льюиса — продолжали оставаться «белыми пятнами» на карте нашего чтения.
Теперь одно из них закрыто. Перевод И. Г. Гуровой, не сомневаюсь, еще будет оценен в должной мере в контексте крупнейших наших удач последних десятилетий, связанных с переводом на русский английской классики. Но уже сейчас ясно, что мы получили книгу, со страниц которой, разворачивая удивительную фантастическую сказку, полную немыслимых приключений, к нам обращается на русском языке наполовину мальчик, наполовину мужчина, блудное дитя своего рационалистического века, принадлежащее уже другой эпохе, — первый состоявшийся романтик великой английской литературы. Обращается на языке внятном и чистом, свободном и от новомодной развязности, и от натужной для современного уха архаики додержавинских времен. Говорит же он о вещах странных, страшных и непривычных, но увлекающих нас и сегодня благодаря труду переводчика.
Повторим вслед за Вальтером Скоттом, воздавшим в свое время должное предшественнику «Монаха» Льюиса — Горацию Уолполу: «В общем, мы не можем не принести дани нашей признательности тому, кто умеет вызвать в нас столь сильные чувства, как страх и сострадание…» [10]
Или — понимание, сочувствие, интерес, что тоже не мало.
В. СКОРОДЕНКО
ПРЕДИСЛОВИЕ

ПОДРАЖАНИЕ ГОРАЦИЮ
(Послание 20, кн. I)
Никак, тщеславия полна,
Глядишь ты, Книга, из окна
На Патерностер знаменитый.
Известность мнишь там обрести ты,
Где авторы за славу бьются,
Но чаще с носом остаются.
Мечтаешь ты, как в позолоте
И самом лучшем переплете
В витрине выставит на свет
Тебя Стокдейл или Дебретт.
Иди ж, гордынею объята,
Туда, откуда нет возврата
Для дерзких неразумных книг!
Тебя там отругают вмиг,
Коль все-таки окажут честь
Не сразу бросить, а прочесть.
Суровым критиком избита,
На пыльной полке позабыта,
Припомнишь, мучаясь тоской,
Меня, свой ящик и покой!
Гадателя возьму я роль,
Свою судьбу узнать изволь!
Запомни же мои слова:
Чуть перестанешь быть нова,
То в темном и сыром углу
Валяться будешь на полу.
И будет червь тебя точить.
А то и в лавку, может быть,
Твои страницы попадут,
В них свечи ловко завернут.
Но коль замечена ты будешь,
Коль интерес к себе пробудишь,
Глядишь, читатель благосклонный
Займется и моей персоной.
Ответь ему, раз слушать рад,
Что я не беден, не богат,
Страстей игрушка, тороплив,
Мал ростом, очень некрасив.
Немногим нравлюсь я вполне,
Немногие по сердцу мне.
Когда люблю иль ненавижу,
Пределов никаких не вижу.
Мне неприятных не терплю,
Тех, кто понравится, люблю.
В сужденьях чересчур поспешен,
Ошибками нередко грешен.
Не предаю друзей моих,
Но сам измены жду от них.
Считать научен нашей эрой
Я дружбу чистою химерой.
Безмерно пылок, горд, упрям,
И не прощаю я врагам.
А вот за тех, кем я любим,
Пройду сквозь пламя и сквозь дым,
Коль спросят вдруг без лишних слов:
«Но возраст автора каков?»
Ты прямо говори в ответ,
Что мне сравнялось двадцать лет,
Когда у рубежа столетий
Георг сидел на троне Третий.
Что ж, Книга милая, прости!
Иди! Счастливого пути.
М. Г. Л.Гаага, 28 октября: 1794 года
ПРЕДВАРЕНИЕ

Итак, я признался во всех случаях плагиата в книге, известных мне самому. Но, полагаю, возможно, еще сыщется много таких, которые сам я пока не заметил.
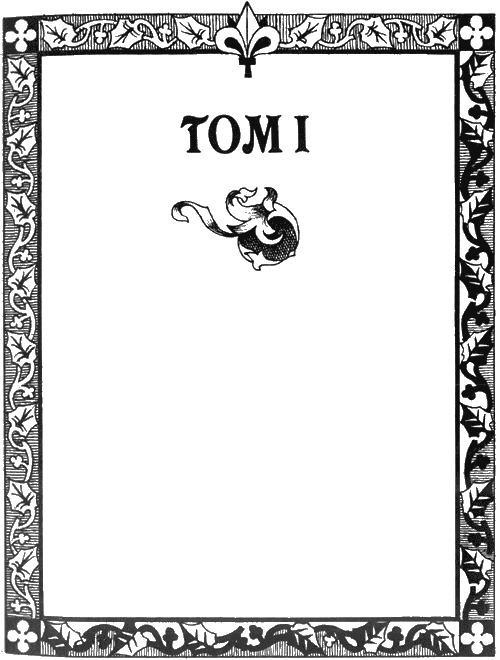
ТОМ I
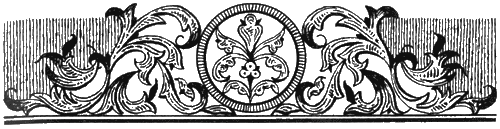
ГЛАВА I
Граф Анжело и строг и безупречен,
Почти не признается он, что в жилах
Кровь у него течет и что ему
От голода приятней все же хлеб,
Чем камень.
«МЕРА ЗА МЕРУ» [12]
Колокол не звонил еще и пяти минут, а церковь при капуцинском монастыре уже наполнялась прихожанами. Не обольщайтесь мыслью, будто стекались они туда, влекомые благочестием или жаждой просвещения. Лишь очень немногими руководили эти чувства, ибо в городе, где суеверие столь всевластно, как в Мадриде, тщетно искать искреннюю набожность. И богомольцев в церкви Капуцинов собрали разные причины, но только не та, которая якобы привела их в храм. Женщины явились показать себя, мужчины — поглазеть на них; некоторые любопытствовали послушать прославленного проповедника, другие не нашли иного способа скоротать время перед театральным представлением; иные поторопились, потому что их заверили, будто в церковь невозможно будет войти, а половина Мадрида поспешила туда в чаянии встретить другую половину. Искренне желали послушать проповедника лишь горстка дряхлых благочестивцев и благочестивиц да десяток его соперников на поприще духовного красноречия, заранее вознамерившихся разбранить и высмеять его поучения. Что до остальных прихожан, то, останься проповедь непроизнесенной, они ничуть не огорчились бы, а, весьма вероятно, даже не заметили бы, что лишились ее.
Но как бы то ни было, церковь Капуцинов еще никогда не видела в своих стенах столь многочисленного собрания. Ни единого свободного уголка, ни единого незанятого сиденья — пощады не было дано даже статуям, украшавшим длинные проходы. На крыльях херувимов повисли мальчишки, святой Франциск и святой Марк оба несли на плечах по зрителю, а святая Агата терпела двойную тяжесть. Вот почему две наши новоприбывшие, как ни торопились, войдя в церковь, тщетно искали взглядом свободное местечко.
Однако старшая, ничтоже сумняшеся, продолжала пробираться вперед. Напрасны были раздававшиеся со всех сторон негодующие возгласы, напрасно к ней взывали: «Уверяю вас, сеньора, тут все занято», «Прошу, сеньора, не толкайте меня так сильно!», «Сеньора, здесь невозможно пройти! И как это люди позволяют себе подобное!» — пожилая богомолка упрямо двигалась дальше. Упорство и два могучих локтя помогли ей проложить путь сквозь толпу почти к самой кафедре. Ее спутница в полном молчании робко следовала за ней, пожиная плоды усилий своей проводницы.
— Пресвятая Дева! — разочарованным тоном воскликнула та, оглядываясь по сторонам. — Пресвятая Дева! Какая духота! Какая толпа! Что бы это значило, хотела бы я знать! Пожалуй, нам придется уйти. Ни одного свободного сиденья, и никто как будто не желает уступить нам свое.
Этот прозрачный намек привлек внимание двух кавалеров, которые, занимая два табурета по правую руку от прохода, прислонялись спиной к седьмой колонне от кафедры. Оба были молоды и одеты пышно. Услышав женский голос, взывавший к их учтивости, они прервали беседу и посмотрели на говорившую. Она откинула покрывало, чтобы яснее рассмотреть внутренность храма. Волосы у нее были рыжие, она косила. Кавалеры отвернулись и возобновили разговор.
— О, конечно! — ответила ее спутница. — О, конечно, Леонелла, вернемся сейчас же домой. Здесь так жарко и душно! А многолюдие меня пугает.
Слова эти были сказаны удивительно мелодичным голосом. Кавалеры вновь прервали беседу, но на этот раз не удовлетворились одним только взглядом, а невольно встали и повернулись к той, что их произнесла.
Стройная изящная фигура вызвала у юношей живейшее желание увидеть лицо говорившей. Но в этом им было отказано: черты ее были скрыты под покрывалом. Однако, пока их владелица пробиралась через толпу, покрывало несколько сбилось в сторону, открыв шею, которая красотой и симметричностью могла бы поспорить с шеей Венеры Медицейской. Она поражала ослепительной белизной и вдвойне пленяла, потому что ее оттеняли золотистые локоны, ниспадавшие до талии. Неизвестная была скорее ниже, чем выше среднего роста, но легкостью и воздушностью сложения напоминала дриаду. Грудь ее была тщательно укрыта покрывалом. Белое платье, стянутое кушаком, позволяло увидеть кончик прелестнейшей ножки. С запястья свисали крупные четки, лицо же пряталось за завесой из плотного черного газа. Такова была та, кому младший из юношей уже предлагал свой табурет, а его товарищ счел необходимым оказать ту же услугу ее пожилой спутнице, которая, рассыпаясь в изъявлениях благодарности, не замедлила воспользоваться его любезностью и села.
Младшая последовала ее примеру, но в знак признательности только сделала простой и грациозный реверанс. Дон Лоренцо (так звали кавалера, уступившего ей место) встал подле нее. Но прежде он шепнул несколько слов на ухо своему другу, который тотчас попытался отвлечь внимание своей дамы от обворожительного создания, которое она опекала.
— Без сомнения, вы в Мадриде совсем недавно, — сказал дон Лоренцо прекрасной соседке. — Ведь невозможно, чтобы такие чары оставались не замеченными долго. Будь это не первый ваш выход в свет, зависть женщин и преклонение мужчин уже прославили бы вас.
Он умолк в ожидании, но, так как его речь не требовала непременного ответа, красавица не разомкнула уст, и через несколько мгновений он продолжал:
— Я ошибся, предположив, что вы лишь недавно в Мадриде?
Она заколебалась, но наконец голосом столь тихим, что его трудно было расслышать, произнесла:
— Нет, сеньор.
— Вы намереваетесь остаться в столице долгое время?
— Да, сеньор.
— Я почел бы себя счастливым, будь в моей власти сделать ваше пребывание здесь приятнее. Меня в Мадриде знают, и моя семья пользуется некоторым влиянием при дворе. Если в моих силах чем-либо услужить вам, вы не могли бы сделать мне большей чести и большего одолжения, дозволив быть вам полезным. («Уж конечно, — сказал он себе, — ответить на это она одним словом не сумеет и вынуждена будет заговорить со мной!»)
Однако Лоренцо ошибся: она ответила ему лишь легким поклоном.
Теперь он окончательно убедился, что его соседка не слишком словоохотлива, но что было причиной ее молчаливости — гордость, благоразумие, робость или глупость, решить не мог.
Спустя минуту-другую он сказал:
— Несомненно, вы остаетесь под покрывалом потому, что еще не успели узнать наши обычаи. Позвольте, я помогу вам снять его.
И он протянул руку к черному газу, но красавица подняла ладонь, чтобы помешать ему.
— Я никогда не открываю лица на людях, сеньор.
— Но что тут плохого, хотела бы я знать? — перебила ее спутница резким тоном. — Ты ведь видишь, что все дамы и девицы сняли покрывала, без сомнения, из почтения к святому месту, где мы находимся? И я сняла свое, а уж ежели я открываю лицо всем взглядам, у тебя не может быть причин для такой робости! Пресвятая Дева Мария! Сколько жеманства из-за личика. Дитя! Открой его. Поверь мне, никто его у тебя не похитит…
— Милая тетенька, в Мурсии это не в обычае.
— В Мурсии, скажите на милость! Святая Варвара, до каких же пор! Вечно ты мне напоминаешь об этой мерзкой глуши. Если таков мадридский обычай, ничего другого нам знать не надо, а потому я желаю, чтобы ты сейчас же сняла покрывало. Повинуйся мне немедля, ты знаешь, я не терплю возражений…
Племянница промолчала, но не воспротивилась, когда дон Лоренцо, вооружившись разрешением тетушки, поспешил снять с нее покрывало. Какая ангельская головка предстала его восхищенному взору! И все же она была не столько красивой, сколько обворожительной, пленяя не правильностью черт, а нежностью и прелестью выражения. Взятые по отдельности черты ее не были лишены изъянов, но сочетание их восхищало. Ее кожа, хотя и белоснежная, кое-где была тронута веснушками, глаза не отличались величиной, а ресницы — длиной. Но губы у нее были свежими и алыми, золотистые волосы, перехваченные простой лентой, ниспадали до пояса волнами пышных локонов. Изумительно красивая шея, руки и пальцы отличала безупречная гармоничность, кроткие голубые глаза таили безмятежность небес и искрящийся блеск алмазов. Ей нельзя было дать более пятнадцати лет. Игравшая на ее губах лукавая улыбка свидетельствовала о живости нрава, которую в эту минуту умеряла застенчивость. Она бросала вокруг робкие взоры и едва встречала взгляд Лоренцо, как тотчас потупляла глаза на четки и, залившись румянцем, начинала их перебирать, но, судя по ее движениям, не замечала того, что делает.
Лоренцо смотрел на нее с восхищенным изумлением, но тетушка сочла нужным извиниться за mauvaise honte [13]Антонии:
— Она еще совсем дитя и не знакома со светом и его обычаями. Росла она в Мурсии в старом замке под надзором только своей матушки, а у той, Господи помилуй ее, ума хватает, разве чтобы ложку с супом мимо рта не пронести. А ведь добрая душа мне сестра и по отцу и по матери.
— И столь неразумна? — спросил дон Кристобаль с притворным изумлением. — Как странно!
— Правда ваша, сеньор. Не удивительно ли? Однако так оно и есть. Но подумайте, как счастье улыбается некоторым. Молодой, весьма знатный юноша вообразил, будто Эльвира может считать себя красавицей… Ну, считать-то она считала, но вот была ли!.. Да если бы я хоть вполовину так прихорашивалась, как она… Хотя это просто к слову. А сказать я хотела, что молодой вельможа влюбился и женился на ней без ведома своего отца. Союз их сохранялся в тайне три года, но затем о нем прознал старый маркиз и, как можете догадаться, доволен не остался, но поспешил в Кордову, намереваясь схватить Эльвиру и запрятать куда-нибудь, чтобы она и вести о себе подать не могла. Святой Павел! Как он гневался, узнав, что она спаслась от него, воссоединилась с мужем и они отплыли в Индии. Он осыпал нас проклятиями, словно в него вселился Злой Дух. И бросил в темницу нашего отца, такого честного и усердного сапожника, каких и в Кордове мало, а когда уехал, то имел жестокость увезти от нас малютку сына моей сестры, которого та, вынужденная к поспешному бегству, взять с собой не могла. Полагаю, бедный крошка терпел от него самое дурное обращение, потому что не прошло и нескольких месяцев, как мы получили известие о его смерти.
— Что за ужасный старик, сеньора!
— О, самый гнусный! И к тому же совершенно лишенный вкуса! Поверите ли, сеньор, когда я пыталась успокоить его, он с проклятием назвал меня ведьмой и пожелал, чтобы моя сестра в наказание графу стала такой же безобразной, как я. Безобразной, подумать только! Я ему очень признательна.
— Какая нелепость! — вскричал дон Кристобаль. — Без сомнения, граф почел бы себя счастливым, если бы ему было дозволено обменять одну сестру на другую.
— Господи помилуй! Сеньор, вы весьма учтивы. Однако я сердечно рада, что граф был иного мнения. Много радости все это принесло Эльвире! Тринадцать долгих лет жарясь и парясь в Индиях, ее супруг умирает, и она возвращается в Испанию, не имея ни дома, чтобы преклонить там главу, ни денег, чтобы купить его. Антония, вот она, была тогда еще крошкой, единственным ее ребенком, оставшимся в живых. Эльвира узнала, что ее свекор снова женился, что графа он не простил и что его вторая жена подарила ему сына, теперь, по слухам, выросшего в весьма достойного юношу. Старый маркиз не пожелал увидеть мою сестру и ее дочь, однако, поставив условие, что больше ему о ней слышать не придется, он назначил ей небольшое содержание и разрешил жить в принадлежащем ему в Мурсии старом замке. Замок этот особенно любил его старший сын, и после бегства того из Испании старый маркиз возненавидел его и оставил ветшать и разрушаться. Моя сестра согласилась, уехала в Мурсию и прожила там до прошлого месяца.
— И что же привело ее теперь в Мадрид? — осведомился дон Лоренцо, который, восхищаясь юной Антонией, с интересом слушал рассказ ее болтливой тетки.
— Увы, сеньор! Ее свекор недавно скончался, и управляющий его мурсийским имением отказался выплачивать ей содержание. И вот в надежде упросить его сына и наследника дать распоряжение, чтобы она продолжала получать эту скудную сумму, моя сестра отправилась в Мадрид. Но, полагаю, она могла бы избавить себя от хлопот. Ведь у вас, знатных молодых людей, всегда находится применение вашим деньгам, и тратить их на старух вы не очень-то склонны. Я посоветовала сестрице послать с прошением Антонию, но она и слышать об этом не желает. Такая упрямая! Ну, пренебрегая моими советами, она себе же хуже делает, — у девочки такое миленькое личико, и, надобно полагать, она многого достигла бы!
— Ах, сеньора, — перебил дон Кристобаль, напуская на себя страстный вид, — если тут достаточно миленького личика, почему же ваша сестрица не обратилась к вам?
— Святый Боже! Любезный сеньор, вы, право, смущаете меня своей галантностью. Но признаюсь, мне слишком хорошо известны опасности, сопряженные с такими поручениями, и я не позволю себе оказаться во власти знатного юноши! Нет-нет, я до сих пор храню безупречной мою добрую славу и всегда умела держать мужчин на почтительном расстоянии.
