Колин Маккалоу
Падение титана, или Октябрьский конь. Книга 1
Послу Эдварду Дж. Перкинсу и Уильяму Дж. Кроу, профессору политологии Университета Оклахомы, за верность долгу и все невоспетые заслуги – с любовью и восхищением

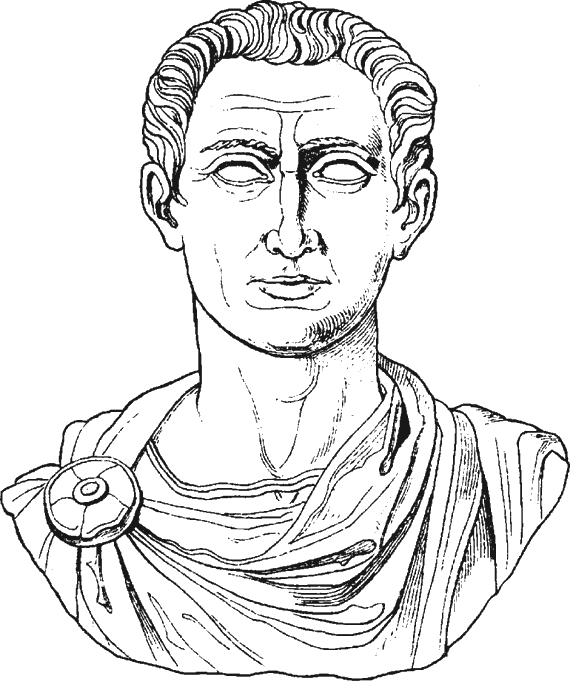
Октябрьские иды отмечали конец сезона кампаний, и в этот день устраивались скачки на траве Марсова поля, сразу за Сервиевой стеной республиканского Рима.
Лучших боевых коней года впрягали парами в колесницы и на бешеной скорости гнали вперед. Правый конь победившей пары становился Октябрьским. Специальный жрец Марса, flamen Martialis, согласно ритуалу, убивал его копьем. Затем у Октябрьского коня отрезали голову и гениталии. Гениталии быстро уносили, чтобы окропить кровью священный очаг в Регии, старейшем храме Рима, после чего отдавали весталкам, которые сжигали их в священном пламени Весты. Пепел смешивали с тестом, из которого пекли лепешки, подносимые богам в годовщину основания Рима его первым царем Ромулом. Голову же коня бросали в толпу, состоявшую из двух противоборствующих команд – Субуры и Священной дороги. Если трофеем завладевала Субура, его прибивали к стене башни Мамилия, если Священная дорога – к стене Регии.
Этим ритуалом, таким древним, что никто и не помнил, как это начиналось, Рим отдавал дань тому, на чем зиждились его мощь, его процветание, его слава, – войне и земле. Заклание Октябрьского коня было одновременно и прощанием с прошлым, и взглядом в грядущее.
I. Цезарь в Египте
Октябрь 48 г. до Р. Х. – июнь 47 г. до Р. Х
1

– Я был прав, это просто небольшое землетрясение, – сказал Цезарь, отодвигая от себя стопку бумаг.
Кальвин и Брут удивленно подняли головы.
– Ты о чем? – спросил Кальвин.
– Да о знамениях моей божественной сути! Статуя Победы поворачивается в Эпире, звон мечей и щитов слышен в Антиохии, грохот барабанов – в храме Афродиты в Пергаме, припоминаете? Боги обычно не вмешиваются в людские дела, а уж для того, чтобы разбить Магна при Фарсале, им и вовсе незачем было себя утруждать. Поэтому я провел несколько расследований в Греции, на севере провинции Азия и в Сирии, на реке Оронт. Все эти знамения случились в один день, в один и тот же момент – небольшое землетрясение, и только. Такое бывает. Статуи странно ведут себя, в земных недрах что-то грохочет. Это в Италии отмечалось не раз.
– Ты спускаешь нас на землю, Цезарь, – усмехнулся Кальвин. – Я только начал думать, что работаю на бога. – Он посмотрел на Брута. – Ты тоже разочарован, Брут?
Большие печальные глаза под тяжелыми веками были серьезны. Брут задумчиво посмотрел на Кальвина.
– Не разочарован и не огорчен, Гней Кальвин, хотя я тоже не думал о естественной причине. Я просто посчитал эти сообщения лестью.
Цезарь поморщился.
– Лесть – это еще хуже.
Все трое сидели в уютной, но скромно обставленной комнате, которую этнарх Родоса предоставил им для работы. Окно выходило на шумную гавань этого цветущего острова Эгейского моря, где пересекались многие морские пути. Приятный пейзаж: множество кораблей, синева водной глади, горы Ликии на горизонте. Но никто в окно не смотрел.
Цезарь сломал печать на очередном письме.
– С Кипра, – пояснил он, прежде чем его подручные вернулись к работе. – Клавдий-младший сообщает, что Помпей Магн отплыл в Египет.
– Я бы поклялся, что он присоединится к своему двоюродному брату Гирру при дворе парфянского царя. Что ему нужно в Египте? – удивился Кальвин.
– Вода и продукты. С такой скоростью, с какой он плывет, пассатные ветры задуют прежде, чем он покинет Александрию. Думаю, Магн намерен присоединиться к остальным беглецам в провинции Африка, – сказал Цезарь с легким сожалением.
– Значит, ничего не кончилось, – вздохнул Брут.
– Это может закончиться в любой момент, – прозвучал резкий ответ. – Стоит только Магну и его «сенату» прийти ко мне и сказать: «Да, Цезарь, мы были не правы. У нас не имелось никаких оснований не позволять тебе баллотироваться на консульскую должность без явки в Рим!»
– О, ты напрасно ждешь здравомыслия от таких людей, как Катон, – заметил Кальвин, игнорируя демонстративное молчание Брута. – Пока он жив, ничего подобного ни от Магна, ни от его сената ты не дождешься.
– Я это знаю.
Цезарь пересек Геллеспонт три рыночных интервала назад и поплыл к югу, следуя вдоль восточного берега Эгейского моря, чтобы проверить степень разорения, нанесенного республиканцами провинции Азия, когда они лихорадочно собирали флот и деньги. Из храмов были изъяты самые дорогие сокровища, были взломаны и опустошены сейфы банков, плутократов и сборщиков налогов. Метелл Сципион, губернатор скорее Сирии, чем провинции Азия, поспешая к Помпею в Фессалию, остановился здесь и незаконно обложил налогами все, что пришло ему на ум: окна, столбы, двери, рабов, неимущих, зерно, скот, оружие, артиллерию и передачу земли. Когда и этого оказалось мало, он ввел и собрал временные налоги на десять лет вперед, а протестующих публично казнил.
Хотя депеши, идущие к Цезарю, больше касались разнообразных подтверждений его божественной принадлежности, чем столь приземленных вещей, поездка была не обзорной, а ревизионной, с целью понять, что же нужно сделать для разоренной провинции, чтобы помочь ей оправиться, ибо она уже была не в состоянии сама залечить свои раны. Цезарь поговорил с городскими и торговыми лидерами, упразднил институт откупщиков, отменил налоги на следующие пять лет, издал приказ вернуть найденные в солдатских палатках в Фарсале сокровища тем храмам, откуда их взяли, и пообещал, что, как только будет организовано новое правительство в Риме, он примет определенные меры для помощи бедной провинции Азия.
Вот почему все в провинции Азия склонны считать его богом, думал Гней Домиций Кальвин, наблюдая, с каким тщанием Цезарь здесь, на Родосе, изучает бумаги, завалившие его стол. Последним человеком, что-то смыслящим в экономике и имевшим дело с этой провинцией, был Сулла, чья справедливая система налогообложения через пятнадцать лет после введения была отменена, и сделал это не кто иной, как Помпей. «Может быть, – размышлял Кальвин, – определять обязанности Рима по отношению к зависящим от него территориям должны именно представители древних патрицианских родов. Наши же связи с прошлым не очень крепки, поэтому мы заботимся больше о настоящем».
В последние дни Цезарь выглядит очень усталым. Нет, он, как всегда, в форме, подтянутый и опрятный, но усталость видна. Поскольку он ест одну лишь здоровую пищу и не берет в рот вина, то каждый день он встречает без сожаления о том, что накануне не смог противиться своим желаниям, и его способность просыпаться свежим после короткого сна не изменилась. Беда только в том, что он взваливает на себя непомерно много работы, а помощников ему под стать у него нет. Взять хотя бы Брута, угрюмо подумал Кальвин (ему Брут не нравился). Как финансист он великолепен, но вся его энергия направлена на защиту интересов его несенаторской фирмы ростовщиков и откупщиков «Матиний и Скаптий», которую, в сущности, следовало бы назвать «Брут и Брут»! Каждый влиятельный человек в провинции Азия должен «Матинию и Скаптию» миллионы, и то же относится к царю Галатии Деиотару и царю Каппадокии Ариобарзану. Поэтому Брут ворчит, и это раздражает Цезаря, а он ненавидит, когда его раздражают.
– Десять простых процентов – это недостаточный возврат, – горестно вздыхает Брут. – Он просто пагубен для римских дельцов.
– Тогда твои римские дельцы – не дельцы, а презренные ростовщики, – хмурится Цезарь. – Сорок восемь сложных процентов – это преступление, Брут! Именно такой барыш твои ставленники Матиний и Скаптий намеревались взять с жителей Саламина на Кипре, а когда они не смогли заплатить проценты, их уморили голодом. Наши провинции должны быть экономически стабильными, чтобы вносить свою лепту в благополучие Рима.
– Заимодавцы не виноваты, что должники соглашаются на такие условия, – возражает обиженно Брут. – Долг есть долг, и его надо возвращать с теми процентами, на какие договорились. А теперь ты объявил незаконными многие добровольно подписанные контракты!
– Ростовщичество всегда было незаконным. Ты, Брут, славен своими эпитомами – кто еще сумел бы втиснуть всего Фукидида в две страницы? Уж не пытаешься ли ты теперь ужать Двенадцать таблиц в одну коротенькую страницу? Если это mos maiorum подталкивают тебя встать на сторону твоего дяди Катона, тогда ты должен помнить, что Двенадцать таблиц вообще запрещают брать с займов проценты.
– Это было шестьсот лет назад.
– Если занимающие согласны на непомерные условия займа, значит, они неподходящие кандидаты на заем, и тебе это понятно. На самом деле ты, Брут, жалуешься на то, что я запретил римским ростовщикам нанимать войска или ликторов, чтобы собирать долги силой.
И так изо дня в день.
Конечно, для Цезаря Брут – проблема. Он был вынужден взять его под крыло после Фарсала, во-первых, из любви к Сервилии, его матери, а во-вторых, чувствуя вину за то, что разорвал помолвку Брута со своей дочерью Юлией, чтобы заполучить Помпея. Он понимал, что тем самым разбивает бедному юноше сердце. Но Цезарь понятия не имел, что за человек Брут, когда пожалел его после Фарсала. Он возобновил отношения через двенадцать лет, не зная, что этот прыщавый мужчина тридцати шести лет был трусом на поле битвы и львом, когда дело касалось защиты его ошеломляющего состояния. Никто не смел сказать Цезарю то, о чем знали все: при Фарсале Брут бросил свой меч, так и не запятнав его вражеской кровью, и отсиживался в болотах, а потом первым кинулся победителю в ноги. «Нет, – твердо сказал себе Кальвин, – мне не нравится трус Брут, и глаза бы мои на него не глядели! Называет себя республиканцем, вот уж действительно! Это просто звучное имя, каким он и все другие так называемые республиканцы думают оправдать гражданскую войну, в которую они ввергли Рим».
Брут поднялся из-за стола.
– Цезарь, у меня назначена встреча.
– Тогда иди, – был ответ.
– Значит ли это, что червяк Матиний на Родосе? – спросил Кальвин, когда внизу хлопнула дверь.
– Боюсь, что да.
Морщинки собрались у внешних уголков голубых глаз, необычных из-за черных ободков по внешнему краю радужной оболочки.
– Веселей, Кальвин! Скоро мы избавимся от Брута.
Кальвин улыбнулся в ответ.
– Что ты хочешь с ним сделать?
– Оставлю во дворце губернатора в Тарсе. Это наш следующий – и конечный – пункт назначения. Я не могу придумать более подходящего наказания для Брута, чем заставить его вернуться к Сестию, у которого он украл два легиона в Киликии, чтобы привести их к Помпею Магну. Сестий вряд ли об этом забыл.
Один короткий приказ – и все завертелось. На другой день Цезарь покинул Родос и отплыл к Тарсу с двумя полными легионами и с тридцатью двумя сотнями ветеранов, костяк которых составляли остатки его старых легионов, главным образом прославленного Шестого. С ним ушли восемьсот германских всадников, их любимые лошади ремов и горсточка воинов-пехотинцев убиев, отменных метателей копий.
Разрушенный Метеллом Сципионом Тарс продолжал существовать под опекой Квинта Марция Филиппа – младшего сына Луция Марция Филиппа, племянника Цезаря и тестя Катона, эпикурейца, вечно колеблющегося и не знающего, на чью сторону встать. Похвалив молодого Филиппа за здравомыслие, Цезарь тут же посадил Публия Сестия обратно в курульное кресло губернатора и назначил Брута его легатом, а молодого Филиппа – проквестором.
– Тридцать седьмой и Тридцать восьмой легионы нуждаются в отдыхе, – сказал он Кальвину. – Помести ребят на шесть рыночных интервалов в хороший лагерь в горах над Киликийскими воротами, а потом вместе с военным флотом пошли их в Александрию. Я буду ждать их там, а потом мы пойдем на запад и выгоним республиканцев из провинции Африка, прежде чем они уютно устроятся в ней.
Кальвин, высокий светловолосый и сероглазый мужчина лет пятидесяти, ни на мгновение не усомнился в этих распоряжениях. Все пожелания Цезаря всегда оказывались единственно верными. Кальвин, всего лишь год назад присоединившийся к Цезарю, видел достаточно, чтобы понять, что это именно тот человек, к которому будут стремиться все мудрые люди, если они хотят добиться успеха. Консервативный политик, который должен бы был примкнуть к Помпею Великому, Кальвин выбрал Цезаря, после того как смертельно устал от слепой враждебности таких людей, как Катон и Цицерон. Поэтому Кальвин поехал в Брундизий, нашел там Марка Антония и попросил переправить его к генералу. Антоний немедленно согласился, зная, что Цезарь хорошо воспримет переход на его сторону такого консуляра, как Кальвин.
– Ты желаешь, чтобы я оставался в Тарсе, пока не дождусь известий от тебя? – спросил он.
– Как хочешь, Кальвин, – ответил Цезарь. – Я скорее склонен считать тебя моим «кочующим консуляром», если в природе имеется такой зверь. Как диктатор, я сегодня же соберу тридцать ликторов и в их присутствии наделю тебя неограниченными полномочиями во всех землях восточнее Греции. Это даст тебе возможность не подчиняться губернаторам провинций и набирать повсюду войска.
– У тебя какие-то предчувствия, Цезарь? – спросил Кальвин, хмурясь.
– Предчувствий у меня нет, если под предчувствиями ты понимаешь необычный свербеж в мозгу. Скорее, я бы сказал об ощущениях, относящихся к мимолетным событиям, которые мой мыслительный процесс пропустил, но тем не менее они застряли в голове. А потому прошу тебя: держи глаза открытыми, чтобы не пропустить летающих свиней, а уши настрой на эфир, чтобы услышать поющих свиней. Если случится нечто подобное, значит, что-то где-то не так. Тогда применяй свою власть.
И назавтра, в предпоследний день сентября, Гай Юлий Цезарь поплыл по реке Кидн в Наше море, где его подхватил северо-западный ветер и погнал на юго-восток, что и требовалось. Три тысячи двести ветеранов и восемьсот конников с лошадьми теснились на тридцати пяти транспортах, ибо военные корабли остались в ремонтных доках.
Два рыночных интервала спустя Кальвин, «кочующий консуляр», наделенный неограниченными полномочиями, собрался в Антиохию посмотреть, во что превратилась Сирия после губернаторства Метелла Сципиона. Но тут в Тарс на взмыленном скакуне прибыл курьер.
– Киммерийский царь Фарнак со стотысячным войском вторгся в Понт у Амиса! – сообщил он, отдышавшись. – Амис горит, а Фарнак объявил, что намерен отвоевать все земли отца, от Малой Армении до Геллеспонта.
Кальвин, Сестий, Брут и Квинт Филипп оцепенели.
– Еще один Митридат, – глухо произнес Сестий.
– Вряд ли, – возразил Кальвин, овладевая собой. – Сестий, мы выступаем. Квинт Филипп отправится с нами, а в Тарсе останется Брут. – Он посмотрел на Брута так грозно, что тот отшатнулся. – А ты, Марк Брут, хорошенько запомни мои слова: в наше отсутствие никаких сборов долгов! Если выяснится, что хоть один ликтор попытался по твоему указанию кого-нибудь обобрать, я вздерну тебя за яйца! Или, если их не окажется, за что-либо другое!
– Это по твоей вине, – сердито добавил Сестий, – в Киликии не осталось обученных легионов, так что твоей главной работой будет вербовать и обучать солдат. Слышишь меня? – Он повернулся к Кальвину. – А что Цезарь?
– Возникает проблема. Он велел отправить к нему два отпускных легиона, но я теперь не могу этого сделать. Не думаю, что и он в такой ситуации захотел бы лишить Анатолию всего регулярного войска. Поэтому я пошлю ему Тридцать седьмой, а Тридцать восьмой возьму с собой на север. Мы заберем его у Киликийских ворот, потом пойдем в Эзебию Мазаку к царю Ариобарзану, которому придется собрать для нас армию, какой бы бедной сейчас ни была Каппадокия. Я также пошлю гонца к царю Деиотару в Галатию с приказом найти в своих землях как можно больше воинов, а затем ожидать нас на реке Галис, ниже Эзебии Мазаки. Квинт Филипп, пришли ко мне писарей, и побыстрей!
Приняв такое решение, Кальвин все же не обрел спокойствия. Хотя Цезарь и намекнул, что Анатолию ждут неприятности, однако отдал распоряжение прислать к нему именно два легиона, а никак не один. Что же придумать, чтобы не сорвать его планы похода в провинцию Африка? Может быть, обратиться в Пергам, к другому сыну Митридата Великого, не Фарнаку?
Этот Митридат был союзником римлян во время кампании Помпея по чистке Анатолии после тридцатилетней войны Рима с его отцом. Помпей наградил его куском плодородной земли вокруг Пергама, столицы провинции Азия. Этот Митридат царем не был, но в границах своей маленькой сатрапии он не отвечал перед римским законом. Ставший вследствие этого клиентом Помпея, он помогал патрону в войне против Цезаря, но после Фарсала послал вежливое извинительное письмо Цезарю, прося прощения и привилегии стать клиентом Цезаря. Письмо позабавило Цезаря и очаровало. Он ответил Митридату Пергамскому, что тот прощен и что отныне он входит в клиентуру Цезаря, но взамен должен быть готов оказать услугу Цезарю, когда его попросят об этом.
Кальвин писал:
Вот твой шанс оказать услугу Цезарю, Митридат. Без сомнения, ты так же, как и все мы, обеспокоен вторжением в Понт твоего сводного брата. Его зверства в Амисе – прямой вызов всем цивилизованным людям. Войны – это необходимость, иначе они не случались бы, но цивилизованный военачальник обязан убрать мирных граждан с дороги военной машины и уберечь их от физического насилия. Голод и потеря крова в военных кампаниях неизбежны, но совсем другое дело – пытки, надругательства, горы отрубленных рук и ног. Фарнак – варвар.Получив письмо, Митридат Пергамский вздохнул с облегчением. У него появилась возможность показать новому правителю мира, насколько он ему предан.
Вторжение Фарнака поставило меня в трудное положение, дражайший Митридат, но я уверен, что смогу на тебя опереться. Я знаю, что тебе запрещено набирать армию, даже оборонительный гарнизон, но в нынешних обстоятельствах придется проигнорировать этот пункт договора. Я имею на то соответствующие проконсульские полномочия, которыми меня наделил сам диктатор.
Ты, вероятно, не знаешь, что Цезарь поплыл в Египет с очень малым войском. Он попросил меня как можно скорее прислать ему еще два легиона и военные корабли. Флот готов к выходу, но ситуация позволяет отправить с ним лишь один легион.
Поэтому сим письмом я уполномочиваю тебя набрать армию и послать ее к Цезарю в Александрию. Где ты найдешь солдат, я не знаю, ибо сам прошелся по всей Анатолии. Но Марк Юний Брут, оставляемый мною в Тарсе, уже приступает к вербовке нового легиона, так что можешь рассчитывать, что твой командующий получит его. Ты же проверь южные окраины Сирии – лучшие в мире наемники именно из тех мест. Загляни и к евреям.
– Я сам поведу армию, – сказал он своей жене Беренике.
– Разумно ли это? – усомнилась она. – Почему бы не послать с ней нашего сына?
– Архелай пусть справляется здесь. А я – сын великого воина и, надеюсь, кое-что от него унаследовал, поэтому хочу командовать лично. Кроме того, – добавил он, – я долго жил среди римлян и перенял от них некоторую способность к организации. Мой отец потерпел поражение лишь потому, что этим не обладал.
2
«О блаженство!» – такова была первая реакция Цезаря на его внезапное избавление от провинции Азия, от Киликии и от неизбежного сонма легатов, чиновников, плутократов и местных этнархов. Единственным человеком, которого он взял с собой в путешествие, был некий Публий Руфрий, один из его самых ценных primipilus центурионов периода галльской войны, после Фарсала возведенный в легаты. Этот молчаливый человек никогда и мечтал о том, что однажды составит компанию своему генералу.
Люди действия могут быть и мыслителями, но их мыслительный процесс происходит в движении, в круговерти событий, и Цезарь, который ненавидел бездеятельность, использовал для дела каждый момент. Покрывая сотни, иногда тысячи миль от одной провинции до другой, он держал при себе хотя бы одного секретаря и даже в грохочущей двуколке, запряженной четырьмя мулами, беспрестанно диктовал несчастному. Только женщины или музыка вынуждали его время от времени прерываться. Он был страстным меломаном.
Но женщины, музыканты и секретари остались на суше. Четырехдневный морской переход из Тарса в Александрию превратился в тягучий кошмар. Цезарь очень устал. И понял наконец, что он должен отдохнуть – подумать о других вещах, а не о том, где будет следующая война и случится следующий кризис.
Думать о себе в третьем лице давно стало его привычкой. И даже необходимостью. Способом отстраняться от внутренней боли, от ее лютости, горечи, неизбывности. Цезарь – это Цезарь, а «я» – это «я». Нет «меня» – нет и боли.
Это ведь Цезарь завоевал Длинноволосую Галлию для Рима, но ему не позволили мирно носить свои лавры. И виноват в том совсем не Помпей. Виновата преступная маленькая кучка сенаторов, именующих себя boni. Эти «добрые люди» поклялись сбросить Цезаря с пьедестала, раздавить его, сослать в вечную ссылку и навеки стереть ненавистное имя со всех таблиц. Возглавляемая Бибулом и громко тявкающей дворняжкой Катоном, эта свора сделала жизнь Цезаря постоянной борьбой за выживание.
Почему?
Конечно, он понимал почему. Но чего он не мог понять, так это логики boni, чьи поступки и мысли были невероятно глупы. Бесполезно убеждать себя, что, если бы он смягчился немного в своем стремлении показать их смешную несостоятельность, они могли бы поколебаться в своей решимости низвести его. У Цезаря был характер, и Цезарь не терпел дураков.
Бибул. Это он положил начало всему во время осады Митилен на острове Лесбос тридцать три года назад. Бибул. Такой маленький и так пропитанный злобой, потому что Цезарь тогда поднял его и посадил на высокий шкаф, посмеялся над ним и выставил его смешным перед товарищами.
Лукулл. Лукулл командовал взятием Митилен. Это он пустил слух, что Цезарь получил флот от дряхлого царя Вифинии, переспав с ним. Грязная ложь, которую boni годы спустя снова вытащили на свет и использовали на Римском Форуме как часть своей грязной политической кампании. Если им верить, их политические противники ели фекалии или насиловали своих дочерей, а вот Цезарь подставил свою задницу царю Никомеду. Только время и разумный совет матери положили конец этой сплетне. Лукулл, погрязший в отвратительнейших пороках. Лукулл, близкий друг Луция Корнелия Суллы.
Сулла. Став диктатором, он освободил Цезаря от ужасного жречества, которое Гай Марий возложил на него в тринадцать лет, – жречества, запрещавшего ему носить оружие и видеть смерть. Сулла назло умершему Марию освободил Цезаря от обета и в возрасте девятнадцати лет послал на восток. Верхом не на коне, а на муле, и не к кому-нибудь, а к Лукуллу, который сразу его невзлюбил. В ближайшем сражении он поставил новичка в первые ряды, надеясь, что вражеские стрелы настигнут его. Но Цезарь вышел из боя с corona civica на голове. Этим венком из дубовых листьев награждали за исключительную личную храбрость, причем это делалось так редко, что награжденный имел право носить венок во время всех публичных мероприятий и все без исключения должны были вставать при его появлении и аплодировать ему. И Бибул тоже был вынужден вставать и аплодировать Цезарю каждый раз, когда собирался сенат! Кроме всего прочего, corona civica давала Цезарю право стать членом сената, хотя ему было только двадцать лет – другим приходилось ждать до тридцати. Однако Цезарь уже побывал в сенаторах: специальный жрец Юпитера Наилучшего Величайшего автоматически становился таковым. Это означало, что из пятидесяти двух лет своей жизни тридцать восемь Цезарь был сенатором.
Делом чести для Цезаря было получать каждую очередную политическую должность в положенное по возрасту время, и самое главное – без взятки. Если бы он давал взятки, boni вмиг растерзали бы его. Цезарь с достоинством шел к своей цели, как и положено человеку из рода Юлиев, прямому потомку богини Венеры (через ее сына Энея) и бога Марса (через его сына Ромула, основателя Рима). Марс – Арес, Венера – Афродита.
Мысленно Цезарь вернулся на шесть рыночных интервалов назад, когда он стоял в Эфесе перед своей статуей, воздвигнутой на агоре, и читал надпись на постаменте: «ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ, СЫН ГАЯ, ВЕЛИКИЙ ПОНТИФИК, ПОБЕДИТЕЛЬ, ДВАЖДЫ КОНСУЛ, ПОТОМОК АРЕСА И АФРОДИТЫ, НОСИТЕЛЬ БОЖЕСТВЕННОЙ СУТИ И СПАСИТЕЛЬ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». Естественно, на каждой рыночной площади между Олисиппоном и Дамаском высились статуи Помпея Великого (разумеется, после его поражения при Фарсале их поспешно снесли), но не было ни одной статуи человека, который мог бы претендовать на предка-бога, не говоря уже об Аресе и Афродите. О, на каждой статуе римского завоевателя написано, что он носитель божественной сути и спаситель человечества. Это обычный хвалебный штамп для восточного склада ума. Но что действительно было важно для Цезаря, так это родословная, и здесь Помпей, галл из Пицена, ни на что не мог претендовать. Его единственным предком был Пик, тотем в виде дятла. Зато родословную Цезаря, представленную на его статуе, мог видеть весь Эфес.
Люди действия могут быть и мыслителями, но их мыслительный процесс происходит в движении, в круговерти событий, и Цезарь, который ненавидел бездеятельность, использовал для дела каждый момент. Покрывая сотни, иногда тысячи миль от одной провинции до другой, он держал при себе хотя бы одного секретаря и даже в грохочущей двуколке, запряженной четырьмя мулами, беспрестанно диктовал несчастному. Только женщины или музыка вынуждали его время от времени прерываться. Он был страстным меломаном.
Но женщины, музыканты и секретари остались на суше. Четырехдневный морской переход из Тарса в Александрию превратился в тягучий кошмар. Цезарь очень устал. И понял наконец, что он должен отдохнуть – подумать о других вещах, а не о том, где будет следующая война и случится следующий кризис.
Думать о себе в третьем лице давно стало его привычкой. И даже необходимостью. Способом отстраняться от внутренней боли, от ее лютости, горечи, неизбывности. Цезарь – это Цезарь, а «я» – это «я». Нет «меня» – нет и боли.
Это ведь Цезарь завоевал Длинноволосую Галлию для Рима, но ему не позволили мирно носить свои лавры. И виноват в том совсем не Помпей. Виновата преступная маленькая кучка сенаторов, именующих себя boni. Эти «добрые люди» поклялись сбросить Цезаря с пьедестала, раздавить его, сослать в вечную ссылку и навеки стереть ненавистное имя со всех таблиц. Возглавляемая Бибулом и громко тявкающей дворняжкой Катоном, эта свора сделала жизнь Цезаря постоянной борьбой за выживание.
Почему?
Конечно, он понимал почему. Но чего он не мог понять, так это логики boni, чьи поступки и мысли были невероятно глупы. Бесполезно убеждать себя, что, если бы он смягчился немного в своем стремлении показать их смешную несостоятельность, они могли бы поколебаться в своей решимости низвести его. У Цезаря был характер, и Цезарь не терпел дураков.
Бибул. Это он положил начало всему во время осады Митилен на острове Лесбос тридцать три года назад. Бибул. Такой маленький и так пропитанный злобой, потому что Цезарь тогда поднял его и посадил на высокий шкаф, посмеялся над ним и выставил его смешным перед товарищами.
Лукулл. Лукулл командовал взятием Митилен. Это он пустил слух, что Цезарь получил флот от дряхлого царя Вифинии, переспав с ним. Грязная ложь, которую boni годы спустя снова вытащили на свет и использовали на Римском Форуме как часть своей грязной политической кампании. Если им верить, их политические противники ели фекалии или насиловали своих дочерей, а вот Цезарь подставил свою задницу царю Никомеду. Только время и разумный совет матери положили конец этой сплетне. Лукулл, погрязший в отвратительнейших пороках. Лукулл, близкий друг Луция Корнелия Суллы.
Сулла. Став диктатором, он освободил Цезаря от ужасного жречества, которое Гай Марий возложил на него в тринадцать лет, – жречества, запрещавшего ему носить оружие и видеть смерть. Сулла назло умершему Марию освободил Цезаря от обета и в возрасте девятнадцати лет послал на восток. Верхом не на коне, а на муле, и не к кому-нибудь, а к Лукуллу, который сразу его невзлюбил. В ближайшем сражении он поставил новичка в первые ряды, надеясь, что вражеские стрелы настигнут его. Но Цезарь вышел из боя с corona civica на голове. Этим венком из дубовых листьев награждали за исключительную личную храбрость, причем это делалось так редко, что награжденный имел право носить венок во время всех публичных мероприятий и все без исключения должны были вставать при его появлении и аплодировать ему. И Бибул тоже был вынужден вставать и аплодировать Цезарю каждый раз, когда собирался сенат! Кроме всего прочего, corona civica давала Цезарю право стать членом сената, хотя ему было только двадцать лет – другим приходилось ждать до тридцати. Однако Цезарь уже побывал в сенаторах: специальный жрец Юпитера Наилучшего Величайшего автоматически становился таковым. Это означало, что из пятидесяти двух лет своей жизни тридцать восемь Цезарь был сенатором.
Делом чести для Цезаря было получать каждую очередную политическую должность в положенное по возрасту время, и самое главное – без взятки. Если бы он давал взятки, boni вмиг растерзали бы его. Цезарь с достоинством шел к своей цели, как и положено человеку из рода Юлиев, прямому потомку богини Венеры (через ее сына Энея) и бога Марса (через его сына Ромула, основателя Рима). Марс – Арес, Венера – Афродита.
Мысленно Цезарь вернулся на шесть рыночных интервалов назад, когда он стоял в Эфесе перед своей статуей, воздвигнутой на агоре, и читал надпись на постаменте: «ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ, СЫН ГАЯ, ВЕЛИКИЙ ПОНТИФИК, ПОБЕДИТЕЛЬ, ДВАЖДЫ КОНСУЛ, ПОТОМОК АРЕСА И АФРОДИТЫ, НОСИТЕЛЬ БОЖЕСТВЕННОЙ СУТИ И СПАСИТЕЛЬ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». Естественно, на каждой рыночной площади между Олисиппоном и Дамаском высились статуи Помпея Великого (разумеется, после его поражения при Фарсале их поспешно снесли), но не было ни одной статуи человека, который мог бы претендовать на предка-бога, не говоря уже об Аресе и Афродите. О, на каждой статуе римского завоевателя написано, что он носитель божественной сути и спаситель человечества. Это обычный хвалебный штамп для восточного склада ума. Но что действительно было важно для Цезаря, так это родословная, и здесь Помпей, галл из Пицена, ни на что не мог претендовать. Его единственным предком был Пик, тотем в виде дятла. Зато родословную Цезаря, представленную на его статуе, мог видеть весь Эфес.
