Страница:
L’ordre du jour pour le roi. – Начинается день, начинаем и мы распределять на этот день торжества и празднества нашего всемилостивейшего господина, который в настоящий момент изволит еще почивать. Его превосходительство настроено сегодня плохо; но мы остережемся говорить об этом и не будем упоминать о его настроении, – мы приготовим сегодня какое-нибудь торжество повеселее и праздник поторжественнее, чем раньше. Его превосходительству, быть может, даже нездоровится, и мы запасем к завтраку последнюю приятную новость, – приезд г-на Монтеня, который умеет так приятно пошутить над своею немощью, – он страдает каменной болезнью. Мы примем нескольких лиц (лиц! – что сказала бы та старая надутая лягушка, которая также будет среди них, если бы услышала это слово! «я не лицо, но сама вещь»), – и прием затянется дольше, чем это кому-нибудь будет приятно: вот прекрасный повод рассказать о том поэте, который сделал над своими дверями такую надпись: «кто войдет сюда, тот окажет мне честь; кто же не сделает этого, – удовольствие». – Вот это, поистине, называется сказать грубость вежливым манером! И, быть может, поэт этот не без основания был невежливым. Он, возможно, хотел написать еще много стихов и для того оградить себя от внешнего мира, – вот чем и объясняется его утонченная грубость! Напротив, князь всегда представляет собой нечто более ценное, чем его стихи, даже в том случае, когда… однако, что же это мы делаем? Мы болтаем, а весь двор думает, что мы работали и ломали над работой свою голову: ведь света только и есть, что в нашем окошке. – Послушайте! Кажется, часы бьют! Ах, черт возьми! Начинается день и открываются танцы, а мы еще не разучили своего тура! Нам придется импровизировать, но ведь весь мир импровизирует свой день. Будем же сегодня поступать, как и все! – И вот вдруг исчезло мое удивительное сновидение, разогнанное, вероятно, резкими ударами башенных часов, которые, со свойственной им важностью, отбили пять ударов. И мне казалось, что на этот раз бог сновидений хотел пошутить над моими привычками – ведь я начинаю обыкновенно день после того, как подготовлю его и сделаю для себя сносным, и, быть может, относился к этой привычке слишком старательно, по-княжески.
Признаки испорченности. Общество в силу известной необходимости время от времени переживает состояние, которое характеризуется словом «испорченность» и признаки которого заключаются в следующем. Испорченное общество прежде всего находится под властью пестрого суеверия, а народная вера, напротив, бледнеет, теряет силу: суеверие именно и представляет собой вольнодумство второй степени, – всякий, кто поддается ему, избирает известные, подходящие для себя формы и формулы и представляет себе право такого выбора. Человек суеверный, по сравнению с человеком религиозным, является всегда в большей степени «личностью», и суеверным обществом будет такое, в котором уже существует много индивидуумов и проявилась известная любовь к индивидуальности. С этой точки зрения суеверие представляет собою шаг вперед по сравнению с установившимися взглядами и служит признаком того, что интеллект становится независимее и хочет отстоять свое право. Сторонники старых убеждений начинают тогда оплакивать испорченность нравов, – они приучили нас к известным терминам и окружили суеверие клеветой в глазах даже самых свободных людей. Будем же знать, что оно является симптомом прояснения. – Во-вторых, общество, в котором имеет место развращенность нравов, обвиняют в ослаблении: оно явно начинает не так высоко ценить войну и не проявляет к ней прежнего стремления, и люди ищут теперь покой с такою же страстностью, как прежде желали военных и гимнастических почестей. Но обыкновенно при этом не замечается того, что прежняя энергия народа, прежняя его страстность, которая находила себе такое блестящее выражение в войне и военных упражнениях, вкладываются теперь в бесчисленные индивидуальные страсти и стали потому менее заметными; да, вероятно, в тех общественных состояниях, которые считают «развращенностью» нравов, мощь затрачиваемой народом энергии увеличилась против прежнего, и индивидуум по отношению к ней проявляет такую расточительность, какая раньше была недоступна: – он не был тогда еще достаточно богат! И в эту эпоху «расслабления» трагедии совершаются и в частных домах, и на улицах, зарождается великая любовь и великая ненависть, и пламя познания ярко вспыхивает до самого неба. В-третьих, как бы в противовес упрекам в суеверии и ослаблении, приписывают эпохе порчи нравов более мягкие взгляды, считают, что жестокость, которая сильно давала себя чувствовать раньше, в период большей веры и большей силы, теперь значительно смягчается. Но как не мог я согласиться с приведенными выше упреками, так не согласен и с только что высказанной похвалой; даже больше: я уверен, что жестокость теперь становится более утонченной и более древние формы ее приходятся уже не по вкусу; но пытка путем слова и взглядов достигает в эпоху развращения нравов высшего своего выражения, – теперь только появилась злость и любовь к злобе. Люди эпохи развращения нравов отличаются своим остроумием и злоречивостью: они знают, что не одним только кинжалом можно убить человека, – они знают также, что люди верят во все, что хорошо сказано. – В-четвертых, в эпоху падения нравов на поверхность выплывают существа, которых называют тиранами: это предтечи и рано созревшие первенцы индивидуализма. Погодите немного: и вот уже эти плоды из плодов висят спелыми и желтыми на древе народа – и только ради плодов этих и существовало ведь это дерево! Если падение нравов и борьба всевозможных тиранов достигли своей кульминационной точки, то выступает всегда Цезарь, этот последний из тиранов, который заканчивает утомительную борьбу за единовластие, заставляя и само утомление работать на себя. Индивидуальность обычно своевременно достигает полной своей зрелости, а «культура», следовательно, высшего своего развития и высшей плодовитости, но делается все это не ради тирана и не через посредство его: хотя высококультурные люди любят льстить своему цезарю и выдавать себя делом его рук. Истина, однако, заключается в том, что они нуждаются в покое от внешнего мира, ибо свое беспокойство и свою работу они носят внутри себя. В это время подкуп и измена достигают наивысшего своего развития, ибо любовь к только что открытому своему ego становится теперь гораздо могущественнее любви к старому, изношенному, обреченному на смерть «отечеству»; и стремление обеспечить себя от страшных колебаний счастья открывает даже более благородные руки, когда богатый или могучий человек выказывает готовность насыпать в них золота. Теперь нет прочного будущего, и люди живут только сегодняшним днем: вот то состояние души, при котором обольстители всякого рода пожинают легкую жатву – и, действительно, люди дают обольстить и подкупить себя только на сегодня и отбрасывают всякую мысль о будущем и о добродетели! Индивиды думают только о себе и, как известно, данным моментом интересуются больше, чем толпа, которая представляет им полную противоположность, ибо считает себя такой же непонятной, как и будущее: подобным же образом они охотно связывают свою судьбу с людьми сильными, доверяя таким делам и средствам, которые не могут быть поняты толпой и не могут рассчитывать на благосклонный прием с ее стороны. Но зато и тиран или цезарь понимает права индивидуальности и заинтересован в том, чтобы обратиться с ободрящей речью и протянуть руку помощи даже наиболее смелой индивидуальной морали. Ибо он думает о себе или хочет подумать о себе то же, что Наполеон однажды классически выразил в следующей фразе: «На все упреки, обращенные ко мне, я имею право давать вечно один и тот же ответ: “ведь это я”». Я стою в стороне от всего мира, никто не может ставить мне каких-либо условий. Я хочу, чтобы подчинялись моим фантазиям, и нахожу это естественным даже в том случае, когда позволяю себе то или другое развлечение». Так отвечал Наполеон своей супруге, когда та не без основания высказала подозрение в его супружеской верности. Эпоха развращения нравов является временем, когда яблоки падают с дерева: я подразумеваю здесь индивидуальности, этих сеятелей будущего, этих инициаторов духовной колонизации и пионеров в деле образования государственных и общественных союзов. Порча нравов – это только бранное слово для обозначения того факта, что для данного народа наступил осенний сезон.
Различные виды недовольства. – Недовольные люди типа слабого, как бы женского, способствуют украшению и углублению жизни; недовольство же со стороны людей сильных, – чтобы сохранить нашу аналогию, скажем: людей, отличающихся мужским характером, – служит для улучшения и упрочнения жизни. Слабость и женственность у первых сказывается в том, что они время от времени охотно поддаются обману и уже небольшое упоение и сумасбродство удовлетворяет их, хотя в общем они никогда не достигают полного удовлетворения; эта-то неизлечимость недовольства их причиняет им страдание, и они идут охотно за теми, кто умеет находить себе утешение в опиуме и других наркотиках, и ненавидят всех, кто врача ставит выше священнослужителя; – вот чем они поддерживают жизнь в состоянии напряженной борьбы!
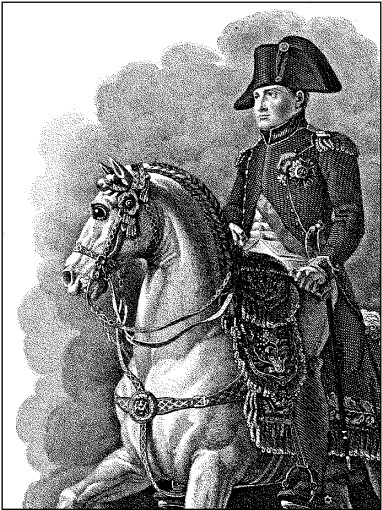
Не предусмотрено для познания. – Нередко встречается чувство робкого принижения, которое не позволяет человеку стать в число познающих. Именно: как только такой человек увидит что-нибудь необычайное, – он тотчас же отворачивается и говорит себе: «ты ошибся! Где были твои чувства? Это не может быть истиной!» – и, вместо того, чтобы зорче прислушиваться и приглядываться, он, как испуганный, бежит от поразившего его предмета и старается как можно скорее, выбросить его из головы. Он именно во внутренней жизни держится следующего правила: «я не хочу ничего видеть, что находится в противоречии с установившимися взглядами на вещи! Разве я для того создан, чтобы открывать новые истины?»
Что называется жизнью? – Жить – значит отталкивать все, что обрекает себя на смерть: жить – значит быть свирепым, неумолимым ко всему, что является дряхлым и слабым на наш взгляд и не только на наш взгляд. Так неужели же жить – значит не иметь сострадания к умирающему, нищему и старику? Беспрерывно быть убийцей? – А ведь еще Моисей принес в древности заповедь: «не убий!»
Отрицающий. – В чем состоит отрицание? Тот, кто отрицает, – стремится в высший мир, хочет улететь дальше и выше, чем люди, держащиеся каких-нибудь положительных правил; – он отбрасывает многое из того, что могло бы задержать его полет, и в выброшенном им балласте не все и для него не имеет цены, не все и ему недорого: он приносит это в жертву своему порыву ввысь. И мы только видим в нем эту жертву, это отбрасывание в сторону, а потому и называем его отрицающим. Но он доволен тем впечатлением, которое он на нас оставляет: он хочет скрыть от нас свое желание, свою гордость, свой умысел, чтобы подняться над нами. – Да! а ведь тот, кто поддакивает, кажется нам умнее, чем мы думали, и так почтителен по отношению к нам! Он – ровня нам даже в отрицании.
Вред, проистекающий от лучших сторон человеческой природы. – Наши силы иногда заводят нас так далеко, что мы уже больше не можем сдерживать своих слабостей и идем ко дну: мы даже предвидим подобный исход и тем не менее все же стремимся к нему. Тогда становимся мы жестокими ко всему, нуждающемуся в пощаде, и наше величие будет в то же время и проявлением нашей безжалостности. – Переживая подобное состояние, за которое мы готовы расплатиться жизнью, мы по своему воздействию будем напоминать великих людей с их влиянием на других и их время: лучшими сторонами своего существа они топят много слабых, неуверенных, несложившихся, желающих и приносят таким образом вред. Да, может и так случиться, что в общем тот или другой из них принесет только вред, ибо лучшие стороны его бытия могут быть усвоены только такими индивидами, которых оно, как сильный хмельной напиток, заставит потерять и ум и чувство самосохранения, и они, хмельные, переломают себе руки и ноги на той неверной дороге, куда загонит их хмель.
Привравшие. – Когда во Франции явились противники, а, следовательно, и защитники единиц Аристотеля, то можно было наблюдать явление, которое обыкновенно приходится видеть довольно часто, но на которое люди неохотно обращают свое внимание: – основания, на которых должен был покоиться закон, выдумывались исключительно лишь для того, чтобы не выдать своей привычки к нему и своего нежелания признать что-либо иное. То же самое повторяется по отношению ко всякой господствующей морали и ведется издавна: основания и цели, которые якобы кроются за известной привычкой, выдумываются только тогда, когда появляются противники данной привычки и спрашивают, какую цель она преследует и на каких основаниях покоится. В том и беда консерваторов всех времен, что они бывают вынуждены лгать по разным поводам.
Комедия, разыгрываемая знаменитостями. – Знаменитые мужи, ищущие славы, как, напр., все политики, не без задней мысли выбирают себе союзников и друзей. От одного они хотят заимствовать блеск и отблеск его добродетели, от другого – способность внушать к себе страх какими-нибудь сомнительными добродетелями, которые всеми признаются за ним; у третьего захватывают тайком славу человека праздного, живущего в свое удовольствие, ибо им самим иногда выгодно прослыть людьми беспечными и ленивыми, чтобы таким путем скрыть свое выжидательное положение; они приближают к себе то фантазера, то человека сведущего, то мечтателя, то педанта, но только как часть своего настоящего «я» и – не более! И атмосфера, окружающая их, становится мертвой, неподвижной, хотя в то же время кажется, что всё ищет их близости и стремится стать «характерным выразителем» их; в этом отношении они напоминают нам большие города. Слава их, как и их характер, постоянно находится в движении, и достигают они этого постоянной переменой средств, выдвигая на сцену то одно, то другое из действительных или вымышленных своих свойств: для этого, как сказано, они пользуются своими друзьями и союзниками. Сами же они стремятся занять прочное положение и имеют вид медных, блестящих статуй, ради чего и разыгрывают свою комедию.
Торговец и знатный. – Продажа и покупка являются в настоящее время такими же распространенными операциями, как искусство читать и писать: теперь в них приходится принимать участие и тем, кто совсем не принадлежит к торговому классу, и ежедневно упражняться в их технике: так в глубокой древности, когда человек был еще диким, каждый непременно был охотником и изо дня в день упражнялся в технике этого дела. Тогда охота была занятием всеобщим, но теперь, наконец, она сделалась привилегией людей могущественных и знатных и потеряла характер повседневности и всеобщности, – а с тех пор, как в ней перестали чувствовать необходимость, она является предметом прихоти и роскоши. Та же самая судьба, быть может, когда-нибудь постигнет и процессы купли-продажи. Можно представить себе такое состояние общества, где нет места этим процессам и где совершенно утеряна необходимость упражняться в их технике ежедневно: и весьма возможно, что отдельные единицы, которые нелегко поддаются законам общего состояния, будут позволять себе в виде роскоши заниматься куплей-продажей. И тогда торговля станет признаком знатности, и благородные классы, быть может, с таким же рвением будут заниматься торговлей, с каким до сих пор они занимались войной и политикой; возможно, что к тому времени и политика получит совершенно обратную оценку. Ею уже и теперь занимаются не одни привилегированные классы, и со временем, пожалуй, она сделается таким обыденным занятием, что, подобно всей партийной и ежедневной прессе, будет помещаться под рубрикой «Проституция духа».
Неприятные ученики. – «Что делать мне с двумя этими учениками» – восклицал с негодованием философ, который так же портил юношество, как портил его когда-то Сократ, – это для меня неприятные ученики. Один никому не может ответить отрицанием, а другой – всякому говорит и так и сяк. Если даже предположить, что они воспримут мое учение, то первому пришлось бы много выстрадать, ибо мой образ мысли требует воинственной души, злой воли, страсти к отрицанию, толстой кожи, – он страдал бы тогда и от наружных, и от внутренних ран. Второй из каждой вещи, которую он берется защищать, делает посредственность, что отражается и на затронутом им вопросе, – такого ученика я желаю только своему врагу».
По выходе из аудитории. – «Чтобы доказать вам, что человек в сущности принадлежит к добрым животным, я напомню о том, как долго он остается легкомысленным. И только теперь, когда уже слишком поздно и после страшного насилия над собой, он сделался недоверчивым животным; – да! человек теперь – злее, чем прежде». – Я не понимаю, почему бы человеку быть теперь злее и недоверчивее? – «Да потому, что у него есть теперь наука, – потому что он в ней теперь нуждается!»
Historia abscondita. – Всякий великий человек имеет и обратную силу: снова взбудораживается вся история, и тысячи тайн прошлого выползают из своих ущелий к нему, на солнце. И отнюдь не следует с пренебрежением относиться к той мысли, что всё когда-нибудь снова будет еще раз уделом истории. И прошлое теперь все еще, быть может, в своих существенных чертах, остается неоткрытым! Да! потребуется еще много людей, обладающих обратною силой!
Ересь и чародейство. – Не признаки высшего интеллекта, а действие сильных и злых наклонностей, – изолирующих, упрямых, злорадных, злобных наклонностей проявляет всякий, кто не хочет держаться общепринятого образа мыслей. Ересь является двойником чародейства: в ней так же мало добродушия, и она так же мало заслуживает почтения. Еретик и колдун представляют собою два рода злых людей: общее у них то, что оба они чувствуют себя людьми злыми и оба ощущают в себе непреодолимое желание становиться поперек дороги всему, что обладает властью (над людьми и людскими мнениями). И тех, и других в громадном количестве выдвинула Реформация, которая является своего рода усилением средневекового духа в ту пору, когда он уже потерял всю свою добрую совесть.
Последние слова. – Вспомним, что император Август, этот страшный человек, который обладал таким же самообладанием и таким же умением молчать, как какой-нибудь мудрый Сократ, выказал, в последних своих словах нескромность по отношению к себе: он позволил в первый раз упасть маске с своего лица в тот самый миг, когда дал понять другим, что он носил маску и разыгрывал комедию, – и он действительно так искусно исполнял на троне роль отца отечества и мудрого человека, что доводил зрителей до настоящей иллюзии! Plaudite, amici, comoedia finita estl — Мысль умирающего Нерона: qualis artifex pereol была в то же время и мыслью умирающего Августа: клоунская суета! клоунская болтливость! Какой контраст с умирающим Сократом! – Но Тиберий, этот самый ужасный мучитель из всех людей, предававших себя мучениям, умер молча, – он был человеком искренним, он не был актером! Что могло прийти ему в голову в последнюю минуту? Быть может, следующее: «Жизнь представляет из себя продолжительную смерть. И я, безумец, укоротил эту жизнь у стольких людей! Разве для благодеяний я создан был? – Я должен был бы дать им вечную жизнь: тогда я мог бы видеть их вечно умирающими. Для этого у меня были достаточно хорошие глаза: qualis spectatorpereol» Когда после продолжительной предсмертной агонии к нему снова возвратились силы, окружающие нашли для себя полезным придушить его подушками, – и так он умер двойною смертью.
Три ошибки. – За последние столетия наука двигалась вперед или потому, что люди надеялись при помощи ее лучше понять мудрость и благость Божию, – главный мотив, руководивший в исследованиях великими англичанами (как Ньютон), – или потому, что верили в абсолютную полезность знания, а именно в самую интимную связь между моралью, наукой и счастьем, – что являлось главным мотивом для великих французов (как Вольтер), – или потому, что в науке думали получить нечто, полное самоотречения, благодушия, самодовлеющее и действительно безгрешное и совершенно чуждое дурным стремлениям человека, – это был главный мотив в душе Спинозы, который чувствовал в своем познании что-то божественное. Так тремя заблуждениями обусловливалось движение науки вперед.
Взрывчатый материал. – Если принять во внимание, что силы молодых людей постоянно стремятся проявить себя каким-нибудь бурным образом, то неудивительно, что молодежь так грубо и так неразборчиво бросается на тот или на другой предмет. Ее привлекает к вещи лишь вид той жадности, с которой люди бросаются на нее, как образ пылающего фитиля, – но не самая вещь. Наиболее искусные из обольстителей поэтому понимают, что на вид необходимо выставлять взрыв – бурное проявление, а не обращаться к каким-либо доказательствам: при помощи одних основ с этими пороховыми бочками ничего не поделаешь.
Перемена вкуса. – Перемена общего вкуса имеет больше значения, чем перемены в области мнений; мнения, вместе со всеми доказательствами, противоречиями и со всем их интеллектуальным маскарадом являются только симптомами перемен в области вкуса и никогда не бывают причинами таких перемен, каковая роль им часто приписывается. Как же изменяется общий вкус? Процесс состоит в следующем: отдельные могучие и влиятельные личности без всякого стеснения высказывают hoc est ridiculum, hoc est absurdum; таким образом они решают, что им нравится и что внушает отвращение, и тиранически настаивают на своем решении. Таким путем они накладывают на многих людей известное принуждение, из которого постепенно образуется привычка для еще большего числа людей и, наконец, потребность для всех. То же обстоятельство, что эти единицы иначе чувствуют, имеют иной вкус, объясняется обыкновенно особенностями их образа жизни, пищи, пищеварения, быть может, большим или меньшим количеством неорганических солей – в крови и мозге, короче говоря, их физическими особенностями. Единицы эти имеют только мужество открыто исповедовать свою физику и прислушиваться к самым тончайшим ее требованиям: вот такими-то тончайшими тонами физики являются эстетические и моральные суждения этих индивидов.
