Страница:

Все наши кони были развьючены, лекарства валялись на земле, Хью был в отвратительном настроении.
– Никак не мог найти чертов ящик, пришлось все вьюки разобрать. Я и не подозревал, что мы тащим с собой столько барахла! В самом последнем вьюке обнаружил! Может, надо было вспрыснуть ему морфий? – продолжал он неуверенно.
Хью не очень-то разбирался в медицине, о чем ярко свидетельствовал поразительный набор лекарств, путешествовавший с нами.
– А что ты сделал?
– Промыл ссадины, положил холодные компрессы.
– Ты еще не сказал, что с ним.
– Я ходил, осматривал его, – Хью немного успокоился. – Абдул Рахим проводил меня. Он лежал в каменной лачуге, укрытый кучей одеял. Темно, ничего не разобрать, кругом полно людей. Ему лет шестнадцать, только-только усы пробились. Лица не видно: все мухами усеяно. Нос и губы распухли, стали как у негра. Женщины обрили ему голову и обмотали тряпками; все в крови. Он метался, стонал.
– Хорошо, что ты не вспрыснул ему морфия. Наверное, у него сотрясение мозга. Морфий прикончил бы его.
– Нет, я не вспрыснул. Глаза склеились от крови. Мы умыли его – лицо, голову. Наконец он приоткрыл один глаз и рот. Сильно стонал. Тут все стали его трясти. «Мани, Мани, слышишь нас?» Он не мог отвечать. Послушай, что было дальше! Абдул Рахим отвернул одеяла, чтобы мы могли осмотреть другие раны. И что же я вижу! У парня тело как у козла! Густая черная козлиная шерсть! До самых подмышек! «В чем дело?» – спрашиваю Абдула Рахима. «У нас, – говорит, – как кто заболеет, всегда натягиваем на него козлиную шкуру. Тепло гонит в нее яд из тела».
Удивительно! Не пережиток ли это культа Пана? Может быть, косматый бог, изгнанный с равнин мечом Ислама, еще сохранил влияние среди горцев-кочевников?
Мы настолько устали, что когда пришли в Кауджан, то даже не хотели есть. Между тем Абдул Гхияз и его люди зарезали купленного ягненка и полтора часа варили в большом железном котле с солью, перцем, курдючным салом. Получился сплошной перец; впрочем, и он не мог перебить запаха сала, который казался нам невыносимым после такого дня: с половины пятого на ногах, сначала подъем на высоту пять тысяч метров, потом спуск до двух тысяч семисот. Желая доставить мне удовольствие (я скромно утаил, какие эмоции вызывает во мне курдюк), Абдул Гхияз порылся в общей миске, собрал самые жирные куски и подал мне. У меня не хватило сердца отвергать угощение, и я жевал сало, изображая крайний восторг. Но едва мои товарищи отвернулись, как я мгновенно сунул куски за пазуху, чтобы при случае избавиться от них.
Весь следующий день прошел в безделье, если не считать ремонта надувных матрацев и поглощения таблеток от поноса.
Я обнаружил в наших ящиках множество пузырьков с таблетками для дезинфицирования воды и торжественно поклялся, что отныне не выпью ни капли влаги, не обработав ее. Надо сказать, что это довольно нудное занятие, и в дальнейшем я представлял собой еще более странное зрелище, чем до сих пор, так как непрерывно размахивал бутылками с водой, которая никак не хотела растворять таблетки – твердые, как дробь, и значительно менее приятные на вкус, чем она. Правда, у нас были еще таблетки, якобы уничтожающие скверный привкус, но они почему-то не всегда помогали, и мне приходилось пить отныне какой-то хирургический раствор.
Лишь под вечер третьего дня мы нашли в себе силы продолжать путешествие.
Чтобы добраться до южной стороны Мир Самира, надо было обогнуть несколько отрогов. Вверх по Чамарской долине с нами шел таджик, который в результате какой-то удивительной мутации был наделен светлыми усами и розовыми глазами. Оказалось, что этот альбинос – тханадар (сторож) Навакского перевала. В его обязанности входило охранять путников от грабителей, и он добровольно покинул свой пост, чтобы сопровождать нас.
Чамарская долина – сравнительно широкая и намного более живописная, чем Дарра Самир. Трава радовала глаз обилием оттенков зелени, всюду цвели огромные мальвы. На склонах стояли кибитки кочевников, паслись овцы.
Около семи часов мы сделали короткий привал в деревушке Дал Лиази, горстке каменных лачуг. Отсюда хорошо была видна дорога на Навакский перевал и гору Урсакао, коричневую, с тонкими языками снега.
Чем выше, тем суровее становился пейзаж, реже попадались кибитки. С окружающих скал нас дружно освистывали сурки. Кони поминутно останавливались, привлеченные горькой полынью, которую они поедали в огромном количестве.
На шестом часу ходьбы мы увидели устье большой, накрытой облаками долины, простирающейся на запад.
– Восточный ледник, – сказал Хью. – Теперь нам осталось немного. Жаль, что пасмурно.
В этот миг облака стали рассеиваться, и вот уже нашим взорам предстала большая часть северного склона Мир Самира, включая Китайскую стену, а также и снежный конус вершины. К ней по гребню отрога вел как будто вполне проходимый путь. Мы повеселели.
– Только бы подняться на гребень, а там уж дойдем! Скользящие вверх по склонам рваные облака напоминали дым; казалось, Мир Самир горит. Подул леденящий ветер и донес глухой рокот падающих камней. Не долина, а поле битвы, с которого валькирии унесли всех убитых. Несмотря на жару, нас пробрала дрожь.
– Если южный склон неприступен, – сказал Хью, – можем попытаться отсюда.
Пока что мы пошли дальше по своему маршруту. Впереди с крутой осыпи срывался водопад. Мы поднялись рядом с ним, обогнули восточный отрог Мир Самира и очутились в верхней части Чамарской долины.
До чего же мал человек! Справа открывался вид на южный фасад Мир Самира: восточный отрог, словно каменная стена, усыпанная сверху битым стеклом; снеговая вершина; ледник, который летняя жара заставила отступить к самой горе; морены – каменистые пустыни; верхний луг, прорезанный широкой речкой, вбирающей в себя множество ручейков. Южный гребень – плечо Мир Самира – круто вздымался до высоты пяти тысяч метров, потом так же круто спускался, переходя в отрог, который тянулся на восток, замыкая верховье долины. За гребнем лежал юго-западный ледник, где мы бродили впустую несколько дней назад.
– По ту сторону, – Хью, повернувшись, указал на отвесную стену, – лежит Нуристан.
Последние кибитки остались на лугу перед водопадом, а здесь стояла лишь убогая каменная лачуга, крытая дерном. Она принадлежала вождю таджикской деревни Шахр-и-Буланд, которую мы миновали по пути. В лачуге жил пастух, сын вождя. Когда мы, еле волоча ноги, ступили на огражденную камнями площадку перед летовкой, он вышел навстречу и подал нам миску кислого молока.
Полдень… Ослепительное солнце… Спасаясь от него, мы нырнули в расселины и будто очутились в ящиках каменного секретера.
До самого вечера мы отдыхали, перебираясь из расселины в расселину по мере того, как нас настигало солнце. Хью читал «Собаку Баскервилей», я зубрил грамматику кафирского языка, единственную серьезную книгу в экспедиции, если не считать справочника по альпинизму. (Наша библиотека редела с угрожающей быстротой, так как нашла себе, увы, совсем иное применение.)
«Ноутс он зе Башгали (Кафир) Лэнгвидж» – так назывался труд, составленный в 1901 году полковником Девидсоном с помощью двух кафиров из племени башгали. Помимо теоретической части, книга содержала ряд упражнений. Я тщательно прятал ее от Хью: он весьма пренебрежительно отзывался о моих попытках научиться персидскому языку. Впрочем, это и в самом деле было не так-то просто, если учесть мой возраст – тридцать шесть лет – и то обстоятельство, что у таджиков, с которыми меня свела судьба, было свое собственное представление о том, как следует произносить те или иные слова.
Приобретая грамматику, я собирался втайне заучить побольше кафирских фраз и поразить Хью, когда мы встретимся с народом. Но у нас было столько других дел, что до сего дня книга пребывала на дне одного из бесчисленных тюков. Только сейчас я обнаружил ее в рисе, который купил на рынке в Кабуле.
Прочитав одну тысячу семьсот сорок четыре сентенции и их перевод на английский язык, я получил несколько неожиданное представление о повседневной жизни кафиров-башгали.
– Штал латта вос ба падре у претт ту наштони мрлош... Знаешь, что это такое?..
(Теперь все равно было поздно потрясать Хью своим умением вести непринужденную беседу с местным населением.)
– Что?
– На языке башгали это значит: «Если у тебя давно понос, ты непременно умрешь».
– От этого изречения нам мало толку. – Его гораздо больше занимал Конан-Дойл.
– А вот еще, послушай. Билугх ао на пи: н'па билош. Это значит: «Не пейте много воды, иначе вы не сможете долго путешествовать».
– Не мешай.
Но я продолжал читать вслух, пока Хью, который никак не мог сосредоточиться, не перешел в другую расселину.
Иные дебюты, которыми кафиры-башгали начинали свои беседы, буквально потрясли меня. «Ини аш птул п'мич е манчи мришт вариа'м» – «Я увидел утром труп в поле». «Ту чи се бисс гур бити?» – «Давно у тебя зоб?» Или вот: «Иа джук ной базисна прелом» – «Моя дочь – невеста».
Даже самые обиходные фразы и замечания ошарашивали непривычного человека как обухом по голове. «Ту тотт багло пилтиа» – «Твой отец упал в реку». «И.нон ангур аи; ту та, дутс ангур аи» – «У меня девять пальцев, у тебя – десять»; «Ор манчи айо; бури аиш кутт» – «Пришел карлик, просит еды». На заявление «Иа читт битто ту ярлом» («Я собираюсь убить тебя») следовало отвечать: «Ту билугх ле бидива манчи ассиш („У тебя очень доброе сердце“).
Ветер в этой стране явно отличался небывалой силой. «Дум аллангити атсити и сунди басна бра» – «Налетел порыв ветра и сорвал с меня всю одежду». Природа была суровой и жестокой: «Зхи маре бадист та во айо каккок дамити гва» – «С неба упал стервятник и унес моего ягненка». Видимо, подобные злоключения сделали местных жителей раздражительными: «Ту билук вари валал манчи ассиш» – «Ты человек, который говорит вздор». «Ту каи дуга иа ушпе па вич? Ту па вилом!» – «За что ты пинаешь ногой мою лошадь? Вот я тебя пну!» «Ту иа каи дуга урен вич? Ту иа орен вишиба о ту ярлом» – «Чего ты пихаешься? Если будешь пихаться, я тебя прикончу».
Похоже было, что этих людей не расположишь к себе невинной светской болтовней. «То'ст казхир круи п'пти та чук зхи протс ашт?» – «Сколько черных пятен на спине твоей белой собаки?» – На сей вежливый вопрос следовал весьма сдержанный ответ: «Иа круи бробар адр ранг азза: штринг на асс» – «Она желтая с ног до головы, и у нее нет никаких пятен».
Но, пожалуй, наибольшее удовольствие доставило мне приложение с ссылками на другие книги, в которых говорится о кафирском языке. Так, отрывок из книги Терентьева (М. А. Терентьев. Россия и Англия в Азии. 1875 год, Калькутта, Английский перевод) воспроизводил «Отче наш» на языке болор (диалекте кафиров сях-пош).
«Это не похоже ни на какие образцы диалектов ваигул или башгали, встреченные мною в других книгах, – озабоченно комментировал полковник Девидсон. – Диакритические знаки полностью отсутствуют».
Впрочем, несколько дальше, в приложении к приложению, лаконично сообщалось, что, после того как было написано вышеозначенное, известный ученый Гриерсон послал экземпляр перевода профессору Кюну в Мюнхене и тот ответил, что это неточная запись молитвы на языке южноафриканских кафров.
Второй раунд
Утром мы поднялись пораньше, чтобы к пяти часам выйти на восточный отрог. Абдул Гхияз напоил нас зеленым чаем, крепким и невкусным.
Мы с Хью были исполнены решимости подняться на гребень отрога, а если удастся, – и на вершину. Теперь эта решимость кажется мне довольно непонятной. Погонщики провожали нас печальными взорами; Абдул Гхияз спросил, как поступить, если мы не вернемся. (Мы чуть не предложили ему возглавить спасательный отряд, но тут же сообразили, что это было бы бестактностью.) Что ему посоветовать? Идти домой? Нас одолевали зловещие предчувствия.
После нескончаемого подъема сквозь хаотические нагромождения черных глыб мы достигли, наконец, морены у подножья ледника. Нескольких минут оказалось достаточно, чтобы убедиться, что идти по неустойчивым черным глыбам все-таки приятнее; и вот мы уже опять прыгаем по качающимся камням. Местами попадались снежные поля, но небольшие, и мы не стали привязывать кошки. Впрочем, снег оказался достаточно твердым. Упав разок-другой и испытав на себе его твердость, мы связались веревкой.
Высота больше пяти тысяч метров. Мы идем по узкому балкону. Над головой вздымается на триста метров отвесная стена – там, наверху, гребень. Вниз на сто пятьдесят метров спадает крутой склон до верхней кромки ледника. Восхитительное место! Под скальным навесом оказался клочок земли, на котором приютились исполинские примулы. А за цветами, в тени, куда не проникало солнце, выстроились ледяные и снежные колонны.
Но вот мы снова под палящими лучами солнца, пересекаем снежник размером с футбольное поле. Ветры и смена температуры спрессовали снег столбиками высотой чуть больше метра. Мы пробивались сквозь этот частокол, обливаясь потом и проклиная все на свете.
Опять балкон. Несколько сложнее первого. Здесь, судя по кучкам помета, обитают туры. За балконом – стенка, по которой бежали струйки талой воды. Правда, стенка казалась не особенно грозной, однако на ней почти не было опор для рук. Немногочисленные выступы были либо завалены вниз, либо заполнены каменной крошкой и слюдой, которую надо было осторожно выгребать, чтобы не порезать пальцы.
В жизни не видал подобной горы. Ничего похожего мы не встречали и в Уэллсе. Такому профану в геологической терминологии, как я, порода представлялась молотым гранитом. Таяние усиливалось, и сверху на ледник все чаще катились здоровенные глыбины.
Мы старались подбадривать друг друга шутками.
– Уж эти афганцы… Не могли сложить горы покрепче, – заметил Хью, когда огромный камень, просвистев над нами, ухнул на ледник с грохотом, который полностью оправдал наши ожидания.
В одиннадцать часов мы достигли устья кулуара и стали взбираться по нему, поминутно заглядывая в справочник.
Впрочем, без помощи справочника, руководствуясь одним лишь здравым смыслом, мы разработали метод подъема с веревкой, который позволял нам двигаться значительно быстрее, чем до сих пор. Раньше Хью, если он шел впереди, ждал, пока я поднимусь туда, где он закрепился; затем я страховался сам, а он повторял мучительную процедуру подъема. Теперь я не останавливался, догнав его, а продолжал идти на полную длину веревки. Движение заметно ускорилось. Тот факт, что этот прием известен каждому альпинисту, лишний раз говорит о степени нашего невежества.
Таким способом мы сравнительно быстро одолели неприятный кулуар, загроможденный вверху глыбами, которые поминутно грозили сорваться нам на голову. В половине двенадцатого мы ступили на снег, покрывающий гребень восточного отрога. Это был великий миг. Мы вышли на гребень слишком рано, и дальнейшее продвижение по нему было невозможно из-за высоченного «жандарма», который казался нам крайне ненадежным. А вершина – вот она, рукой подать! Постучав кулаком по высотомеру, мы добились того, что он показал пять тысяч четыреста.
– Приблизительно точно, – сказал Хью. – Здорово, верно?
– Я рад, что пошел с тобой.
– Нет, правда? – В голосе Хью звучала неподдельная радость.
– Я не променял бы этот миг ни на что на свете. – Я говорил совершенно искренне.
В шестистах метрах под нами простирался ледник – исполинская сковородка, шипящая на солнце. Вид на восток был закрыт изгибом отрога, зато на юг до самого горизонта выстроились вершины.
В голове Хью родились дерзкие планы.
– Вообще-то жаль, что мы не пошли вон там, – он указал на неприступную стенку над ледником. – Но, может быть, так даже к лучшему. Теперь нам надо забросить на два дня продуктов на третий уступ и устроить там лагерь, на высоте около пяти тысяч. Оттуда поднимемся на гребень выше этого «жандарма». Если дальше нет никаких неодолимых препятствий, можно взять вершину за день.
Высота действовала и на меня, я невольно заразился энтузиазмом Хью. Конечно же, возьмем вершину!
– Из долины мы шли до гребня шесть с половиной часов, от турьего уступа – только полтора. Вряд ли понадобится много больше, чтобы выйти за «жандарм». Нужно только идти по другому кулуару. От «жандарма» до вершины максимум три часа, пусть даже пять с половиной – итого семь часов от уступа. Если начнем в четыре утра, то в одиннадцать будем на вершине. Вряд ли на спуск потребуется больше времени. Значит, вернемся в лагерь засветло.
– Да, на этот раз мы дойдем, – подтвердил я. Наш вздорный план вскружил нам головы.
Глотнув кофе и поев мятных пряников, которые казались нам вкуснее всего, что мы когда-либо едали, мы начали спуск. Но спускаться оказалось куда тяжелее, чем подниматься, и я искренне сожалел, что наше скоротечное обучение сводилось только к подъемам, после которых мы шли вниз наиболее легким путем.
Через два часа мы достигли снежного частокола, а еще через четыре часа пришли, усталые и злые, в лагерь, где застали врасплох Абдула Гхияза: он, лежа на спине, изучал гребень в бинокль и развлекал Шира Мухаммеда и Бадара Хана живым репортажем о нашем восхождении. Все трое очень обрадовались нашему появлению.
Мы свалились в ожидании чая. Хью показал мне свои руки.
– Гляди, – прохрипел он через силу.
Какие-то красные, кровоточащие обрубки, будто куски мяса в витрине.
Мир Самир сложен породами, которые подверглись очень сильному выветриванию; поверхность скалы легко крошится, рассыпаясь на острые зубчатые пластинки. Я в этот день поднимался в замшевых перчатках и начисто стер их; Хью шел 6eз перчаток. Я принялся бинтовать его. Очень скоро он стал похож на боксера.
– Ты подумал, черт подери, как я полезу завтра в таких бинтах? – мрачно произнес он.
– Завтра тебе будет лучше.
– Черта с два.
– Ладно, я приготовлю обед, – сказал я, чувствуя себя героем.
Каждый вечер мы поочередно готовили какой-нибудь несложный деликатес (если не ограничивались ирландским гуляшем). Сегодня была очередь Хью. Я вызвался сделать сырники.
Восхищенные погонщики столпились вокруг, чтобы посмотреть, как я буду готовить неведомое блюдо. Я открыл банки с творогом, достал прочие составные части и разжег примус. В тот самый миг, когда творог на сковородке начал густеть, достигая нужной консистенции, примус потух. Он и до того непрерывно фыркал, но теперь керосин иссяк окончательно. Абдул Гхияз сорвался с места, притащил бидон и стал наполнять примус. Вдруг я обнаружил, что он наливает воду. Бадар Хан (единственный случай за всю экспедицию, когда он взялся сделать что-то, не предусмотренное контрактом!) принес другой бидон – с денатуратом. Не спохватись я вовремя, мы все взлетели бы на воздух. Лакомое блюдо грозило погибнуть. Я встал, чтобы пойти за керосином, зацепил брюками сковороду, и содержимое размазалось по окружающим камням.
 В этот момент пришел с речки Хью – чистый, умытый, причесанный, в новой рубашке и красивом свитере.
В этот момент пришел с речки Хью – чистый, умытый, причесанный, в новой рубашке и красивом свитере.
– Готово? – любезно осведомился он.
– Нет, черт дери.
– Что так долго?
Что он в самом деле! Не видит, как мы соскребаем обед с камней?
– Тебе придется долго ждать. На твоем месте я бы прилег.
Мы оба совершенно выдохлись. Подъем на гребень потребовал огромных усилий; более опытные восходители прошли бы тот же путь с гораздо меньшими затратами.
Солнце скрылось за Мир Самиром в ярком закатном зареве, и ветер сразу завыл громче. Мы сидели, съежившись, вокруг костра, жевали испеченную Абдулом Гхиязом лепешку и толковали о паломничествах в Мекку и подобных похождениях Настроение поднималось. Пусть сырники не получились, зато мы заправились швейцарским гороховым супом-концентратом, консервированным яблочным пудингом и полукилограммом клубничного варенья, которое лопали ложкой прямо из банки.
Мы с Хью были исполнены решимости подняться на гребень отрога, а если удастся, – и на вершину. Теперь эта решимость кажется мне довольно непонятной. Погонщики провожали нас печальными взорами; Абдул Гхияз спросил, как поступить, если мы не вернемся. (Мы чуть не предложили ему возглавить спасательный отряд, но тут же сообразили, что это было бы бестактностью.) Что ему посоветовать? Идти домой? Нас одолевали зловещие предчувствия.
После нескончаемого подъема сквозь хаотические нагромождения черных глыб мы достигли, наконец, морены у подножья ледника. Нескольких минут оказалось достаточно, чтобы убедиться, что идти по неустойчивым черным глыбам все-таки приятнее; и вот мы уже опять прыгаем по качающимся камням. Местами попадались снежные поля, но небольшие, и мы не стали привязывать кошки. Впрочем, снег оказался достаточно твердым. Упав разок-другой и испытав на себе его твердость, мы связались веревкой.
Высота больше пяти тысяч метров. Мы идем по узкому балкону. Над головой вздымается на триста метров отвесная стена – там, наверху, гребень. Вниз на сто пятьдесят метров спадает крутой склон до верхней кромки ледника. Восхитительное место! Под скальным навесом оказался клочок земли, на котором приютились исполинские примулы. А за цветами, в тени, куда не проникало солнце, выстроились ледяные и снежные колонны.
Но вот мы снова под палящими лучами солнца, пересекаем снежник размером с футбольное поле. Ветры и смена температуры спрессовали снег столбиками высотой чуть больше метра. Мы пробивались сквозь этот частокол, обливаясь потом и проклиная все на свете.
Опять балкон. Несколько сложнее первого. Здесь, судя по кучкам помета, обитают туры. За балконом – стенка, по которой бежали струйки талой воды. Правда, стенка казалась не особенно грозной, однако на ней почти не было опор для рук. Немногочисленные выступы были либо завалены вниз, либо заполнены каменной крошкой и слюдой, которую надо было осторожно выгребать, чтобы не порезать пальцы.
В жизни не видал подобной горы. Ничего похожего мы не встречали и в Уэллсе. Такому профану в геологической терминологии, как я, порода представлялась молотым гранитом. Таяние усиливалось, и сверху на ледник все чаще катились здоровенные глыбины.
Мы старались подбадривать друг друга шутками.
– Уж эти афганцы… Не могли сложить горы покрепче, – заметил Хью, когда огромный камень, просвистев над нами, ухнул на ледник с грохотом, который полностью оправдал наши ожидания.
В одиннадцать часов мы достигли устья кулуара и стали взбираться по нему, поминутно заглядывая в справочник.
Впрочем, без помощи справочника, руководствуясь одним лишь здравым смыслом, мы разработали метод подъема с веревкой, который позволял нам двигаться значительно быстрее, чем до сих пор. Раньше Хью, если он шел впереди, ждал, пока я поднимусь туда, где он закрепился; затем я страховался сам, а он повторял мучительную процедуру подъема. Теперь я не останавливался, догнав его, а продолжал идти на полную длину веревки. Движение заметно ускорилось. Тот факт, что этот прием известен каждому альпинисту, лишний раз говорит о степени нашего невежества.
Таким способом мы сравнительно быстро одолели неприятный кулуар, загроможденный вверху глыбами, которые поминутно грозили сорваться нам на голову. В половине двенадцатого мы ступили на снег, покрывающий гребень восточного отрога. Это был великий миг. Мы вышли на гребень слишком рано, и дальнейшее продвижение по нему было невозможно из-за высоченного «жандарма», который казался нам крайне ненадежным. А вершина – вот она, рукой подать! Постучав кулаком по высотомеру, мы добились того, что он показал пять тысяч четыреста.
– Приблизительно точно, – сказал Хью. – Здорово, верно?
– Я рад, что пошел с тобой.
– Нет, правда? – В голосе Хью звучала неподдельная радость.
– Я не променял бы этот миг ни на что на свете. – Я говорил совершенно искренне.
В шестистах метрах под нами простирался ледник – исполинская сковородка, шипящая на солнце. Вид на восток был закрыт изгибом отрога, зато на юг до самого горизонта выстроились вершины.
В голове Хью родились дерзкие планы.
– Вообще-то жаль, что мы не пошли вон там, – он указал на неприступную стенку над ледником. – Но, может быть, так даже к лучшему. Теперь нам надо забросить на два дня продуктов на третий уступ и устроить там лагерь, на высоте около пяти тысяч. Оттуда поднимемся на гребень выше этого «жандарма». Если дальше нет никаких неодолимых препятствий, можно взять вершину за день.
Высота действовала и на меня, я невольно заразился энтузиазмом Хью. Конечно же, возьмем вершину!
– Из долины мы шли до гребня шесть с половиной часов, от турьего уступа – только полтора. Вряд ли понадобится много больше, чтобы выйти за «жандарм». Нужно только идти по другому кулуару. От «жандарма» до вершины максимум три часа, пусть даже пять с половиной – итого семь часов от уступа. Если начнем в четыре утра, то в одиннадцать будем на вершине. Вряд ли на спуск потребуется больше времени. Значит, вернемся в лагерь засветло.
– Да, на этот раз мы дойдем, – подтвердил я. Наш вздорный план вскружил нам головы.
Глотнув кофе и поев мятных пряников, которые казались нам вкуснее всего, что мы когда-либо едали, мы начали спуск. Но спускаться оказалось куда тяжелее, чем подниматься, и я искренне сожалел, что наше скоротечное обучение сводилось только к подъемам, после которых мы шли вниз наиболее легким путем.
Через два часа мы достигли снежного частокола, а еще через четыре часа пришли, усталые и злые, в лагерь, где застали врасплох Абдула Гхияза: он, лежа на спине, изучал гребень в бинокль и развлекал Шира Мухаммеда и Бадара Хана живым репортажем о нашем восхождении. Все трое очень обрадовались нашему появлению.
Мы свалились в ожидании чая. Хью показал мне свои руки.
– Гляди, – прохрипел он через силу.
Какие-то красные, кровоточащие обрубки, будто куски мяса в витрине.
Мир Самир сложен породами, которые подверглись очень сильному выветриванию; поверхность скалы легко крошится, рассыпаясь на острые зубчатые пластинки. Я в этот день поднимался в замшевых перчатках и начисто стер их; Хью шел 6eз перчаток. Я принялся бинтовать его. Очень скоро он стал похож на боксера.
– Ты подумал, черт подери, как я полезу завтра в таких бинтах? – мрачно произнес он.
– Завтра тебе будет лучше.
– Черта с два.
– Ладно, я приготовлю обед, – сказал я, чувствуя себя героем.
Каждый вечер мы поочередно готовили какой-нибудь несложный деликатес (если не ограничивались ирландским гуляшем). Сегодня была очередь Хью. Я вызвался сделать сырники.
Восхищенные погонщики столпились вокруг, чтобы посмотреть, как я буду готовить неведомое блюдо. Я открыл банки с творогом, достал прочие составные части и разжег примус. В тот самый миг, когда творог на сковородке начал густеть, достигая нужной консистенции, примус потух. Он и до того непрерывно фыркал, но теперь керосин иссяк окончательно. Абдул Гхияз сорвался с места, притащил бидон и стал наполнять примус. Вдруг я обнаружил, что он наливает воду. Бадар Хан (единственный случай за всю экспедицию, когда он взялся сделать что-то, не предусмотренное контрактом!) принес другой бидон – с денатуратом. Не спохватись я вовремя, мы все взлетели бы на воздух. Лакомое блюдо грозило погибнуть. Я встал, чтобы пойти за керосином, зацепил брюками сковороду, и содержимое размазалось по окружающим камням.

– Готово? – любезно осведомился он.
– Нет, черт дери.
– Что так долго?
Что он в самом деле! Не видит, как мы соскребаем обед с камней?
– Тебе придется долго ждать. На твоем месте я бы прилег.
Мы оба совершенно выдохлись. Подъем на гребень потребовал огромных усилий; более опытные восходители прошли бы тот же путь с гораздо меньшими затратами.
Солнце скрылось за Мир Самиром в ярком закатном зареве, и ветер сразу завыл громче. Мы сидели, съежившись, вокруг костра, жевали испеченную Абдулом Гхиязом лепешку и толковали о паломничествах в Мекку и подобных похождениях Настроение поднималось. Пусть сырники не получились, зато мы заправились швейцарским гороховым супом-концентратом, консервированным яблочным пудингом и полукилограммом клубничного варенья, которое лопали ложкой прямо из банки.
Нокаут
Чтобы удостовериться, что к вершине нет легких маршрутов, которые престарелые нуристанцы облюбовали для воскресных прогулок, утром следующего дня я пошел разведать верховье долины. Тем временем Хью вместе с Абдулом Гхиязом и Широм Мухаммедом (последний – очень неохотно) побрели с громоздкими ношами к турьему уступу. Бадару Хану удалось, как всегда, получить самую пассивную роль: он остался присматривать за лошадьми, кои продолжали объедаться и, видимо, по этой причине проявляли небывалую резвость. Кроме того, на его попечении была овца, купленная нашими погонщиками в складчину (мы тоже участвовали) за двести афгани у самого знатного человека в айлаке. Огромная сумма, которая делала честь коммерческой сметке хозяина!
Чем выше, тем уже становился луг. Гора теснила его с обеих сторон; по склонам, вливаясь в реку, бежали тысячи ручейков. Вот и конец травы, у подножья высоких скал. Здесь пасся табун одичавших коней; заметив меня, они галопом ринулись по склону.
Могучий водопад срывался в ореоле рваных радуг с шестидесятиметровой высоты по узкому каменному желобу в глубокое озерко. Над самым озерком поток, будто с трамплина, прыгал с черного уступа, и можно было стоять под струей, в леденящей тени среди блестящих сосулек, слушая оглушительный рев воды и глядя сквозь нее, как через текущее стекло, переливающееся и искрящееся на солнце.
Между камнями и в воде росли цветы: на сыром лугу – примулы, где посуше – маленькие цветочки с желтыми лепестками и зеленой серединкой, в расселинах – колючие растения, косматые, как эдельвейс, напоминающие видом кроличье ухо.
Выше водопада травы не было, зато обильно цвели примулы по берегам прозрачного ярко-зеленого озерка, питающего поток. Справа высился Мир Самир. Отсюда он напоминал льва, приготовившегося к прыжку. Вершина – голова зверя, длинные снежники – седая грива.
Кажется, от моей разведки толку мало. Вдоль всего отрога – отвесные стены; ребра, что разделяют три небольших ледника, круты и неприступны.
Один перед лицом величественной природы – какое это сильное, упоительное чувство! Но сейчас мной владело еще и ощущение нереальности, точно ландшафт представлял собой декорации к пьесе, которая должна вот-вот начаться. Что ж, скоро и в самом деле начнется спектакль! Только бы не получилось комедии…
Вернувшись в лагерь, я не застал Бадара Хана. Судя по звукам, которые доносились из лачуги, он был там.
Я наелся сгущенного молока с сахаром и снегом (в других условиях меня стошнило бы от такой смеси), забрал свой рюкзак и двинулся к турьему уступу.
Я переобулся и шел быстро; потребовалось два часа, чтобы дойти до цели. Здесь меня ждал Хью. Абдула Гхияза и Шира Мухаммеда не было.
– Наверное, вы разошлись у черного камня, – сказал Хью. – Мы поднимались четыре часа. Абдул Гхияз хотел возвращаться с полпути. Пришлось гнать его силой. Он явно пал духом.
– Это, должно быть, потому, что он видел, как я кувыркался тогда на леднике. От души сочувствую ему.
Я спросил, как вел себя Шир Мухаммед.
– Молодцом! Идет хоть бы что, только молчит. Дошел сюда, положил тюк, буркнул «до свиданья» и помчался обратно. Ему надо успеть приготовить овцу. У них сегодня Ид-и-Курбан – религиозный праздник.
– Пока эта овца разварится, пройдет не один час. Давай-ка и мы что-нибудь приготовим, пока не стемнело.
Было пять часов. На нас уже пала вечерняя тень, но небо над головой было цвета яркого кобальта. Зато на востоке, над Чамаром и гребнем, за которым начинался Нуристан, оно становилось медовым.
С севера-запада подул холодный, пронизывающий ветер. Он перевалил через гребень, скатился вниз по склону, погасил примус и загнал нас в спальные мешки. Мы продолжали готовить, не вылезая из них.
Вдруг гора начала разваливаться. Мороз еще не превратил влагу в лед, и под ударами ветра камни так и сыпались сверху. Я лежал у самой стенки на ложе из свежей каменной крошки. Ожидая, когда примус, заслоненный нашими телами, наконец-то сделает свое дело, я наблюдал, как в полутораста метрах над нами, на самом гребне, уныло покачивается глыба величиной с автобус.
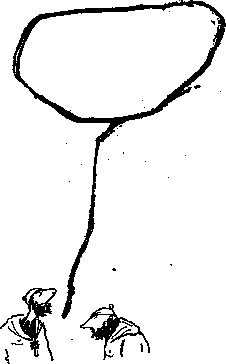 – Это полнейший идиотизм – выбрать для лагеря такое место, – ворчал я. – Погляди-ка, что над головой…
– Это полнейший идиотизм – выбрать для лагеря такое место, – ворчал я. – Погляди-ка, что над головой…
– Небось, уже не одну сотню лет так лежит. Думай лучше об ассигнованиях, которые ты получишь от Эверест Фаундейшн.
– Я отчетливо вижу, как он качается. Если сорвется, некому будет получать ассигнования.
Однако нас больше заботило не то, что могло упасть, а то, что падало. В пятнадцати метрах над нами природа соорудила выступ. Большие камни прыгали с него, как с трамплина, и летели на ледник, но навес не защищал от града осколков.
Мы обмотали головы тряпками, полагая, что это охранит нас, и заткнули уши, чтобы не слышать грохота. Затем пообедали. Обед был копией вчерашнего, и позавчерашнего, и так далее: гороховый суп, консервированный яблочный пудинг…
Стемнело. Ветер ослаб. Камни смерзлись, и бомбежка прекратилась. Лишь изредка срывалась какая-нибудь особенно тяжелая глыба. Царила полная тишина, если не считать неопределенного шороха, вроде того, который слышен в морской раковине.
Чем выше, тем уже становился луг. Гора теснила его с обеих сторон; по склонам, вливаясь в реку, бежали тысячи ручейков. Вот и конец травы, у подножья высоких скал. Здесь пасся табун одичавших коней; заметив меня, они галопом ринулись по склону.
Могучий водопад срывался в ореоле рваных радуг с шестидесятиметровой высоты по узкому каменному желобу в глубокое озерко. Над самым озерком поток, будто с трамплина, прыгал с черного уступа, и можно было стоять под струей, в леденящей тени среди блестящих сосулек, слушая оглушительный рев воды и глядя сквозь нее, как через текущее стекло, переливающееся и искрящееся на солнце.
Между камнями и в воде росли цветы: на сыром лугу – примулы, где посуше – маленькие цветочки с желтыми лепестками и зеленой серединкой, в расселинах – колючие растения, косматые, как эдельвейс, напоминающие видом кроличье ухо.
Выше водопада травы не было, зато обильно цвели примулы по берегам прозрачного ярко-зеленого озерка, питающего поток. Справа высился Мир Самир. Отсюда он напоминал льва, приготовившегося к прыжку. Вершина – голова зверя, длинные снежники – седая грива.
Кажется, от моей разведки толку мало. Вдоль всего отрога – отвесные стены; ребра, что разделяют три небольших ледника, круты и неприступны.
Один перед лицом величественной природы – какое это сильное, упоительное чувство! Но сейчас мной владело еще и ощущение нереальности, точно ландшафт представлял собой декорации к пьесе, которая должна вот-вот начаться. Что ж, скоро и в самом деле начнется спектакль! Только бы не получилось комедии…
Вернувшись в лагерь, я не застал Бадара Хана. Судя по звукам, которые доносились из лачуги, он был там.
Я наелся сгущенного молока с сахаром и снегом (в других условиях меня стошнило бы от такой смеси), забрал свой рюкзак и двинулся к турьему уступу.
Я переобулся и шел быстро; потребовалось два часа, чтобы дойти до цели. Здесь меня ждал Хью. Абдула Гхияза и Шира Мухаммеда не было.
– Наверное, вы разошлись у черного камня, – сказал Хью. – Мы поднимались четыре часа. Абдул Гхияз хотел возвращаться с полпути. Пришлось гнать его силой. Он явно пал духом.
– Это, должно быть, потому, что он видел, как я кувыркался тогда на леднике. От души сочувствую ему.
Я спросил, как вел себя Шир Мухаммед.
– Молодцом! Идет хоть бы что, только молчит. Дошел сюда, положил тюк, буркнул «до свиданья» и помчался обратно. Ему надо успеть приготовить овцу. У них сегодня Ид-и-Курбан – религиозный праздник.
– Пока эта овца разварится, пройдет не один час. Давай-ка и мы что-нибудь приготовим, пока не стемнело.
Было пять часов. На нас уже пала вечерняя тень, но небо над головой было цвета яркого кобальта. Зато на востоке, над Чамаром и гребнем, за которым начинался Нуристан, оно становилось медовым.
С севера-запада подул холодный, пронизывающий ветер. Он перевалил через гребень, скатился вниз по склону, погасил примус и загнал нас в спальные мешки. Мы продолжали готовить, не вылезая из них.
Вдруг гора начала разваливаться. Мороз еще не превратил влагу в лед, и под ударами ветра камни так и сыпались сверху. Я лежал у самой стенки на ложе из свежей каменной крошки. Ожидая, когда примус, заслоненный нашими телами, наконец-то сделает свое дело, я наблюдал, как в полутораста метрах над нами, на самом гребне, уныло покачивается глыба величиной с автобус.
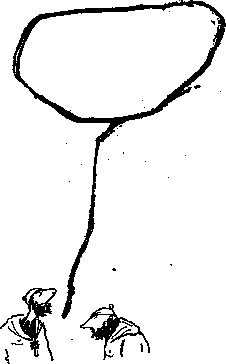
– Небось, уже не одну сотню лет так лежит. Думай лучше об ассигнованиях, которые ты получишь от Эверест Фаундейшн.
– Я отчетливо вижу, как он качается. Если сорвется, некому будет получать ассигнования.
Однако нас больше заботило не то, что могло упасть, а то, что падало. В пятнадцати метрах над нами природа соорудила выступ. Большие камни прыгали с него, как с трамплина, и летели на ледник, но навес не защищал от града осколков.
Мы обмотали головы тряпками, полагая, что это охранит нас, и заткнули уши, чтобы не слышать грохота. Затем пообедали. Обед был копией вчерашнего, и позавчерашнего, и так далее: гороховый суп, консервированный яблочный пудинг…
Стемнело. Ветер ослаб. Камни смерзлись, и бомбежка прекратилась. Лишь изредка срывалась какая-нибудь особенно тяжелая глыба. Царила полная тишина, если не считать неопределенного шороха, вроде того, который слышен в морской раковине.
