Страница:
Ну и жуткие животные! Сначала мы все в них влюбились, такие это были прекрасные создания – глянцевитые, резвые и забавные. Выдры быстро научились ходить на поводке. Шея у них такая крепкая и мускулистая, что они выскальзывали из ошейника когда хотели, и пришлось надевать на них собачьи шлейки, из которых им уже не удавалось высвободиться. Они не любили, чтобы их ласкали, но зато с наслаждением терлись о людей, стараясь просушить шерсть. Повести выдр погулять по Парку, чтобы показать их публике, мог кто угодно из нас. Стоило сесть, и выдры тотчас забирались к тебе на колени и начинали извиваться с усердием, которое выглядело как выражение нежной любви – но только выглядело. Люди были для выдр всего лишь ходячими банными полотенцами.
Мы начали прикидывать, что они могли бы делать. У выдр очень ловкие лапы, напоминающие маленькие руки, и они, например, способны повернуть дверную ручку (в этом мы убедились на опыте). Они замечательно ныряют и плавают и прекрасно смотрятся как в воде, так и на суше. Нам уже рисовались десятки интересных подводных номеров: например, выдра упаковывает и распаковывает корзинку с припасами для пикника или демонстрирует свой вариант старинной ярмарочной игры в скорлупки.
Однако использовать их в качестве артистов оказалось отнюдь не просто. Во-первых, они как никто умели удирать на волю. Закон штата Гавайи обязывал нас содержать их в клетке, но, как выяснилось, они были способны выбраться из любой клетки, из любого здания, и единственным надежным местом заключения для них служил только пустой бассейн с трехметровыми отвесными бетонными стенами. Работая с ними в Театре Океанической Науки, мы каждую минуту могли ожидать, что они выйдут из повиновения и удерут через парапет. Они вовсе не жаждали навсегда обрести свободу и охотно возвращались назад. Им просто нравилось поступать по-своему и гулять где вздумается. «Лови выдру!» – этот клич раздавался чуть ли не ежедневно, и ловля отнимала у всех массу времени.
Во-вторых, поведение выдр очень изменчиво. Они редко делают одно и то же два раза подряд. Жизнь для выдры – это постоянные поиски новизны. За выдрой очень интересно наблюдать, но подобное свойство мало подходит для пяти выступлений по шесть дней в неделю или хотя бы для одного плодотворного сеанса дрессировки.
Как-то за обедом я пожаловалась на это Уиллу Уисту и Лесли Сквайру. Я пыталась заставить выдру стоять на ящике, объяснила я. Добиться, чтобы она поняла, что от нее требуется, не составило ни малейшего труда: едва я установила в загоне ящик, как выдра кинулась к нему и забралась наверх. А затем быстро сообразила, что вскочить на ящик – значит получить кусочек рыбы. Но! Едва она в этом убедилась, как начала проверять варианты. «А хочешь, я лягу на ящик? А что, если я поставлю на него только три лапы? А не повиснуть ли мне с ящика головой вниз? Или встать на него и заглядывать, что под ним? Ну, а если я поставлю на него передние лапы и залаю?» В течение двадцати минут она предлагала мне десятки вариаций на тему «Как можно использовать ящик», но категорически не желала просто стоять на нем. Было от чего прийти в бешенство, и выматывало это до чрезвычайности. Выдра съедала свою рыбу, бежала назад к ящику, предлагала еще одну фантастическую вариацию и выжидательно погладывала на меня (злоехидно, как казалось мне), а я в очередной раз терялась, решая, отвечает ее поведение поставленной мной задаче или нет.
Мои друзья-психологи наотрез отказались мне поверить – ни одно животное так себя не ведет. Поощряя поведенческий элемент, мы увеличиваем шанс на то, что животное повторит действие, которое оно совершало, когда получало поощрение, а вовсе не толкаем его играть с нами в угадайку.
Тогда я повела их к бассейну, взяла там вторую выдру и попробовала научить ее проплывать сквозь небольшой обруч. Я опустила обруч в воду. Выдра проплыла сквозь него. Дважды. Я дала ей рыбу. Чудесно. Психологи одобрительно закивали. После чего выдра, всякий раз поглядывая на меня в ожидании поощрения, проделала следующее: вплыла в обруч и остановилась – морда по одну сторону обруча, хвост по другую; проплыла насквозь, ухватила обруч задней лапой и потащила за собой; улеглась в обруче; укусила обруч; проплыла сквозь обруч хвостом вперед!
– Видите? – сказала я. – Все выдры – прирожденные экспериментаторы.
– Поразительно, – пробормотал доктор Сквайр. – Я по четыре года добиваюсь от моих аспирантов такой вот нешаблонности.
Да, это было поразительно. И доводило до исступления. Но еще хуже оказалась непредсказуемость поведения выдр. Они выбирали себе врагов (вернее было бы сказать – жертвы). Помощник дрессировщика, ни разу не подходивший к выдрам, как-то сидел на краю их бассейна, свесив ноги, и наблюдал за дрессировкой. Одна из выдр подпрыгнула и так располосовала ему ногу, что его пришлось отправить в больницу. Неделю спустя во время прогулки по Парку та же выдра увидела того же парня, бросилась к нему и снова сильно укусила его за ту же пятку.
Дрессировщики в Театре Океанической Науки после одного-двух укусов начали бояться выдр. Беспричинность таких ничем на спровоцированных нападений, быстрота и сила выдр – все это наводило на мысль о довольно жутких возможностях. И, нагибаясь к милой, теплой, лениво развалившейся в воде выдре, чтобы надеть на нее шлейку, вдруг как-то остро чувствуешь, что подставляешь ей ничем не защищенное горло…
Затем мы обнаружили, что влажный воздух и сырой бетон загона, который мы построили выдрам в Театре Океанической Науки, вредны для их шерсти. На их шкурах появились проплешины. Голая кожа воспалялась. В довершение всего выдры завели манеру визжать, требуя внимания к себе во время представления с дельфинами и пингвинами. Визжали они очень противно и так громко, что заглушали лектора.
Будь у нас деньги, чтобы строить и перестраивать идеальный бассейн для выдр, будь у нас больше терпения и умения, возможно, мы добились бы от этих невыносимых, но красивых созданий настоящих чудес. Но денег у нас не было, а терпение наше истощилось, и мы сдались. Выдры отправились в зоопарк Гонолулу, где, по-видимому, зажили вполне счастливо.
Мне всегда нравилось возиться с дрессировкой самых неожиданных животных. Я была бы очень рада, если бы у нас был аквариум для демонстрации дрессированных рыб и беспозвоночных. Мне так и не удалось включить что-либо подобное в общий план, но у себя в дрессировочном отделе мы время от времени обзаводились аквариумами развлечения ради. Однажды я за десять минут научила пятисантиметрового помацентра (рыбу-ласточку) проплывать сквозь обруч. Крупного рака-отшельника я научила дергать за веревочку и звонить в колокольчик, требуя ужина. У Дэвида Элисиза, виртуоза дрессировки, маленький осьминог взбирался на ладонь и позволял вытащить себя из воды, а кроме того, по команде переворачивался вверх тормашками и выбрасывал струйку воды из своего сифона в воздух, так что получался осьминожий фонтан. Дрессировка низших животных открывает поистине безграничные зрелищные возможности, и, насколько мне известно, ею нигде не занимались, кроме одного аквариума в Японии. Черепахи, омары, карпозубики – дрессировать можно буквально любую тварь при условии, что вы найдете способ эффективного ее поощрения, а также придумаете интересный номер, соответствующий ее возможностям. Доктор Ларри Эймс, профессор Гавайского университета, сконструировал крохотное приспособление, с помощью которого делил ежедневный рацион золотой рыбки на восемь микроскопических частей. Он пользовался этим приспособлением для экспериментов с выбором. Золотые рыбки, насколько я с ними знакома, не слишком бойкие создания, но рыбки Ларри буквально выпрыгивали из воды, торопясь добраться до своих кнопок. Я прямо-таки упивалась этим зрелищем. Как говорят про цирковых собак, рыбки Ларри «работали с душой».
Доктор Роджер Футс, известный специалист по обучению шимпанзе, как-то признался мне, что его заветной мечтой было выяснить, нельзя ли выдрессировать мясных мух кружить по команде слева направо и справа налево. Отец оперантного научения Б.Ф. Скиннер клянется, что вечно будет жалеть об одной неосуществленной своей мечте: научить двух голубей играть в настольный теннис! Однако из всех профессорских достижений в дрессировке выше всего я ставлю то, о котором мне поведал доктор Ричард Гернстайн из Гарварда: он в минуты досуга выдрессировал морского гребешка, этого плебейского родственника устрицы, хлопать створкой раковины ради пищевого поощрения.
Цепь гавайских островов не исчерпывается пятью крупнейшими, которыми часто ограничиваются картографы, а включает еще множество островков, островочков и рифов, протянувшихся от Гонолулу на запад, в сторону Мидуэя, на три с лишним тысячи километров. Эти скалистые кусочки суши носят общее название Подветренных островов, так как, когда дуют пассаты, они лежат под ветром от главных островов. Это приют значительной части эндемичной гавайской фауны – морских и наземных птиц, зеленых черепах, гавайских тюленей-монахов. Тэп предполагал заселить один из сооруженных в Парке водоемов представителями этих исконных обитателей гавайских вод и суши. Он договорился с зоологом Джимом Келли, бывшим военным летчиком, что тот устроит себе поездку на мидуэйскую военно-морскую базу, а также на базу береговой охраны на близлежащем острове Куре и вернется на их самолете с птицами, черепахами, а может быть, и тюленями. Джим привез несколько черепах, двух тюленей-монахов и прекрасную коллекцию птиц – темноспинных альбатросов, черно-белых красавцев размерами с индейку, которые сводят с ума начальство мидуэйской базы своей привычкой гнездиться на взлетных полосах; черноногих альбатросов (я не понимаю, почему их называют черноногими – ведь у них и оперение почти все черное), белых крачек и разных тропических птиц. Мы подрезали всем им крылья, водворили за проволочную сетку вокруг Лагуны Подветренных Островов, и посетители Парка могли любоваться, как наши девушки несколько раз в день их кормят.
Весной Джим, получив от штата соответствующее разрешение, отправился в одну из гнездовых колоний морских птиц на острове Оаху и добыл там несколько красноногих олушей, красивых черно-белых птиц с голубыми клювами и очаровательными розовыми лапками. Кроме того, он привез птенца олуши прямо в гнезде, прихватив кого-то из его родителей в надежде, что мать (или отец) будет выкармливать птенца и в Парке. Конечно, из этого ничего не получилось, мы забрали птенца к себе в дрессировочный отдел, дали ему кличку Ману («птица») и начали сами его выкармливать.
Ману был ужасно смешным: эдакий облепленный снегом баскетбольный мяч с двумя черными глазками и острым клювом. Мало-помалу он оделся темно-коричневым оперением годовалых олушей. Он был совсем ручным и очень забавным. У нас не хватило духу обрезать ему крылья. Мы дали маховым перьям вырасти нормально – пусть улетает!
Но он не улетел. Он остался. Как только он научился летать настолько уверенно, что мог садиться на снасти «Эссекса» (на это потребовалось около месяца), он завел привычку болтаться где-нибудь рядом, выпрашивая рыбу у дрессировщиков во время представления, и даже вносил в него свою лепту, к удовольствию зрителей ловя на лету подброшенную в воздух рыбешку. Он прожил у нас всю зиму.
Весной, когда в гнездовой колонии вновь вывелись птенцы, мы собрали пятнадцать только что вылупившихся олушей и выкормили их сами. Всех наших взрослых птиц мы отпустили – зачем показывать публике пусть и очень интересных, но прикованных к земле пленников с подрезанными крыльями, когда у нас есть вольно летающие птицы? Я не сомневаюсь, что альбатросы, едва их маховые перья отросли, вернулись к себе на Мидуэй: три тысячи километров – это для них не расстояние. Олуши, пойманные взрослыми, вернулись на родное гнездовье, а остальные несомненно, тоже разлетелись по родным гнездам. Новые птенцы олушей выросли, оперились, начали летать – но не улетели. В хорошую погоду они отправлялись в море ловить рыбу, в скверную околачивались возле Лагуны Подветренных Островов и клянчили рыбу у дрессировщиков. Многие наловчились хватать рыбу на лету – прекрасный сюжет для фотографирования, особенно если рыбу кидает стройная гавайская девушка в бикини.
На второе лето эта компания оделась в буро-белое оперение, а Ману, который был на год старше, щеголял уже во взрослом наряде своего вида – весь белоснежный, если не считать черных кончиков крыльев, с розовыми лапками и уже не черным, а небесно-голубым клювом. Он выбрал себе супругу из наших двухлеток; они, облюбовав куст возле дорожки, ведущей в Бухту Китобойца, соорудили типичное для олушей неряшливое рыхлое гнездо и к нашему восторгу и удивлению вывели в нем птенца – в трех шагах от гуляющей публики.
Это был маленький зоологический сюрприз. Все океанические птицы в мире, какие бы тысячи километров они в своих странствиях ни покрывали, птенцов выводят только в определенной гнездовой колонии. Иногда даже место гнезда предопределено заранее с точностью до сантиметра. Насколько нам было известно, еще никому не удавалось добиться размножения подлинных океанических птиц в неволе или хотя бы за пределами родной колонии. У нас появилась надежда, что в Лагуне Подветренных Островов нам удастся получить собственную гнездовую колонию, которая из года в год будет самообновляться и расширяться.
Так оно и произошло. Хотя некоторые птицы за зиму исчезали, каждый год в парке «Жизнь моря» несколько взрослых олушей образовывали пары, сооружали гнезда и выводили птенцов. Пушистые птенцы были неотразимой приманкой для любителей фотографии, а любители животных могли наблюдать богатейшее разнообразие птичьего поведения – ритуал ухаживания, агрессивные демонстрации, постройку гнезда и так далее и тому подобное.
Сначала мы не могли объяснить, почему эти не терпящие переселений птицы так уютно освоились в нашем Парке. На помощь пришел случай. Как-то меня вызвали в кассу, где некий господин заявил мне в полном бешенстве, что он – федеральный инспектор по охране окружающей среды и что мы противозаконно держим у себя его птиц и потому, несомненно, подлежим или штрафу, или аресту, а возможно, и тому и другому.
Еще этого не хватало! Выяснилось, что с прошлого года все дикие морские птицы на Гавайях находятся под охраной не только штата, но и федерального управления, а его, Юджина Кридлера, перевели на Гавайи обеспечивать эту охрану.
Разрешение от штата на содержание птиц у нас было, но о необходимости заручиться федеральным разрешением нам никто ничего не сказал; с другой стороны, никто ничего не сказал мистеру Кридлеру о нас, и он был крайне возмущен.
Мы вместе пошли к Лагуне Подветренных Островов, и мистер Кридлер предупредил меня, что всех птиц нам придется выпустить на свободу. Я растерянно показала на белых взрослых олушей, бело-бурых двухлеток и годовиков, которые кружили у нас над головой, – они же свободны!
Ну, в таком случае их придется окольцевать. Правда, они уже носили на лапках кольца штата, а некоторые и цветные пластмассовые кольца, которые мы с Ингрид использовали для индивидуального их распознавания, но я готова была тут же переловить наших олушей – они были совсем ручными – и надеть на них еще и федеральные кольца. Федеральный инспектор как будто начал склоняться к мысли, что нам, пожалуй, можно выдать федеральное разрешение на содержание птиц, и мир, казалось, был восстановлен.
Но тут я сообразила, что должна покаяться еще в одном грехе: в дрессировочном отделе мы как раз выкармливали новую партию птенцов, чтобы водворить их в Лагуну Подветренных Островов, когда они достаточно оперяться. Мы с инспектором отправились назад и осмотрели этих птенцов. Новое потрясение для нашего нового федерального инспектора! Он явно с радостью потребовал бы, чтобы мы немедленно вернули их в родные гнезда, но мы оба понимали, что родители не станут о них заботиться. Либо выкармливать их будем мы, либо они погибнут.
Мы выработали компромисс. Птенцы будут выставлены на обозрение не раньше, чем мы получим соответствующее разрешение, выдача которого потребует нескольких недель.
В результате новые птенцы попали в Лагуну Подветренных Островов позже обычного – двое из них уже начали летать. Когда разрешение наконец пришло, мы расселили птенцов по Парку – пару в Театр Океанической Науки, пару на островок в Бухте Китобойца возле хижины и так далее. Когда и эти птицы начали летать, мы, по-видимому, поняли наконец, что именно привязывает их к родному гнездовью: дело не в том, где рос птенец, а в том, где он встал на крыло. Словно бы наши олуши в первые две недели полетов составили карту своего мирка, пометив крестиком «родной дом». Птиц, которые впервые взлетели в дрессировочном отделе или в Театре Океанической Науки, можно было увидеть, повсюду – на снастях «Эссекса», в Лагуне Подветренных Островов, над морем; но с наступлением брачного сезона они возвращались точно на то место, где впервые встали на крыло, и прилагали всяческие усилия, чтобы именно туда заманить подругу и там выращивать птенцов.
В дрессировочном отделе не было кустов, а олуши гнездятся в кустах, и потому у этих птиц ничего не получилось. Олуши в Театре Океанической Науки оказались даже в худшем положении. По-видимому, – тут я не уверена, – такое «запечатление места» присуще только самцам. Вероятно, даже сейчас, если вы посетите парк «Жизнь моря» в феврале, вы увидите, как эти два самца взлетают на крышу Театра Океанической Науки и вновь вылетают наружу, тщетно пытаясь убедить самок, которые отказываются следовать за ними дальше края бассейна, что нет на свете места для гнезда лучше, чем их «родные», сваренные из труб перила!
Мне никогда не приедалось зрелище кружащих над Парком олушей. Это великолепные летуны.
По моему твердому убеждению, вполне возможно, по крайней мере теоретически, выдрессировать отдельных птиц так, чтобы они по команде демонстрировали элементы полета: парение, резкое пикирование, повороты через крыло, а может быть, даже «бочки» и другие фигуры высшего пилотажа, которые у них получаются вполне естественно. Иногда птица на лету чесала голову лапкой – движение очень забавное, которое так и хотелось закрепить. Однако практические трудности оказались непреодолимыми: все сразу же уперлось в то, что мы не нашли надежного способа метить птиц так, чтобы можно было в полете различать, кто есть кто, и разбирать, у кого и что закреплять.
На земле нам кое-чего удалось добиться. Некоторые птицы научились развертывать по команде крылья или вспрыгивать на руку дрессировщика, спокойно позволяя носить себя и фотографировать. Удалось отработать и кое-какие групповые номера. Птицы усвоили, когда во время представления в Бухте Китобойца их кормят, а когда нет. И вот вскоре после начала представления наступала магическая минута; почти все олуши, которые в этот день оставались в окрестностях Парка, начинали кружить против часовой стрелки над пирогой, выхватывая рыбу из рук гавайской девушки. Затем, когда она причаливала к островку, птицы вытягивались в одну линию и проносились над ней на бреющем полете, а она бросала им рыбу в воздух. После чего олуши улетали на Лагуну или рассаживались по снастям «Эссекса».
Конечно, от них бывают и неприятности. Они щедро заляпывают «Эссекс», а иногда и посетителей белым, воняющим рыбой пометом. Они способны и клюнуть – не опасно, но до крови. У каждого дрессировщика, который выращивал олушей или кормил их из рук, остаются на память об этом маленькие шрамы. Гейлорд Диллингем, студент, одно лето работавший в Парке, вошел в его историю, лихо исполнив на вечеринке «хулу кормления птиц», как он выразился: он ритуализированными жестами гавайской хулы воспроизвел все неудобства этой обязанности, – начиная с попыток очищать покрытые рыбьей чешуей руки еще и от перьев и кончая увертыванием от сердитых клевков. И, тем не менее, поразительная красота полета олушей стоит того, чтобы показывать это зрителям, а для биолога эта уникальная гнездовая колония искупает любые неудобства и неприятности.
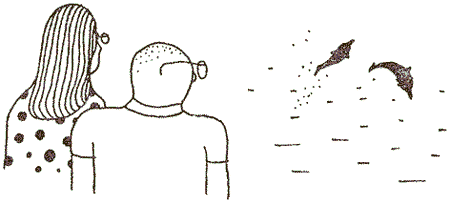
В 1968 году Кен Норрис переехал с семьей на Гавайи, поселился по соседству с нами и принял на себя руководство Океаническим институтом. Институт к этому времени завершил строительство прекрасного двухэтажного лабораторного корпуса, бассейнов для дельфинов, библиотеки, а также набрал штат сотрудников. Все мы, знакомые Норрисов, были в восторге от их приезда.
Таких веселых, душевно щедрых, неугомонных и милых друзей, как Кен и Филлис Норрисы, на свете, наверное, больше не существует. У них четверо на редкость привлекательных детей, и их дом, где бы они ни жили, всегда полон музыки, гуппи, подушек, кофейных чашек, трезвонящих телефонов, студентов, растений, птиц (и в клетках и на свободе), сонных кошек, которые не трогают птиц, лающих собак и всяческих столярных замыслов.
Филлис – ботаник, специалист по морским растениям, а Кен пользуется мировой известностью как знаток китообразных, ящериц, экологии пустынь и еще многого другого, но ведет он себя совсем не как универсальная знаменитость: так, просто босоногий биолог и только. Тем не менее он вполне способен повязать галстук, поехать в Вашингтон и вернуться оттуда с деньгами. Интеллект у него могучий, осведомленность широчайшая, и с ним часто консультируются по вопросам, в которых скрещиваются интересы науки и государства. Кроме того, он лихо пьет пиво, играет на гитаре и умеет преподавать так увлекательно, что подтолкнул специализироваться в естественных науках не один десяток студентов.
Кен – искусный мастер и художник, очень оригинальный и с большим чувством юмора. Гавайский дом Норрисов украшали лестничные перила, вырезанные из изогнутого ребра кашалота (попробуйте-ка получить на это разрешение строительного бюро!), и огромная аппликация, изображавшая чилийский порт Сантьяго и созданная Кеном и его детьми из всевозможных обломков и мусора, подобранных там на морском берегу.
Еще до переезда Кен провел на Гавайях не одно долгое лето, занимаясь исследованиями дельфинов. Когда же он обосновался там надолго, главной его задачей было руководить Институтом, тем не менее он продолжал изучать эхолокацию у китообразных и вести наблюдения за стадом диких вертящихся продельфинов, базируясь на Большом Острове, как часто называют остров Гавайи.
Бесспорно, китообразные принадлежат к животным, которых особенно трудно наблюдать в естественной среде обитания. Можно устроиться на горном уступе и вести в бинокль наблюдение за повседневной жизнью карибу. Можно следовать за стадом слонов, можно подружиться с дикими шимпанзе, как несравненная Джейн Гудолл, или устроить себе логово рядом с волчьим, как Фарли Моуэт. Можно построить убежище посреди гнездовой колонии и экспериментировать с птенцами чаек, как Нико Тинберген, или пометить отдельные особи в колонне бродячих муравьев и наблюдать поведение каждого из них, как Теодор Шнейрла. Но дельфины по большей части остаются невидимыми и постоянно перемещаются. Ни катер, ни пловец не способны следовать за ними долго, а кроме того, любое приближающееся к ним судно нарушает обычное течение их жизни, искажая как раз то, что вы хотите наблюдать неискаженным. Каким же образом получить верное представление о их жизни и поведении?
В мире насчитывается по меньшей мере тридцать видов дельфинов. Одни обитают лишь в определенных местах, как, например, гавайские вертуны, которые, по-видимому, водятся только в гавайских водах. Другие, как например, кико, встречаются по всему Тихому океану. А некоторые, вроде стено, живут чуть ли не по всему миру. Медленно накапливающиеся полевые наблюдения дают немало полезной информации. Жорж тщательно записывал каждую свою встречу с дельфинами, и эти записи позволяют заключить, что поблизости от Гавайских островов афалины плавают стадами от 3–4 до 20 особей и что эти стада либо обитают далеко в море, либо заглядывают в наши воды по пути куда-то еще – так сказать, «транзитом». А вот вертуны живут стадами по шестьдесят и более особей и имеют свои территории, которые патрулируют и в которых остаются постоянно. Одно стадо «владеет» водами у восточного побережья острова Оаху, еще одно – у северного его побережья, а третье обычно можно наблюдать где-нибудь за Ваикики. Предположительно в водах островов Гавайи, Мауи, Кауаи и Молокаи тоже имеются свои стада.
Когда «Имуа» приближался к вертунам, Жорж Жильбер с первого взгляда узнавал, какое перед ним стадо. Дело в том, что у этих популяций имеются свои заметные различия. Например, в некоторых стадах клюв в среднем чуть длиннее или же число зубов в среднем больше – открытие, довольно-таки неприятное для систематиков, поскольку число зубов принято считать стойкой видовой характеристикой.
Однако наблюдатель, менее опытный, чем Жорж, практически не в состоянии вновь узнать конкретное стадо; он, возможно, не сумеет даже определить, к какому виду принадлежат эти дельфины. Рыбаки и моряки часто встречают дельфинов, но изгибающиеся спины с треугольными плавниками все выглядят примерно одинаково. И розовой мечтой остается такая сделанная рыбаком запись: «Около 40 Tursiops gilli; широта такая-то, долгота такая-то, час и дата такие-то». В лучшем случае нам сообщают: «Видели больших дельфинов, видели маленьких дельфинов, у некоторых на боках были пятна». Нередко единственным реальным доказательством того, что данный вид обитает в данных водах, служат оказавшиеся на берегу или загарпуненные особи. Большая часть того, что мы знаем о распространении и распределении видов, опирается на мертвые экземпляры, ценой немалых трудов приобретенные музеями.
Мы начали прикидывать, что они могли бы делать. У выдр очень ловкие лапы, напоминающие маленькие руки, и они, например, способны повернуть дверную ручку (в этом мы убедились на опыте). Они замечательно ныряют и плавают и прекрасно смотрятся как в воде, так и на суше. Нам уже рисовались десятки интересных подводных номеров: например, выдра упаковывает и распаковывает корзинку с припасами для пикника или демонстрирует свой вариант старинной ярмарочной игры в скорлупки.
Однако использовать их в качестве артистов оказалось отнюдь не просто. Во-первых, они как никто умели удирать на волю. Закон штата Гавайи обязывал нас содержать их в клетке, но, как выяснилось, они были способны выбраться из любой клетки, из любого здания, и единственным надежным местом заключения для них служил только пустой бассейн с трехметровыми отвесными бетонными стенами. Работая с ними в Театре Океанической Науки, мы каждую минуту могли ожидать, что они выйдут из повиновения и удерут через парапет. Они вовсе не жаждали навсегда обрести свободу и охотно возвращались назад. Им просто нравилось поступать по-своему и гулять где вздумается. «Лови выдру!» – этот клич раздавался чуть ли не ежедневно, и ловля отнимала у всех массу времени.
Во-вторых, поведение выдр очень изменчиво. Они редко делают одно и то же два раза подряд. Жизнь для выдры – это постоянные поиски новизны. За выдрой очень интересно наблюдать, но подобное свойство мало подходит для пяти выступлений по шесть дней в неделю или хотя бы для одного плодотворного сеанса дрессировки.
Как-то за обедом я пожаловалась на это Уиллу Уисту и Лесли Сквайру. Я пыталась заставить выдру стоять на ящике, объяснила я. Добиться, чтобы она поняла, что от нее требуется, не составило ни малейшего труда: едва я установила в загоне ящик, как выдра кинулась к нему и забралась наверх. А затем быстро сообразила, что вскочить на ящик – значит получить кусочек рыбы. Но! Едва она в этом убедилась, как начала проверять варианты. «А хочешь, я лягу на ящик? А что, если я поставлю на него только три лапы? А не повиснуть ли мне с ящика головой вниз? Или встать на него и заглядывать, что под ним? Ну, а если я поставлю на него передние лапы и залаю?» В течение двадцати минут она предлагала мне десятки вариаций на тему «Как можно использовать ящик», но категорически не желала просто стоять на нем. Было от чего прийти в бешенство, и выматывало это до чрезвычайности. Выдра съедала свою рыбу, бежала назад к ящику, предлагала еще одну фантастическую вариацию и выжидательно погладывала на меня (злоехидно, как казалось мне), а я в очередной раз терялась, решая, отвечает ее поведение поставленной мной задаче или нет.
Мои друзья-психологи наотрез отказались мне поверить – ни одно животное так себя не ведет. Поощряя поведенческий элемент, мы увеличиваем шанс на то, что животное повторит действие, которое оно совершало, когда получало поощрение, а вовсе не толкаем его играть с нами в угадайку.
Тогда я повела их к бассейну, взяла там вторую выдру и попробовала научить ее проплывать сквозь небольшой обруч. Я опустила обруч в воду. Выдра проплыла сквозь него. Дважды. Я дала ей рыбу. Чудесно. Психологи одобрительно закивали. После чего выдра, всякий раз поглядывая на меня в ожидании поощрения, проделала следующее: вплыла в обруч и остановилась – морда по одну сторону обруча, хвост по другую; проплыла насквозь, ухватила обруч задней лапой и потащила за собой; улеглась в обруче; укусила обруч; проплыла сквозь обруч хвостом вперед!
– Видите? – сказала я. – Все выдры – прирожденные экспериментаторы.
– Поразительно, – пробормотал доктор Сквайр. – Я по четыре года добиваюсь от моих аспирантов такой вот нешаблонности.
Да, это было поразительно. И доводило до исступления. Но еще хуже оказалась непредсказуемость поведения выдр. Они выбирали себе врагов (вернее было бы сказать – жертвы). Помощник дрессировщика, ни разу не подходивший к выдрам, как-то сидел на краю их бассейна, свесив ноги, и наблюдал за дрессировкой. Одна из выдр подпрыгнула и так располосовала ему ногу, что его пришлось отправить в больницу. Неделю спустя во время прогулки по Парку та же выдра увидела того же парня, бросилась к нему и снова сильно укусила его за ту же пятку.
Дрессировщики в Театре Океанической Науки после одного-двух укусов начали бояться выдр. Беспричинность таких ничем на спровоцированных нападений, быстрота и сила выдр – все это наводило на мысль о довольно жутких возможностях. И, нагибаясь к милой, теплой, лениво развалившейся в воде выдре, чтобы надеть на нее шлейку, вдруг как-то остро чувствуешь, что подставляешь ей ничем не защищенное горло…
Затем мы обнаружили, что влажный воздух и сырой бетон загона, который мы построили выдрам в Театре Океанической Науки, вредны для их шерсти. На их шкурах появились проплешины. Голая кожа воспалялась. В довершение всего выдры завели манеру визжать, требуя внимания к себе во время представления с дельфинами и пингвинами. Визжали они очень противно и так громко, что заглушали лектора.
Будь у нас деньги, чтобы строить и перестраивать идеальный бассейн для выдр, будь у нас больше терпения и умения, возможно, мы добились бы от этих невыносимых, но красивых созданий настоящих чудес. Но денег у нас не было, а терпение наше истощилось, и мы сдались. Выдры отправились в зоопарк Гонолулу, где, по-видимому, зажили вполне счастливо.
Мне всегда нравилось возиться с дрессировкой самых неожиданных животных. Я была бы очень рада, если бы у нас был аквариум для демонстрации дрессированных рыб и беспозвоночных. Мне так и не удалось включить что-либо подобное в общий план, но у себя в дрессировочном отделе мы время от времени обзаводились аквариумами развлечения ради. Однажды я за десять минут научила пятисантиметрового помацентра (рыбу-ласточку) проплывать сквозь обруч. Крупного рака-отшельника я научила дергать за веревочку и звонить в колокольчик, требуя ужина. У Дэвида Элисиза, виртуоза дрессировки, маленький осьминог взбирался на ладонь и позволял вытащить себя из воды, а кроме того, по команде переворачивался вверх тормашками и выбрасывал струйку воды из своего сифона в воздух, так что получался осьминожий фонтан. Дрессировка низших животных открывает поистине безграничные зрелищные возможности, и, насколько мне известно, ею нигде не занимались, кроме одного аквариума в Японии. Черепахи, омары, карпозубики – дрессировать можно буквально любую тварь при условии, что вы найдете способ эффективного ее поощрения, а также придумаете интересный номер, соответствующий ее возможностям. Доктор Ларри Эймс, профессор Гавайского университета, сконструировал крохотное приспособление, с помощью которого делил ежедневный рацион золотой рыбки на восемь микроскопических частей. Он пользовался этим приспособлением для экспериментов с выбором. Золотые рыбки, насколько я с ними знакома, не слишком бойкие создания, но рыбки Ларри буквально выпрыгивали из воды, торопясь добраться до своих кнопок. Я прямо-таки упивалась этим зрелищем. Как говорят про цирковых собак, рыбки Ларри «работали с душой».
Доктор Роджер Футс, известный специалист по обучению шимпанзе, как-то признался мне, что его заветной мечтой было выяснить, нельзя ли выдрессировать мясных мух кружить по команде слева направо и справа налево. Отец оперантного научения Б.Ф. Скиннер клянется, что вечно будет жалеть об одной неосуществленной своей мечте: научить двух голубей играть в настольный теннис! Однако из всех профессорских достижений в дрессировке выше всего я ставлю то, о котором мне поведал доктор Ричард Гернстайн из Гарварда: он в минуты досуга выдрессировал морского гребешка, этого плебейского родственника устрицы, хлопать створкой раковины ради пищевого поощрения.
Цепь гавайских островов не исчерпывается пятью крупнейшими, которыми часто ограничиваются картографы, а включает еще множество островков, островочков и рифов, протянувшихся от Гонолулу на запад, в сторону Мидуэя, на три с лишним тысячи километров. Эти скалистые кусочки суши носят общее название Подветренных островов, так как, когда дуют пассаты, они лежат под ветром от главных островов. Это приют значительной части эндемичной гавайской фауны – морских и наземных птиц, зеленых черепах, гавайских тюленей-монахов. Тэп предполагал заселить один из сооруженных в Парке водоемов представителями этих исконных обитателей гавайских вод и суши. Он договорился с зоологом Джимом Келли, бывшим военным летчиком, что тот устроит себе поездку на мидуэйскую военно-морскую базу, а также на базу береговой охраны на близлежащем острове Куре и вернется на их самолете с птицами, черепахами, а может быть, и тюленями. Джим привез несколько черепах, двух тюленей-монахов и прекрасную коллекцию птиц – темноспинных альбатросов, черно-белых красавцев размерами с индейку, которые сводят с ума начальство мидуэйской базы своей привычкой гнездиться на взлетных полосах; черноногих альбатросов (я не понимаю, почему их называют черноногими – ведь у них и оперение почти все черное), белых крачек и разных тропических птиц. Мы подрезали всем им крылья, водворили за проволочную сетку вокруг Лагуны Подветренных Островов, и посетители Парка могли любоваться, как наши девушки несколько раз в день их кормят.
Весной Джим, получив от штата соответствующее разрешение, отправился в одну из гнездовых колоний морских птиц на острове Оаху и добыл там несколько красноногих олушей, красивых черно-белых птиц с голубыми клювами и очаровательными розовыми лапками. Кроме того, он привез птенца олуши прямо в гнезде, прихватив кого-то из его родителей в надежде, что мать (или отец) будет выкармливать птенца и в Парке. Конечно, из этого ничего не получилось, мы забрали птенца к себе в дрессировочный отдел, дали ему кличку Ману («птица») и начали сами его выкармливать.
Ману был ужасно смешным: эдакий облепленный снегом баскетбольный мяч с двумя черными глазками и острым клювом. Мало-помалу он оделся темно-коричневым оперением годовалых олушей. Он был совсем ручным и очень забавным. У нас не хватило духу обрезать ему крылья. Мы дали маховым перьям вырасти нормально – пусть улетает!
Но он не улетел. Он остался. Как только он научился летать настолько уверенно, что мог садиться на снасти «Эссекса» (на это потребовалось около месяца), он завел привычку болтаться где-нибудь рядом, выпрашивая рыбу у дрессировщиков во время представления, и даже вносил в него свою лепту, к удовольствию зрителей ловя на лету подброшенную в воздух рыбешку. Он прожил у нас всю зиму.
Весной, когда в гнездовой колонии вновь вывелись птенцы, мы собрали пятнадцать только что вылупившихся олушей и выкормили их сами. Всех наших взрослых птиц мы отпустили – зачем показывать публике пусть и очень интересных, но прикованных к земле пленников с подрезанными крыльями, когда у нас есть вольно летающие птицы? Я не сомневаюсь, что альбатросы, едва их маховые перья отросли, вернулись к себе на Мидуэй: три тысячи километров – это для них не расстояние. Олуши, пойманные взрослыми, вернулись на родное гнездовье, а остальные несомненно, тоже разлетелись по родным гнездам. Новые птенцы олушей выросли, оперились, начали летать – но не улетели. В хорошую погоду они отправлялись в море ловить рыбу, в скверную околачивались возле Лагуны Подветренных Островов и клянчили рыбу у дрессировщиков. Многие наловчились хватать рыбу на лету – прекрасный сюжет для фотографирования, особенно если рыбу кидает стройная гавайская девушка в бикини.
На второе лето эта компания оделась в буро-белое оперение, а Ману, который был на год старше, щеголял уже во взрослом наряде своего вида – весь белоснежный, если не считать черных кончиков крыльев, с розовыми лапками и уже не черным, а небесно-голубым клювом. Он выбрал себе супругу из наших двухлеток; они, облюбовав куст возле дорожки, ведущей в Бухту Китобойца, соорудили типичное для олушей неряшливое рыхлое гнездо и к нашему восторгу и удивлению вывели в нем птенца – в трех шагах от гуляющей публики.
Это был маленький зоологический сюрприз. Все океанические птицы в мире, какие бы тысячи километров они в своих странствиях ни покрывали, птенцов выводят только в определенной гнездовой колонии. Иногда даже место гнезда предопределено заранее с точностью до сантиметра. Насколько нам было известно, еще никому не удавалось добиться размножения подлинных океанических птиц в неволе или хотя бы за пределами родной колонии. У нас появилась надежда, что в Лагуне Подветренных Островов нам удастся получить собственную гнездовую колонию, которая из года в год будет самообновляться и расширяться.
Так оно и произошло. Хотя некоторые птицы за зиму исчезали, каждый год в парке «Жизнь моря» несколько взрослых олушей образовывали пары, сооружали гнезда и выводили птенцов. Пушистые птенцы были неотразимой приманкой для любителей фотографии, а любители животных могли наблюдать богатейшее разнообразие птичьего поведения – ритуал ухаживания, агрессивные демонстрации, постройку гнезда и так далее и тому подобное.
Сначала мы не могли объяснить, почему эти не терпящие переселений птицы так уютно освоились в нашем Парке. На помощь пришел случай. Как-то меня вызвали в кассу, где некий господин заявил мне в полном бешенстве, что он – федеральный инспектор по охране окружающей среды и что мы противозаконно держим у себя его птиц и потому, несомненно, подлежим или штрафу, или аресту, а возможно, и тому и другому.
Еще этого не хватало! Выяснилось, что с прошлого года все дикие морские птицы на Гавайях находятся под охраной не только штата, но и федерального управления, а его, Юджина Кридлера, перевели на Гавайи обеспечивать эту охрану.
Разрешение от штата на содержание птиц у нас было, но о необходимости заручиться федеральным разрешением нам никто ничего не сказал; с другой стороны, никто ничего не сказал мистеру Кридлеру о нас, и он был крайне возмущен.
Мы вместе пошли к Лагуне Подветренных Островов, и мистер Кридлер предупредил меня, что всех птиц нам придется выпустить на свободу. Я растерянно показала на белых взрослых олушей, бело-бурых двухлеток и годовиков, которые кружили у нас над головой, – они же свободны!
Ну, в таком случае их придется окольцевать. Правда, они уже носили на лапках кольца штата, а некоторые и цветные пластмассовые кольца, которые мы с Ингрид использовали для индивидуального их распознавания, но я готова была тут же переловить наших олушей – они были совсем ручными – и надеть на них еще и федеральные кольца. Федеральный инспектор как будто начал склоняться к мысли, что нам, пожалуй, можно выдать федеральное разрешение на содержание птиц, и мир, казалось, был восстановлен.
Но тут я сообразила, что должна покаяться еще в одном грехе: в дрессировочном отделе мы как раз выкармливали новую партию птенцов, чтобы водворить их в Лагуну Подветренных Островов, когда они достаточно оперяться. Мы с инспектором отправились назад и осмотрели этих птенцов. Новое потрясение для нашего нового федерального инспектора! Он явно с радостью потребовал бы, чтобы мы немедленно вернули их в родные гнезда, но мы оба понимали, что родители не станут о них заботиться. Либо выкармливать их будем мы, либо они погибнут.
Мы выработали компромисс. Птенцы будут выставлены на обозрение не раньше, чем мы получим соответствующее разрешение, выдача которого потребует нескольких недель.
В результате новые птенцы попали в Лагуну Подветренных Островов позже обычного – двое из них уже начали летать. Когда разрешение наконец пришло, мы расселили птенцов по Парку – пару в Театр Океанической Науки, пару на островок в Бухте Китобойца возле хижины и так далее. Когда и эти птицы начали летать, мы, по-видимому, поняли наконец, что именно привязывает их к родному гнездовью: дело не в том, где рос птенец, а в том, где он встал на крыло. Словно бы наши олуши в первые две недели полетов составили карту своего мирка, пометив крестиком «родной дом». Птиц, которые впервые взлетели в дрессировочном отделе или в Театре Океанической Науки, можно было увидеть, повсюду – на снастях «Эссекса», в Лагуне Подветренных Островов, над морем; но с наступлением брачного сезона они возвращались точно на то место, где впервые встали на крыло, и прилагали всяческие усилия, чтобы именно туда заманить подругу и там выращивать птенцов.
В дрессировочном отделе не было кустов, а олуши гнездятся в кустах, и потому у этих птиц ничего не получилось. Олуши в Театре Океанической Науки оказались даже в худшем положении. По-видимому, – тут я не уверена, – такое «запечатление места» присуще только самцам. Вероятно, даже сейчас, если вы посетите парк «Жизнь моря» в феврале, вы увидите, как эти два самца взлетают на крышу Театра Океанической Науки и вновь вылетают наружу, тщетно пытаясь убедить самок, которые отказываются следовать за ними дальше края бассейна, что нет на свете места для гнезда лучше, чем их «родные», сваренные из труб перила!
Мне никогда не приедалось зрелище кружащих над Парком олушей. Это великолепные летуны.
По моему твердому убеждению, вполне возможно, по крайней мере теоретически, выдрессировать отдельных птиц так, чтобы они по команде демонстрировали элементы полета: парение, резкое пикирование, повороты через крыло, а может быть, даже «бочки» и другие фигуры высшего пилотажа, которые у них получаются вполне естественно. Иногда птица на лету чесала голову лапкой – движение очень забавное, которое так и хотелось закрепить. Однако практические трудности оказались непреодолимыми: все сразу же уперлось в то, что мы не нашли надежного способа метить птиц так, чтобы можно было в полете различать, кто есть кто, и разбирать, у кого и что закреплять.
На земле нам кое-чего удалось добиться. Некоторые птицы научились развертывать по команде крылья или вспрыгивать на руку дрессировщика, спокойно позволяя носить себя и фотографировать. Удалось отработать и кое-какие групповые номера. Птицы усвоили, когда во время представления в Бухте Китобойца их кормят, а когда нет. И вот вскоре после начала представления наступала магическая минута; почти все олуши, которые в этот день оставались в окрестностях Парка, начинали кружить против часовой стрелки над пирогой, выхватывая рыбу из рук гавайской девушки. Затем, когда она причаливала к островку, птицы вытягивались в одну линию и проносились над ней на бреющем полете, а она бросала им рыбу в воздух. После чего олуши улетали на Лагуну или рассаживались по снастям «Эссекса».
Конечно, от них бывают и неприятности. Они щедро заляпывают «Эссекс», а иногда и посетителей белым, воняющим рыбой пометом. Они способны и клюнуть – не опасно, но до крови. У каждого дрессировщика, который выращивал олушей или кормил их из рук, остаются на память об этом маленькие шрамы. Гейлорд Диллингем, студент, одно лето работавший в Парке, вошел в его историю, лихо исполнив на вечеринке «хулу кормления птиц», как он выразился: он ритуализированными жестами гавайской хулы воспроизвел все неудобства этой обязанности, – начиная с попыток очищать покрытые рыбьей чешуей руки еще и от перьев и кончая увертыванием от сердитых клевков. И, тем не менее, поразительная красота полета олушей стоит того, чтобы показывать это зрителям, а для биолога эта уникальная гнездовая колония искупает любые неудобства и неприятности.
7. Исследования и исследователи
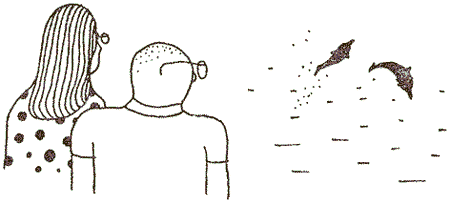
В 1968 году Кен Норрис переехал с семьей на Гавайи, поселился по соседству с нами и принял на себя руководство Океаническим институтом. Институт к этому времени завершил строительство прекрасного двухэтажного лабораторного корпуса, бассейнов для дельфинов, библиотеки, а также набрал штат сотрудников. Все мы, знакомые Норрисов, были в восторге от их приезда.
Таких веселых, душевно щедрых, неугомонных и милых друзей, как Кен и Филлис Норрисы, на свете, наверное, больше не существует. У них четверо на редкость привлекательных детей, и их дом, где бы они ни жили, всегда полон музыки, гуппи, подушек, кофейных чашек, трезвонящих телефонов, студентов, растений, птиц (и в клетках и на свободе), сонных кошек, которые не трогают птиц, лающих собак и всяческих столярных замыслов.
Филлис – ботаник, специалист по морским растениям, а Кен пользуется мировой известностью как знаток китообразных, ящериц, экологии пустынь и еще многого другого, но ведет он себя совсем не как универсальная знаменитость: так, просто босоногий биолог и только. Тем не менее он вполне способен повязать галстук, поехать в Вашингтон и вернуться оттуда с деньгами. Интеллект у него могучий, осведомленность широчайшая, и с ним часто консультируются по вопросам, в которых скрещиваются интересы науки и государства. Кроме того, он лихо пьет пиво, играет на гитаре и умеет преподавать так увлекательно, что подтолкнул специализироваться в естественных науках не один десяток студентов.
Кен – искусный мастер и художник, очень оригинальный и с большим чувством юмора. Гавайский дом Норрисов украшали лестничные перила, вырезанные из изогнутого ребра кашалота (попробуйте-ка получить на это разрешение строительного бюро!), и огромная аппликация, изображавшая чилийский порт Сантьяго и созданная Кеном и его детьми из всевозможных обломков и мусора, подобранных там на морском берегу.
Еще до переезда Кен провел на Гавайях не одно долгое лето, занимаясь исследованиями дельфинов. Когда же он обосновался там надолго, главной его задачей было руководить Институтом, тем не менее он продолжал изучать эхолокацию у китообразных и вести наблюдения за стадом диких вертящихся продельфинов, базируясь на Большом Острове, как часто называют остров Гавайи.
Бесспорно, китообразные принадлежат к животным, которых особенно трудно наблюдать в естественной среде обитания. Можно устроиться на горном уступе и вести в бинокль наблюдение за повседневной жизнью карибу. Можно следовать за стадом слонов, можно подружиться с дикими шимпанзе, как несравненная Джейн Гудолл, или устроить себе логово рядом с волчьим, как Фарли Моуэт. Можно построить убежище посреди гнездовой колонии и экспериментировать с птенцами чаек, как Нико Тинберген, или пометить отдельные особи в колонне бродячих муравьев и наблюдать поведение каждого из них, как Теодор Шнейрла. Но дельфины по большей части остаются невидимыми и постоянно перемещаются. Ни катер, ни пловец не способны следовать за ними долго, а кроме того, любое приближающееся к ним судно нарушает обычное течение их жизни, искажая как раз то, что вы хотите наблюдать неискаженным. Каким же образом получить верное представление о их жизни и поведении?
В мире насчитывается по меньшей мере тридцать видов дельфинов. Одни обитают лишь в определенных местах, как, например, гавайские вертуны, которые, по-видимому, водятся только в гавайских водах. Другие, как например, кико, встречаются по всему Тихому океану. А некоторые, вроде стено, живут чуть ли не по всему миру. Медленно накапливающиеся полевые наблюдения дают немало полезной информации. Жорж тщательно записывал каждую свою встречу с дельфинами, и эти записи позволяют заключить, что поблизости от Гавайских островов афалины плавают стадами от 3–4 до 20 особей и что эти стада либо обитают далеко в море, либо заглядывают в наши воды по пути куда-то еще – так сказать, «транзитом». А вот вертуны живут стадами по шестьдесят и более особей и имеют свои территории, которые патрулируют и в которых остаются постоянно. Одно стадо «владеет» водами у восточного побережья острова Оаху, еще одно – у северного его побережья, а третье обычно можно наблюдать где-нибудь за Ваикики. Предположительно в водах островов Гавайи, Мауи, Кауаи и Молокаи тоже имеются свои стада.
Когда «Имуа» приближался к вертунам, Жорж Жильбер с первого взгляда узнавал, какое перед ним стадо. Дело в том, что у этих популяций имеются свои заметные различия. Например, в некоторых стадах клюв в среднем чуть длиннее или же число зубов в среднем больше – открытие, довольно-таки неприятное для систематиков, поскольку число зубов принято считать стойкой видовой характеристикой.
Однако наблюдатель, менее опытный, чем Жорж, практически не в состоянии вновь узнать конкретное стадо; он, возможно, не сумеет даже определить, к какому виду принадлежат эти дельфины. Рыбаки и моряки часто встречают дельфинов, но изгибающиеся спины с треугольными плавниками все выглядят примерно одинаково. И розовой мечтой остается такая сделанная рыбаком запись: «Около 40 Tursiops gilli; широта такая-то, долгота такая-то, час и дата такие-то». В лучшем случае нам сообщают: «Видели больших дельфинов, видели маленьких дельфинов, у некоторых на боках были пятна». Нередко единственным реальным доказательством того, что данный вид обитает в данных водах, служат оказавшиеся на берегу или загарпуненные особи. Большая часть того, что мы знаем о распространении и распределении видов, опирается на мертвые экземпляры, ценой немалых трудов приобретенные музеями.
