Страница:
Красоты этого мира – а, как утверждают, вокруг нас их огромное количество – доступны только его обитателям. Таким образом, бо́льшая часть дворца красоты закрыта для тех, кто не принадлежит к касте ученых, что противоречит современным демократическим ценностям и попахивает снобизмом.
Третье и наиболее основательное возражение – «аргумент от искушения». Ученые говорят, что их работа состоит в открытии действующих теорий и что, если кого-то начнет по-настоящему заботить проблема создания прекрасных экспериментов, это в лучшем случае может отвлечь от более серьезной работы, а в худшем – станет просто опасным18. Ученые, дескать, начнут насиловать свой интеллект, заставляя его учитывать «красоту», тем самым снижая научную эффективность. Только люди, безразличные к эстетическому, по-настоящему готовы к проведению глубокой и результативной исследовательской работы. А у тех, кто непосредственно не занимается научными исследованиями, могут возникнуть подозрения, что все эти разговоры о красоте в науке суть не только поверхностные сантименты, но, по сути дела, являются скрытой рекламой с целью воздействия на общественное мнение.
Подобная точка зрения имеет веские основания. Образы, которые я обычно встречал в контекстах, посвященных красоте науки, возникли не в научных лабораториях, а в отделах исследовательских институтов, занимающихся связями с общественностью. Однажды я присутствовал на докладе, где последний слайд демонстрировал знаменитую фотографию Земли, восходящей над поверхностью Луны. Образ, безусловно, очень красивый. Однако несмотря на то, что в течение нескольких десятилетий эта фотография прекрасно выполняла свои рекламные функции для НАСА, астрономы никогда не рассматривали ее как источник научной информации.
Все три перечисленных возражения проистекают из полнейшего непонимания сущности красоты. Первое из них путает красоту с декоративностью. Самый простой способ утратить правильное понимание того, что такое красота в науке, – это начать эстетизировать эксперимент, обращая внимание лишь на его внешние проявления. Но подлинная красота эксперимента заключается в том, как он демонстрирует свою идею. Как мы увидим в дальнейшем, красота experimentum crucis Ньютона не имеет никакого отношения к цветам, получаемым с помощью призмы, но заключена в изяществе, с которым этот эксперимент раскрывает структуру света. Красота эксперимента Кавендиша со взвешиванием мира не имеет отношения к внешнему облику его чудовищного инструментария, но воплощена в предельной точности результата. А красота эксперимента Юнга проистекает не из банального узора черных и белых полос, а из того, каким образом он раскрывает сущностные характеристики света.
Второе возражение, подобно первому, упускает из виду, насколько тесно связано наше восприятие (основанное, конечно, на обширной интеллектуальной информации) с нашими чувствами. Мы не tabulae rasae[3] ни в научной лаборатории, ни в художественной галерее. Мы оцениваем красоту живописи, музыки, поэзии не на основе «чистого» восприятия, а восприятия «подготовленного», детерминируемого нашим прошлым интеллектуальным опытом. И мы часто неспособны ощутить красоту простых вещей, восприятие которых не требует от нас «большого напряжения интеллекта» (к примеру, в одном из стихотворений Пабло Неруды «Ода моим носкам» воспевается красота этой скромной части нашего гардероба).
Усилие, необходимое для понимания красоты экспериментов – а для понимания красоты тех десяти экспериментов, что включены в эту книгу, особого усилия и не требуется, – невеликое препятствие. Гораздо большим препятствием может стать склонность рассматривать все вокруг нас исключительно с прагматической точки зрения, как инструменты для достижения неких определенных целей. Возможно, наша способность воспринимать красоту попросту дремлет и ее нужно только разбудить. И как писала Уилла Кэсер, «красоты вокруг нас не так много, чтобы можно было полениться отступить на десяток шагов назад для лучшего ее восприятия»19.
Третье возражение самое сильное и глубокое. Оно восходит к древнему конфликту между искусством и разумом, возникшему задолго до Платона. Это разновидность опасения, что люди гораздо легче и охотнее ловятся на крючок внешней привлекательности, чем на доводы рассудка. По мнению Платона, изложенному в диалоге «Государство», искусства призваны удовлетворять страстям человека, а не служить его разуму, «потакая неразумному началу души», и таким образом вводят нас в заблуждения20.
Блаженный Августин также видел опасность в способности чувств возобладать над разумом, предупреждал о соблазнах, таящихся даже в церковной музыке, и признавался, что его порой «больше трогает пение, чем то, о чем поется, и я каюсь в прегрешении; я заслужил наказания и предпочел бы вовсе не слышать пения»21.
Посыл третьего возражения сродни идее страшного рассказа: бойся волшебной и искусительной силы образов, держись разума и логики. Многие ориентированные на логику философы, таким образом, разводят или даже напрямую противопоставляют истину и красоту. «Вопрос об истинности, – писал логик Готлоб Фреге в одной из своей работ, – уводит нас из сферы художественного восприятия в сферу научных изысканий»22.
Ответ на это, третье, возражение подводит нас к самой сути науки и искусства. Нам потребуется обратиться не к логическим и математическим моделям, а к философским традициям. Эти традиции исходят из более фундаментального понимания истины как раскрытия явления, а не просто точного воспроизведения явления (как часто подчеркивал Хайдеггер, буквальное значение греческого слова άλήθεια («истина») – нескрытое). В рамках подобных традиций научное исследование по своей сути связано с красотой. Красота – это не какая-то волшебная сила, существующая независимо от процесса раскрытия истины, она сопровождает его, она в каком-то смысле бессознательный побочный продукт науки. Красота – это инструмент достижения нового основания реальности, высвобождения нашего интеллекта, углубления нашей связи с природой. И в таком понимании красота должна быть противопоставлена элегантности, для которой не нужны никакие новые основания реальности23: «Красота характеризует взаимную подгонку между объектом, открывающим новое основание реальности, и нашей готовностью принять то, что открывается»24.
Но соответствует ли подобным требованиям эксперимент Эратосфена?
Этот эксперимент можно рассматривать абстрактно, как версию глобальной локационной системы, этакий GPS III века до н. э., как вариант решения проблемы квантования или просто как интеллектуальное упражнение. Именно так и рассматривали его большинство моих одноклассников на уроках в средней школе, и именно так и представлял нам его наш учитель. Но чтобы воспринимать его таким образом, надо прежде всего удушить собственное воображение с помощью всеподчиняющего желания во что бы то ни стало найти правильный ответ, с помощью традиционной скучнейшей методики преподавания естественных наук и с помощью нашей привычки к фотографиям, сделанным со спутника. Чаще всего мы не обращаем внимания на тени, эти эпифеномены света, или, отметив их краем глаза и мимолетно подумав: «Как мило!», проходим мимо. Однако эксперимент Эратосфена показывает нам, что каждая тень на залитой солнцем земле связана со всеми другими тенями в некое постоянно меняющееся целое. Размышление над экспериментом Эратосфена должно стимулировать, а не угнетать наше воображение и, нарушая привычное восприятие мира, заставлять нас останавливаться и задумываться над тем, какое место во Вселенной мы занимаем. Эксперимент Эратосфена должен вернуть нам способность удивляться тому, как чудесно устроен наш мир.
Если мы относимся к красоте серьезно, то эксперимент Эратосфена воистину прекрасен. Подобно другим объектам прекрасного, он одновременно является объектом эстетического наслаждения и источником новых, глубинных знаний о сущности Вселенной.
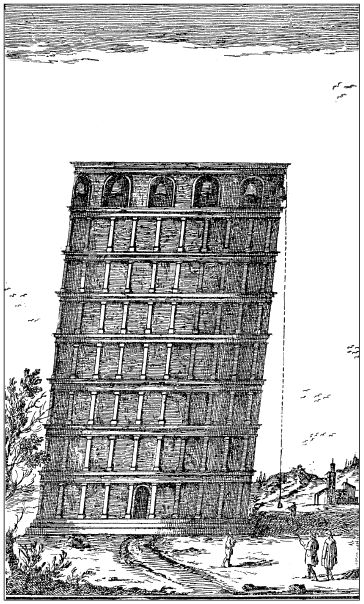
Рис. 4. «Падающая башня» в Пизе
Глава 2.
Легенда о «Падающей башне»
В объективе камеры руки Скотта, в одной из которых он действительно держит перышко, а в другой – молоток. Затем камера показывает нам всех участников экспедиции «Аполлон-15» – команду, известную под кодовым названием «Сокол».
Скотт: И мы подумали, что лучше всего попытаться повторить его здесь. Перышко у меня в руке, как вы понимаете, соколиное – в честь нашего «Сокола». Я брошу оба предмета в надежде, что они упадут на поверхность Луны одновременно.
Скотт бросает молоток и перо, они падают и примерно через секунду более или менее одновременно опускаются на лунную поверхность.
Скотт: Смотрите-ка! Галилей был совершенно прав25.
Галилей (1564–1642) родился в Пизе, в музыкальной семье. Его отец, Винченцо, был известным композитором и лютнистом, склонным к разнообразному экспериментированию. Он проводил опыты с музыкальным интонированием, интервалами, настройкой инструментов, всякий раз подчеркивая преимущество эмпирических данных над авторитетом древних мыслителей. Его сын унаследовал от отца сильную волю и настойчивость. Биограф Галилея Стиллман Дрейк называет две ключевые черты его личности, которые, по мнению Дрейка, стали основой его научного успеха. Во-первых, это был «бойцовский характер» Галилея, благодаря которому ученый не только не боялся каких бы то ни было конфликтов, но даже стремился к ним, чтобы «ниспровергнуть традицию и отстоять свою точку зрения». Во-вторых, личность Галилея как бы балансировала между двумя крайностями темперамента. С одной стороны, «он получал огромное удовольствие от наблюдения за вещами в окружающем мире, отмечал сходства и связи между ними, делал обобщения, не обращая особого внимания на явные исключения и аномалии». С другой же стороны, «его мучили любые необъясненные отклонения от правила, и он даже часто предпочитал полное отсутствие правила такому, которое не работало с идеальной математической точностью».
Обе эти черты характера очень важны в науке, и все ученые в той или иной мере обладают ими обеими, но в большинстве случаев какая-то одна из них преобладает. Особенность темперамента Галилея, по мнению Дрейка, как раз и состояла в том, что обе крайности имели над ним одинаковую власть26. Кроме того, большое значение для успешности научной деятельности Галилея имел литературный талант, которым он, несомненно, обладал и с помощью которого мог убеждать своих читателей и слушателей.
Галилей поступил в Пизанский университет, вероятно, осенью 1580 года с намерением изучать медицину, однако его сразу же увлекла математика. В 1589 году он получил должность преподавателя в университете и начал изучать особенности движения падающих тел. В Пизанском университете он преподавал три года. Эксперимент на Пизанской башне, скорее всего, имел место именно в этот период. В 1592 году Галилей перебрался в Падую, где прожил восемнадцать лет и сделал бо́льшую часть своих важнейших научных открытий, включая и постройку телескопа. С помощью изобретенного им телескопа он первым увидел спутники Юпитера. Именно эти наблюдения стали причиной горячей научной полемики, так как противоречили системе Птолемея (согласно которой Солнце вращается вокруг Земли), а также аристотелевской концепции движения и, напротив, подтверждали основные положения системы Коперника (согласно которой Земля вращается вокруг Солнца).
В Падуе Галилей также прославился своими впечатляющими демонстрациями физических законов. Он читал лекции перед аудиторией в две тысячи слушателей. В 1610 году Галилей переехал во Флоренцию ко двору великого герцога Тосканского. В 1616 году доктрина Коперника была признана еретической, и Галилей получил предупреждение никак ее «не поддерживать и не защищать», однако шестнадцать лет спустя, в 1632-м, опубликовал блестящую работу «Диалог о двух главнейших системах мира, Птолемеевой и Коперниковой», которая, несмотря на то что была одобрена флорентийской цензурой, воспринималась всеми как мощное доказательство правоты Коперника.
В 1633 году по приказанию папы Галилея вызвали в Рим, где он предстал перед церковным трибуналом и был вынужден заявить, что «отрекается и проклинает, возненавидев» свои ошибочные взгляды. Его приговорили к домашнему аресту, и свои последние годы Галилей провел в Арчетри, пригороде Флоренции. Незадолго до смерти Галилея у него появился верный ученик, многообещающий юный математик по имени Винченцо Вивиани, ставший также и усердным секретарем ученого, к тому времени уже совершенно ослепшего. Именно Вивиани Галилей доверял воспоминания и размышления своих последних лет. Вивиани, посвятивший свою жизнь сохранению памяти Галилея, написал первую биографию великого ученого.
Многие знаменитые легенды о жизни Галилея восходят к этой биографии, исполненной глубокого и искреннего чувства уважения к учителю. Одна из них – история о том, как Галилей, еще будучи студентом-медиком в 1581 году, измерял период качаний люстры в баптистерии Пизанского собора по ударам собственного пульса и обнаружил, что они остаются изохронными при затухании колебаний. Современные историки уточняют, что люстру, которая висит в соборе сегодня, повесили там лишь в 1587 году, однако ее предшественница, какой бы она ни была, без всякого сомнения, подчинялась тем же законам физики, что и нынешняя. Самая знаменитая легенда Вивиани повествует о том, как Галилей взобрался на самый верх Пизанской башни и «в присутствии других наставников, философов и всех студентов» с помощью «несколько раз повторенных экспериментов» продемонстрировал, что «скорость тел одинакового состава, но различного веса, движущихся в одной и той же среде, вовсе не прямо пропорциональна их весу, как утверждал Аристотель, а, напротив, одинакова»27.
В своих собственных трудах Галилей выдвигает аргументы разного плана с использованием логики, мысленных экспериментов, аналогий для доказательства того, что два предмета разного веса в вакууме будут падать с одинаковой скоростью. Он не упоминает о Пизанской башне, зато сообщает о проведении «испытания под открытым небом» с пушечным ядром и мушкетной пулей, в ходе которого выяснилось, что, как правило, оба снаряда приземляются практически одновременно. Вивиани в своих воспоминаниях вообще не упоминает об этом эксперименте, зато он единственный, кто рассказывает об эпизоде с Пизанской башней, и это заставляет многих историков науки усомниться, что эксперимент на башне вообще имел место.
На самом деле не столь уж и важно, проводил Галилей эксперимент на Пизанской башне или нет, гораздо важнее его интеллектуальный переход в ходе анализа особенностей движения от аристотелевского к собственному взгляду на мир. Философия природы, которая была разработана Аристотелем и в которую входили его анализ движения и то, что мы называем его физикой, представляла собой довольно логичную, очень продуманную систему, основанную на идее неподвижной Земли, находящейся в центре мироздания, и окружающей ее небесной сферы, в которой предметы ведут себя совершенно иначе, нежели на Земле. Галилей бросил вызов аристотелевской системе, усомнившись сразу в обеих ее важнейших составляющих: в идее неподвижной Земли и в представлении Аристотеля о движении тел на Земле.
Основным принципом аристотелевского представления о Вселенной было то, что небо и Земля – это две абсолютно различные сферы, состоящие из разных субстанций и управляемые разными законами. Движение небесных тел упорядоченное, математически точное и регулярное, в то время как движение земных тел хаотичное и нерегулярное и описывать его можно только качественно, но не количественно. Более того, характер движения тел на Земле определялся их тенденцией отыскать свое «естественное место». Для плотных тел таковым является движение вниз, к центру Земли. Таким образом, Аристотель различал неестественное движение тяжелых объектов вверх, так называемое «насильственное движение», и их «естественное движение», направленное вниз.
Аристотель, наблюдая за движением падающих тел, обнаружил, что их скорость различна в разных средах и зависит от того, являются ли данные среды «тонкими», как воздух, или «плотными», как жидкости. Он заметил, что тела, падая, достигают некой постоянной скорости и что эта скорость прямо пропорциональна их весу. Эти представления вполне согласуются с нашим повседневным опытом. Если мы бросим из окна мячик для гольфа и мячик для тенниса, то мячик для гольфа будет падать быстрее и упадет на землю первым. Если же мы бросим мячик для гольфа в бассейне, ему потребуется больше времени, чтобы достигнуть дна, чем в ходе падения из окна на землю. Стальной же шар в таком соревновании в бассейне опередит его. Ну и конечно, молоток в любом случае приземлится гораздо быстрее перышка.
Аристотель кодифицировал свои выводы в то, что современные философы науки называют научной парадигмой. Она выстраивалась на основе повседневных явлений, которые он пытался объяснить. Например, некий агент (лошадь), приводящий в движение некое тело (телегу) сталкивается с препятствиями (трением и другими видами сопротивления). В подобных обычных обстоятельствах движение почти всегда представляет собой баланс между силой и сопротивлением ей. Таким образом, Аристотель подходил к проблеме падения тел с точки зрения баланса сил: природная сила (естественная тенденция, которая, по его мнению, влекла тела к центру Вселенной) уравновешивалась сопротивлением (различной степенью плотности – мы сказали бы «вязкости» – среды, в которой они движутся). Аристотель также пришел к выводу, что при отсутствии сопротивления среды скорость падающих тел должна быть бесконечной.
Однако в концепции движения Аристотеля не нашлось места для ускорения. Ученые заметили это упущение великого греческого философа задолго до Галилея. Уже в шестом веке нашей эры византийский ученый Иоанн Филопон писал об экспериментах, опровергавших учение Аристотеля:
В 1586 году, незадолго до того, как Галилей отправился в Падую, его современник фламандский математик Симон Стевин описал эксперименты, опровергавшие систему Аристотеля. Стевин бросал два свинцовых шара, один из которых был в десять раз тяжелее второго, с высоты в тридцать футов на дощатую поверхность, и в момент, когда шар приземлялся, был слышен звук удара. «И выяснилось, – писал Стевин, – что более легкий [шар] летел не в десять раз дольше, чем более тяжелый, а что они оба упали совершенно в одно время, так что оба звука от их падения слились в один удар»29. Короче говоря, Аристотель ошибался.
Во времена Галилея несколько итальянских ученых шестнадцатого столетия также описывали эксперименты с падающими телами, результаты которых противоречили положениям аристотелевской теории. Среди них был профессор Пизанского университета (преподававший в нем, когда там учился Галилей) по имени Джироламо Борро. Он писал, что несколько раз «подбрасывал» – Борро употребляет весьма двусмысленный глагол – тела одинакового веса, но разного размера и плотности и всякий раз, к своему изумлению, обнаруживал, что более плотные из них падали медленнее других30.
Подобно исследованиям всех великих ученых, чьи научные интересы отличались чрезвычайной широтой, исследования Аристотеля, конечно, не были свободны от ошибок и заблуждений. Но до Галилея большинство европейских мыслителей не рассматривали эти недостатки как нечто серьезное. Принципиальным достижением Галилея стала демонстрация того, что аристотелевская теория движения должна рассматриваться в контексте научной картины мира, включающей далеко не только проблему падения тел. И что теория движения, которая могла бы адекватно объяснить поведение падающих тел, должна включать понятие ускорения, а это, в свою очередь, требует создания принципиально иной картины мира.
Аристотелю было известно, что при падении тела набирают скорость (ускоряются), но он полагал, что для свободного падения это неважно. Он рассматривал ускорение как случайную и незначимую характеристику движения, которая имеет место между моментом начала движения тела и тем мгновением, когда оно достигает своей «естественной» скорости. Поначалу Галилей также разделял эту точку зрения. Однако со временем он пришел не только к пониманию важности феномена ускорения, но и к выводу, что ускорение нельзя просто «добавить» в систему Аристотеля. Если аристотелевская теория падения тел неверна, то ее невозможно «слегка подправить», ее необходимо полностью заменить другой теорией.
Галилей далеко не сразу пришел к такому заключению. Начинал он с предположения (считавшегося тогда вполне естественным), что Аристотель был во всем прав. И отдельные свидетельства обратного не могли заставить его сразу изменить свою точку зрения. К революционному пересмотру своих взглядов он пришел в результате целого ряда научных изысканий: как астрономических, так и вполне «наземных», включавших изучение движения маятника и падающих тел.
В своих ранних рассуждениях о поведении падающих тел – в не опубликованной при жизни рукописи «О движении» (написанной, вероятно, в первые годы работы в Пизанском университете) – Галилей придерживается точки зрения Аристотеля: тела падают со скоростью, зависящей от их плотности; это одно из наиболее «общих правил, руководящих соотношением скоростей [естественного] движения тел». Шар из золота должен падать со скоростью в два раза большей, чем шар такой же величины, сделанный из серебра, так как плотность первого почти в два раза превышает плотность второго. Очевидно, Галилей попытался проверить данное утверждение экспериментально, но, к своему удивлению и разочарованию, увидел, что правило не работает. Он пишет:
Тем не менее через несколько лет Галилей изменил свою точку зрения на проблему падения тел и полностью отказался от принципов Аристотеля. Исследовательский процесс, который привел его к этому, был достаточно сложен и включал много различных экспериментов и теоретических размышлений, которые касались отнюдь не только движения земных тел. Многое в цепи его рассуждений было восстановлено исследователями научного творчества Галилея в ходе тщательного постраничного анализа его записных книжек. В своих книгах «Диалог о двух главнейших системах мира, Птолемеевой и Коперниковой» (1632) и «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых областей науки» (1638) Галилей предлагает серию аргументов относительно поведения падающих тел. Они представлены не очень привычным для нас способом: каждая книга состоит из длинных бесед, продолжающихся в течение нескольких дней между тремя собеседниками: Сальвиати, выражающим мысли самого Галилея; Симпличио (его имя означает «Простоватый»), который представляет аристотелевскую позицию и, возможно, ранние взгляды самого Галилея; и Сагредо, человека образованного и к тому же наделенного здравым смыслом.
Третье и наиболее основательное возражение – «аргумент от искушения». Ученые говорят, что их работа состоит в открытии действующих теорий и что, если кого-то начнет по-настоящему заботить проблема создания прекрасных экспериментов, это в лучшем случае может отвлечь от более серьезной работы, а в худшем – станет просто опасным18. Ученые, дескать, начнут насиловать свой интеллект, заставляя его учитывать «красоту», тем самым снижая научную эффективность. Только люди, безразличные к эстетическому, по-настоящему готовы к проведению глубокой и результативной исследовательской работы. А у тех, кто непосредственно не занимается научными исследованиями, могут возникнуть подозрения, что все эти разговоры о красоте в науке суть не только поверхностные сантименты, но, по сути дела, являются скрытой рекламой с целью воздействия на общественное мнение.
Подобная точка зрения имеет веские основания. Образы, которые я обычно встречал в контекстах, посвященных красоте науки, возникли не в научных лабораториях, а в отделах исследовательских институтов, занимающихся связями с общественностью. Однажды я присутствовал на докладе, где последний слайд демонстрировал знаменитую фотографию Земли, восходящей над поверхностью Луны. Образ, безусловно, очень красивый. Однако несмотря на то, что в течение нескольких десятилетий эта фотография прекрасно выполняла свои рекламные функции для НАСА, астрономы никогда не рассматривали ее как источник научной информации.
Все три перечисленных возражения проистекают из полнейшего непонимания сущности красоты. Первое из них путает красоту с декоративностью. Самый простой способ утратить правильное понимание того, что такое красота в науке, – это начать эстетизировать эксперимент, обращая внимание лишь на его внешние проявления. Но подлинная красота эксперимента заключается в том, как он демонстрирует свою идею. Как мы увидим в дальнейшем, красота experimentum crucis Ньютона не имеет никакого отношения к цветам, получаемым с помощью призмы, но заключена в изяществе, с которым этот эксперимент раскрывает структуру света. Красота эксперимента Кавендиша со взвешиванием мира не имеет отношения к внешнему облику его чудовищного инструментария, но воплощена в предельной точности результата. А красота эксперимента Юнга проистекает не из банального узора черных и белых полос, а из того, каким образом он раскрывает сущностные характеристики света.
Второе возражение, подобно первому, упускает из виду, насколько тесно связано наше восприятие (основанное, конечно, на обширной интеллектуальной информации) с нашими чувствами. Мы не tabulae rasae[3] ни в научной лаборатории, ни в художественной галерее. Мы оцениваем красоту живописи, музыки, поэзии не на основе «чистого» восприятия, а восприятия «подготовленного», детерминируемого нашим прошлым интеллектуальным опытом. И мы часто неспособны ощутить красоту простых вещей, восприятие которых не требует от нас «большого напряжения интеллекта» (к примеру, в одном из стихотворений Пабло Неруды «Ода моим носкам» воспевается красота этой скромной части нашего гардероба).
Усилие, необходимое для понимания красоты экспериментов – а для понимания красоты тех десяти экспериментов, что включены в эту книгу, особого усилия и не требуется, – невеликое препятствие. Гораздо большим препятствием может стать склонность рассматривать все вокруг нас исключительно с прагматической точки зрения, как инструменты для достижения неких определенных целей. Возможно, наша способность воспринимать красоту попросту дремлет и ее нужно только разбудить. И как писала Уилла Кэсер, «красоты вокруг нас не так много, чтобы можно было полениться отступить на десяток шагов назад для лучшего ее восприятия»19.
Третье возражение самое сильное и глубокое. Оно восходит к древнему конфликту между искусством и разумом, возникшему задолго до Платона. Это разновидность опасения, что люди гораздо легче и охотнее ловятся на крючок внешней привлекательности, чем на доводы рассудка. По мнению Платона, изложенному в диалоге «Государство», искусства призваны удовлетворять страстям человека, а не служить его разуму, «потакая неразумному началу души», и таким образом вводят нас в заблуждения20.
Блаженный Августин также видел опасность в способности чувств возобладать над разумом, предупреждал о соблазнах, таящихся даже в церковной музыке, и признавался, что его порой «больше трогает пение, чем то, о чем поется, и я каюсь в прегрешении; я заслужил наказания и предпочел бы вовсе не слышать пения»21.
Посыл третьего возражения сродни идее страшного рассказа: бойся волшебной и искусительной силы образов, держись разума и логики. Многие ориентированные на логику философы, таким образом, разводят или даже напрямую противопоставляют истину и красоту. «Вопрос об истинности, – писал логик Готлоб Фреге в одной из своей работ, – уводит нас из сферы художественного восприятия в сферу научных изысканий»22.
Ответ на это, третье, возражение подводит нас к самой сути науки и искусства. Нам потребуется обратиться не к логическим и математическим моделям, а к философским традициям. Эти традиции исходят из более фундаментального понимания истины как раскрытия явления, а не просто точного воспроизведения явления (как часто подчеркивал Хайдеггер, буквальное значение греческого слова άλήθεια («истина») – нескрытое). В рамках подобных традиций научное исследование по своей сути связано с красотой. Красота – это не какая-то волшебная сила, существующая независимо от процесса раскрытия истины, она сопровождает его, она в каком-то смысле бессознательный побочный продукт науки. Красота – это инструмент достижения нового основания реальности, высвобождения нашего интеллекта, углубления нашей связи с природой. И в таком понимании красота должна быть противопоставлена элегантности, для которой не нужны никакие новые основания реальности23: «Красота характеризует взаимную подгонку между объектом, открывающим новое основание реальности, и нашей готовностью принять то, что открывается»24.
Но соответствует ли подобным требованиям эксперимент Эратосфена?
Этот эксперимент можно рассматривать абстрактно, как версию глобальной локационной системы, этакий GPS III века до н. э., как вариант решения проблемы квантования или просто как интеллектуальное упражнение. Именно так и рассматривали его большинство моих одноклассников на уроках в средней школе, и именно так и представлял нам его наш учитель. Но чтобы воспринимать его таким образом, надо прежде всего удушить собственное воображение с помощью всеподчиняющего желания во что бы то ни стало найти правильный ответ, с помощью традиционной скучнейшей методики преподавания естественных наук и с помощью нашей привычки к фотографиям, сделанным со спутника. Чаще всего мы не обращаем внимания на тени, эти эпифеномены света, или, отметив их краем глаза и мимолетно подумав: «Как мило!», проходим мимо. Однако эксперимент Эратосфена показывает нам, что каждая тень на залитой солнцем земле связана со всеми другими тенями в некое постоянно меняющееся целое. Размышление над экспериментом Эратосфена должно стимулировать, а не угнетать наше воображение и, нарушая привычное восприятие мира, заставлять нас останавливаться и задумываться над тем, какое место во Вселенной мы занимаем. Эксперимент Эратосфена должен вернуть нам способность удивляться тому, как чудесно устроен наш мир.
Если мы относимся к красоте серьезно, то эксперимент Эратосфена воистину прекрасен. Подобно другим объектам прекрасного, он одновременно является объектом эстетического наслаждения и источником новых, глубинных знаний о сущности Вселенной.
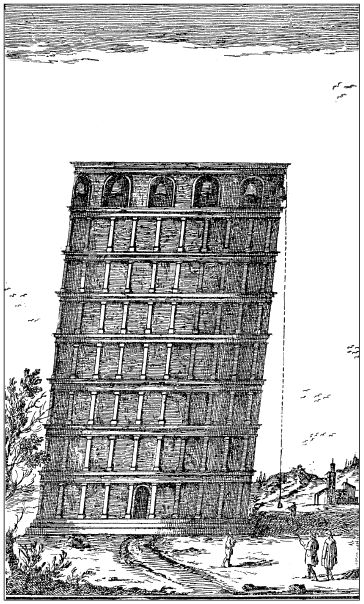
Рис. 4. «Падающая башня» в Пизе
Глава 2.
Бросая мяч
Легенда о «Падающей башне»
Поверхность Луны, 2 августа 1971 года
Командир корабля Дэвид Р. Скотт: В левой руке у меня перышко, а в правой – молоток. Насколько мне известно, одним из тех, благодаря кому мы оказались сегодня здесь, был джентльмен по имени Галилей, живший давным-давно и сделавший очень важное открытие относительно падения тел в гравитационных полях. И мы решили: вряд ли найдется лучшее место, чтобы подтвердить правильность его открытий, чем Луна.В объективе камеры руки Скотта, в одной из которых он действительно держит перышко, а в другой – молоток. Затем камера показывает нам всех участников экспедиции «Аполлон-15» – команду, известную под кодовым названием «Сокол».
Скотт: И мы подумали, что лучше всего попытаться повторить его здесь. Перышко у меня в руке, как вы понимаете, соколиное – в честь нашего «Сокола». Я брошу оба предмета в надежде, что они упадут на поверхность Луны одновременно.
Скотт бросает молоток и перо, они падают и примерно через секунду более или менее одновременно опускаются на лунную поверхность.
Скотт: Смотрите-ка! Галилей был совершенно прав25.
* * *
Согласно легенде, эксперимент на Пизанской башне впервые позволил убедительно установить, что предметы разного веса падают с одинаковой скоростью. Таким образом было опровергнуто авторитетное до той поры мнение Аристотеля. Упомянутая легенда связывает это событие с конкретным человеком (итальянским математиком, физиком и астрономом Галилео Галилеем) и конкретным местом («падающая» Пизанская башня), притом считается, что данное событие было однократным. Но насколько правдива эта легенда? Какие еще вопросы с ней связаны?Галилей (1564–1642) родился в Пизе, в музыкальной семье. Его отец, Винченцо, был известным композитором и лютнистом, склонным к разнообразному экспериментированию. Он проводил опыты с музыкальным интонированием, интервалами, настройкой инструментов, всякий раз подчеркивая преимущество эмпирических данных над авторитетом древних мыслителей. Его сын унаследовал от отца сильную волю и настойчивость. Биограф Галилея Стиллман Дрейк называет две ключевые черты его личности, которые, по мнению Дрейка, стали основой его научного успеха. Во-первых, это был «бойцовский характер» Галилея, благодаря которому ученый не только не боялся каких бы то ни было конфликтов, но даже стремился к ним, чтобы «ниспровергнуть традицию и отстоять свою точку зрения». Во-вторых, личность Галилея как бы балансировала между двумя крайностями темперамента. С одной стороны, «он получал огромное удовольствие от наблюдения за вещами в окружающем мире, отмечал сходства и связи между ними, делал обобщения, не обращая особого внимания на явные исключения и аномалии». С другой же стороны, «его мучили любые необъясненные отклонения от правила, и он даже часто предпочитал полное отсутствие правила такому, которое не работало с идеальной математической точностью».
Обе эти черты характера очень важны в науке, и все ученые в той или иной мере обладают ими обеими, но в большинстве случаев какая-то одна из них преобладает. Особенность темперамента Галилея, по мнению Дрейка, как раз и состояла в том, что обе крайности имели над ним одинаковую власть26. Кроме того, большое значение для успешности научной деятельности Галилея имел литературный талант, которым он, несомненно, обладал и с помощью которого мог убеждать своих читателей и слушателей.
Галилей поступил в Пизанский университет, вероятно, осенью 1580 года с намерением изучать медицину, однако его сразу же увлекла математика. В 1589 году он получил должность преподавателя в университете и начал изучать особенности движения падающих тел. В Пизанском университете он преподавал три года. Эксперимент на Пизанской башне, скорее всего, имел место именно в этот период. В 1592 году Галилей перебрался в Падую, где прожил восемнадцать лет и сделал бо́льшую часть своих важнейших научных открытий, включая и постройку телескопа. С помощью изобретенного им телескопа он первым увидел спутники Юпитера. Именно эти наблюдения стали причиной горячей научной полемики, так как противоречили системе Птолемея (согласно которой Солнце вращается вокруг Земли), а также аристотелевской концепции движения и, напротив, подтверждали основные положения системы Коперника (согласно которой Земля вращается вокруг Солнца).
В Падуе Галилей также прославился своими впечатляющими демонстрациями физических законов. Он читал лекции перед аудиторией в две тысячи слушателей. В 1610 году Галилей переехал во Флоренцию ко двору великого герцога Тосканского. В 1616 году доктрина Коперника была признана еретической, и Галилей получил предупреждение никак ее «не поддерживать и не защищать», однако шестнадцать лет спустя, в 1632-м, опубликовал блестящую работу «Диалог о двух главнейших системах мира, Птолемеевой и Коперниковой», которая, несмотря на то что была одобрена флорентийской цензурой, воспринималась всеми как мощное доказательство правоты Коперника.
В 1633 году по приказанию папы Галилея вызвали в Рим, где он предстал перед церковным трибуналом и был вынужден заявить, что «отрекается и проклинает, возненавидев» свои ошибочные взгляды. Его приговорили к домашнему аресту, и свои последние годы Галилей провел в Арчетри, пригороде Флоренции. Незадолго до смерти Галилея у него появился верный ученик, многообещающий юный математик по имени Винченцо Вивиани, ставший также и усердным секретарем ученого, к тому времени уже совершенно ослепшего. Именно Вивиани Галилей доверял воспоминания и размышления своих последних лет. Вивиани, посвятивший свою жизнь сохранению памяти Галилея, написал первую биографию великого ученого.
Многие знаменитые легенды о жизни Галилея восходят к этой биографии, исполненной глубокого и искреннего чувства уважения к учителю. Одна из них – история о том, как Галилей, еще будучи студентом-медиком в 1581 году, измерял период качаний люстры в баптистерии Пизанского собора по ударам собственного пульса и обнаружил, что они остаются изохронными при затухании колебаний. Современные историки уточняют, что люстру, которая висит в соборе сегодня, повесили там лишь в 1587 году, однако ее предшественница, какой бы она ни была, без всякого сомнения, подчинялась тем же законам физики, что и нынешняя. Самая знаменитая легенда Вивиани повествует о том, как Галилей взобрался на самый верх Пизанской башни и «в присутствии других наставников, философов и всех студентов» с помощью «несколько раз повторенных экспериментов» продемонстрировал, что «скорость тел одинакового состава, но различного веса, движущихся в одной и той же среде, вовсе не прямо пропорциональна их весу, как утверждал Аристотель, а, напротив, одинакова»27.
В своих собственных трудах Галилей выдвигает аргументы разного плана с использованием логики, мысленных экспериментов, аналогий для доказательства того, что два предмета разного веса в вакууме будут падать с одинаковой скоростью. Он не упоминает о Пизанской башне, зато сообщает о проведении «испытания под открытым небом» с пушечным ядром и мушкетной пулей, в ходе которого выяснилось, что, как правило, оба снаряда приземляются практически одновременно. Вивиани в своих воспоминаниях вообще не упоминает об этом эксперименте, зато он единственный, кто рассказывает об эпизоде с Пизанской башней, и это заставляет многих историков науки усомниться, что эксперимент на башне вообще имел место.
На самом деле не столь уж и важно, проводил Галилей эксперимент на Пизанской башне или нет, гораздо важнее его интеллектуальный переход в ходе анализа особенностей движения от аристотелевского к собственному взгляду на мир. Философия природы, которая была разработана Аристотелем и в которую входили его анализ движения и то, что мы называем его физикой, представляла собой довольно логичную, очень продуманную систему, основанную на идее неподвижной Земли, находящейся в центре мироздания, и окружающей ее небесной сферы, в которой предметы ведут себя совершенно иначе, нежели на Земле. Галилей бросил вызов аристотелевской системе, усомнившись сразу в обеих ее важнейших составляющих: в идее неподвижной Земли и в представлении Аристотеля о движении тел на Земле.
Основным принципом аристотелевского представления о Вселенной было то, что небо и Земля – это две абсолютно различные сферы, состоящие из разных субстанций и управляемые разными законами. Движение небесных тел упорядоченное, математически точное и регулярное, в то время как движение земных тел хаотичное и нерегулярное и описывать его можно только качественно, но не количественно. Более того, характер движения тел на Земле определялся их тенденцией отыскать свое «естественное место». Для плотных тел таковым является движение вниз, к центру Земли. Таким образом, Аристотель различал неестественное движение тяжелых объектов вверх, так называемое «насильственное движение», и их «естественное движение», направленное вниз.
Аристотель, наблюдая за движением падающих тел, обнаружил, что их скорость различна в разных средах и зависит от того, являются ли данные среды «тонкими», как воздух, или «плотными», как жидкости. Он заметил, что тела, падая, достигают некой постоянной скорости и что эта скорость прямо пропорциональна их весу. Эти представления вполне согласуются с нашим повседневным опытом. Если мы бросим из окна мячик для гольфа и мячик для тенниса, то мячик для гольфа будет падать быстрее и упадет на землю первым. Если же мы бросим мячик для гольфа в бассейне, ему потребуется больше времени, чтобы достигнуть дна, чем в ходе падения из окна на землю. Стальной же шар в таком соревновании в бассейне опередит его. Ну и конечно, молоток в любом случае приземлится гораздо быстрее перышка.
Аристотель кодифицировал свои выводы в то, что современные философы науки называют научной парадигмой. Она выстраивалась на основе повседневных явлений, которые он пытался объяснить. Например, некий агент (лошадь), приводящий в движение некое тело (телегу) сталкивается с препятствиями (трением и другими видами сопротивления). В подобных обычных обстоятельствах движение почти всегда представляет собой баланс между силой и сопротивлением ей. Таким образом, Аристотель подходил к проблеме падения тел с точки зрения баланса сил: природная сила (естественная тенденция, которая, по его мнению, влекла тела к центру Вселенной) уравновешивалась сопротивлением (различной степенью плотности – мы сказали бы «вязкости» – среды, в которой они движутся). Аристотель также пришел к выводу, что при отсутствии сопротивления среды скорость падающих тел должна быть бесконечной.
Однако в концепции движения Аристотеля не нашлось места для ускорения. Ученые заметили это упущение великого греческого философа задолго до Галилея. Уже в шестом веке нашей эры византийский ученый Иоанн Филопон писал об экспериментах, опровергавших учение Аристотеля:
«Ибо, если вы бросите с одинаковой высоты два груза, из которых один во много раз тяжелее другого, вы увидите, что скорость их движения вовсе не пропорциональна их весу и что разница во времени [падения] очень невелика».Более того, продолжает Филопон, если одно из тел лишь в два раза превосходит по весу другое, «во времени их [падения] вообще не будет никакой разницы или же она будет неуловимой»28.
В 1586 году, незадолго до того, как Галилей отправился в Падую, его современник фламандский математик Симон Стевин описал эксперименты, опровергавшие систему Аристотеля. Стевин бросал два свинцовых шара, один из которых был в десять раз тяжелее второго, с высоты в тридцать футов на дощатую поверхность, и в момент, когда шар приземлялся, был слышен звук удара. «И выяснилось, – писал Стевин, – что более легкий [шар] летел не в десять раз дольше, чем более тяжелый, а что они оба упали совершенно в одно время, так что оба звука от их падения слились в один удар»29. Короче говоря, Аристотель ошибался.
Во времена Галилея несколько итальянских ученых шестнадцатого столетия также описывали эксперименты с падающими телами, результаты которых противоречили положениям аристотелевской теории. Среди них был профессор Пизанского университета (преподававший в нем, когда там учился Галилей) по имени Джироламо Борро. Он писал, что несколько раз «подбрасывал» – Борро употребляет весьма двусмысленный глагол – тела одинакового веса, но разного размера и плотности и всякий раз, к своему изумлению, обнаруживал, что более плотные из них падали медленнее других30.
Подобно исследованиям всех великих ученых, чьи научные интересы отличались чрезвычайной широтой, исследования Аристотеля, конечно, не были свободны от ошибок и заблуждений. Но до Галилея большинство европейских мыслителей не рассматривали эти недостатки как нечто серьезное. Принципиальным достижением Галилея стала демонстрация того, что аристотелевская теория движения должна рассматриваться в контексте научной картины мира, включающей далеко не только проблему падения тел. И что теория движения, которая могла бы адекватно объяснить поведение падающих тел, должна включать понятие ускорения, а это, в свою очередь, требует создания принципиально иной картины мира.
Аристотелю было известно, что при падении тела набирают скорость (ускоряются), но он полагал, что для свободного падения это неважно. Он рассматривал ускорение как случайную и незначимую характеристику движения, которая имеет место между моментом начала движения тела и тем мгновением, когда оно достигает своей «естественной» скорости. Поначалу Галилей также разделял эту точку зрения. Однако со временем он пришел не только к пониманию важности феномена ускорения, но и к выводу, что ускорение нельзя просто «добавить» в систему Аристотеля. Если аристотелевская теория падения тел неверна, то ее невозможно «слегка подправить», ее необходимо полностью заменить другой теорией.
Галилей далеко не сразу пришел к такому заключению. Начинал он с предположения (считавшегося тогда вполне естественным), что Аристотель был во всем прав. И отдельные свидетельства обратного не могли заставить его сразу изменить свою точку зрения. К революционному пересмотру своих взглядов он пришел в результате целого ряда научных изысканий: как астрономических, так и вполне «наземных», включавших изучение движения маятника и падающих тел.
В своих ранних рассуждениях о поведении падающих тел – в не опубликованной при жизни рукописи «О движении» (написанной, вероятно, в первые годы работы в Пизанском университете) – Галилей придерживается точки зрения Аристотеля: тела падают со скоростью, зависящей от их плотности; это одно из наиболее «общих правил, руководящих соотношением скоростей [естественного] движения тел». Шар из золота должен падать со скоростью в два раза большей, чем шар такой же величины, сделанный из серебра, так как плотность первого почти в два раза превышает плотность второго. Очевидно, Галилей попытался проверить данное утверждение экспериментально, но, к своему удивлению и разочарованию, увидел, что правило не работает. Он пишет:
«Если взять два разных тела с такими характеристиками, что первое должно падать в два раза быстрее второго, и если потом бросить их с башни, первое из них не достигнет земли заметно быстрее и, уж конечно, не в два раза быстрее»31.Из данного отрывка историки науки заключают, что даже на заре своей научной карьеры Галилей любые теоретические положения проверял на практике. Однако в том же сочинении Галилей делает странное замечание, что более легкое тело вначале опережает более тяжелое, но затем более тяжелое тело вновь нагоняет более легкое. Это замечание заставило некоторых исследователей серьезно усомниться либо в логической последовательности Галилея, либо в его экспериментаторских способностях.
Тем не менее через несколько лет Галилей изменил свою точку зрения на проблему падения тел и полностью отказался от принципов Аристотеля. Исследовательский процесс, который привел его к этому, был достаточно сложен и включал много различных экспериментов и теоретических размышлений, которые касались отнюдь не только движения земных тел. Многое в цепи его рассуждений было восстановлено исследователями научного творчества Галилея в ходе тщательного постраничного анализа его записных книжек. В своих книгах «Диалог о двух главнейших системах мира, Птолемеевой и Коперниковой» (1632) и «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых областей науки» (1638) Галилей предлагает серию аргументов относительно поведения падающих тел. Они представлены не очень привычным для нас способом: каждая книга состоит из длинных бесед, продолжающихся в течение нескольких дней между тремя собеседниками: Сальвиати, выражающим мысли самого Галилея; Симпличио (его имя означает «Простоватый»), который представляет аристотелевскую позицию и, возможно, ранние взгляды самого Галилея; и Сагредо, человека образованного и к тому же наделенного здравым смыслом.
