Страница:
Каштаны в «свечках» не заменят мне пушистой вербы, березки вольной, хлестающей по ветру. Жесткие деревья плачут сажей. Весна? В дожде – как осень. Нет пробужденья, нет улыбки ясной, как у нас, —
Из глубины душевной, где тени прошлого, я вызываю мое небо. Светлое, голубоватое, как полог над моей кроваткой, всегда в сиянье. Белых ли голубей в нем крылья, кресты ли колоколен в блеске… или это снежок сквозистый, облачка́?.. Оно вливается потоком в окна, крепким, свежим, все заливает новым, даже глухие сени, где еще хмурый холодок зимы, где еще пахнет звездными ночами, мерзлым треском.
Мое родное, мое живое небо.
В витринах – груды яиц из шоколада, темных. Грузные они, повязанные лентами, немые. За окнами бистро[6], на стойках, залитых вином, я вижу розовые яйца в вазах. Чего-то отзвук? Позабыто.
Далекое мое, в осколках.
Свежий запах – будто сырой бумагой, шуршанье серенького платья няни. Праздничное, еще не мытое, оно трет щеки. Воздух со двора, чудесный, свежий, перезвон веселый. Полог моей кроватки дрожит, отходит, и голубое небо смотрит в блеске. И в нем – яичко, на золотом колечке, на красной ленточке, живое!..
Сахарное яичко. Здесь оно, со мной. Не потускнело, не побилось, на золотом колечке, в сердце… Прозрачно-серенькое, как снежок сквозистый.
Уходит праздник. Весна проходит, лето. Приходят ночи в бурях; хлещет в окна. Вот-вот погаснет огонек лампадки, и мои глаза, испуганные черной ночью, ищут… Где яичко?.. Вон оно, святое, у киота[7]. И мне не страшно. Свет от него, и ангел ласково глядит мне в сердце.
В детстве, когда бывало горе, я приходил к киоту и смотрел.
За голубым и розовым бессмертником, в комочке моха, в глубине за стеклышком, я видел: светозарный, с блистающей хоругвью[8], воскресал Христос из Гроба. Я всматривался в эту панорамку до счастливых слез – и заливало светом.
Помню, говорила няня:
– В стеклышко-то гляди, да хорошенько… и увидишь.
– А чего, няня?
– Ангелочка. До-лго гляди, вот и увидишь живого ангелочка.
Я глядел долго-долго. В глазах мерцало, цветочки оживали, и в глубине, за ними…
– Вижу… живого ангелочка вижу!..
В горькие минуты я приходил к киоту – и смотрел.
Чудесное мое, далекое.
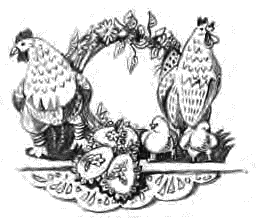
1929
Полочка
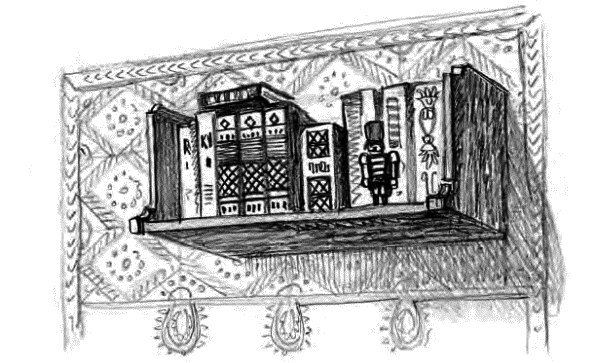
I
II
III
IV
Ищу чего-то. Земля – чужая, небо – и оно другое. Или мои глаза – другие?..
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года.
Из глубины душевной, где тени прошлого, я вызываю мое небо. Светлое, голубоватое, как полог над моей кроваткой, всегда в сиянье. Белых ли голубей в нем крылья, кресты ли колоколен в блеске… или это снежок сквозистый, облачка́?.. Оно вливается потоком в окна, крепким, свежим, все заливает новым, даже глухие сени, где еще хмурый холодок зимы, где еще пахнет звездными ночами, мерзлым треском.
Мое родное, мое живое небо.
В витринах – груды яиц из шоколада, темных. Грузные они, повязанные лентами, немые. За окнами бистро[6], на стойках, залитых вином, я вижу розовые яйца в вазах. Чего-то отзвук? Позабыто.
Далекое мое, в осколках.
Свежий запах – будто сырой бумагой, шуршанье серенького платья няни. Праздничное, еще не мытое, оно трет щеки. Воздух со двора, чудесный, свежий, перезвон веселый. Полог моей кроватки дрожит, отходит, и голубое небо смотрит в блеске. И в нем – яичко, на золотом колечке, на красной ленточке, живое!..
Сахарное яичко. Здесь оно, со мной. Не потускнело, не побилось, на золотом колечке, в сердце… Прозрачно-серенькое, как снежок сквозистый.
Уходит праздник. Весна проходит, лето. Приходят ночи в бурях; хлещет в окна. Вот-вот погаснет огонек лампадки, и мои глаза, испуганные черной ночью, ищут… Где яичко?.. Вон оно, святое, у киота[7]. И мне не страшно. Свет от него, и ангел ласково глядит мне в сердце.
В детстве, когда бывало горе, я приходил к киоту и смотрел.
За голубым и розовым бессмертником, в комочке моха, в глубине за стеклышком, я видел: светозарный, с блистающей хоругвью[8], воскресал Христос из Гроба. Я всматривался в эту панорамку до счастливых слез – и заливало светом.
Помню, говорила няня:
– В стеклышко-то гляди, да хорошенько… и увидишь.
– А чего, няня?
– Ангелочка. До-лго гляди, вот и увидишь живого ангелочка.
Я глядел долго-долго. В глазах мерцало, цветочки оживали, и в глубине, за ними…
– Вижу… живого ангелочка вижу!..
В горькие минуты я приходил к киоту – и смотрел.
Чудесное мое, далекое.
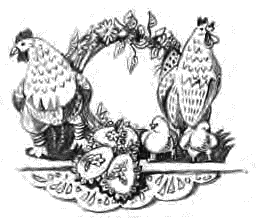
1929
Полочка
Из воспоминаний моего приятеля
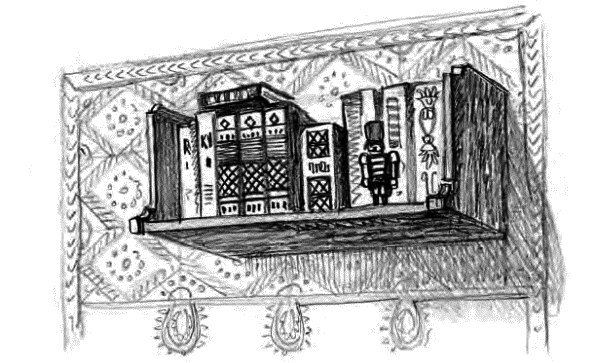
I
У меня до сих пор хранится деревянная полочка, сделанная из стенки ящика, в котором когда-то лежали макароны. Стоит нагнуться – и увидишь подпись, сделанную густой черной краской:
Книги и… макароны!
Но когда что-нибудь ярко-ярко освещает вам давно прошедшее, когда в серой веренице ушедших дней вспыхивает вдруг, как огонек во тьме, милый образ, дорого все, что вызывает его.
Вот почему дорога мне и эта надпись о макаронах: она напоминает мне о дяде.
Но буду рассказывать по порядку.
Впервые я увидал дядю, когда мне было лет девять. Мы только что приехали из другого города, где я родился, а дядя по старости не выезжал никуда и, должно быть, знал обо мне только по письмам. У нас часто говорили о нем, называли странным и «книжным» человеком, пожимали плечами и удивлялись, что он слишком много тратил на какие-то никому не нужные вещи. Я ждал с нетерпением, когда меня повезут к нему, но поездку откладывали со дня на день.
Случилось как-то, что нашего дворника послали к дяде с запиской, и я, потеряв терпение, не сказав никому ни слова, отправился самостоятельно. Это была дерзость, в которой я не раскаиваюсь.
У меня постукивало сердце, когда я поднимался по лестнице, но когда старичок-слуга снял с меня шубку и впустил в комнаты, я положительно потерялся. В комнатах совсем не было стен, по крайней мере я их не видел. Были пол, потолок, окна, двери и… книги. Они шли стройными рядами всюду, куда я ни глядел, в решетчатых полках, точно их собрали сюда со всего света. На самой крайней полочке, совсем под потолком, сидела большая головастая сова. В комнате стоял полумрак и было тихо, торжественно-тихо, как в пустой церкви.
В углу, у окна, в глубоком кожаном кресле сидел он, мой дядя, и держал книгу. На коврике, у его ног, спал крупный дымчатый кот.
Я стоял в дверях, не решаясь переступить. Дядя услышал шорох, повернул голову, и я увидал худое, плохо выбритое лицо и всматривающиеся усталые глаза. Казалось, он старался понять, кто я такой. Я шаркнул ножкой и поклонился. Дядя пожал плечами. Путаясь в словах, я объяснил, кто я такой.
– Поди-ка сюда, голова, – сказал он и поманил пальцем.
Я приблизился с чувством благоговения и некоторого страха.
– Вот ты какой, – сказал дядя и потрепал меня по щеке. – Каков, однако, ферт! Один заявился!.. Ну, здравствуй. Так это ты большой любитель чтения?
В тоне голоса я уловил похвалу и из скромности опустил глаза.
– Очень рад тебя видеть…
Из проволочной корзинки он достал яблоко и дал мне.
Через пять минут я был как дома, сидел на скамеечке, рядом с храпевшим котом, глазел на поразившие меня ряды книг.
Сова под потолком сидела по-прежнему недвижимо. «Она не любит дня, – раздумывал я, – и теперь присмирела, а вот наступит ночь, и тогда…»
– Ну, что ты читал, дружок? – спрашивал дядя.
Что я читал! Я сейчас же захотел показать дяде, с кем он имеет дело, и с жаром принялся перечислять, что читал.
– Я все-таки порядочно прочел, дядя, – говорил я. – Про «Заколдованную могилу», про «Храбрую шайку и атамана Кольцо», про «Солдата и семь разбойников», про…

– Тпррр… – остановил меня дядя. – Да ты профессор! Кто же тебе такие книги давал?
Это была моя тайна. У меня дома уже отобрали две трепаные книжечки и допытывались, откуда я их добыл. Но я не сказал. Я боялся, что их отберут и от нашего дворника, у которого я доставал их. Здесь же мне ничто не угрожало, я имел случай познакомить дядю еще с одним любителем чтения и моим другом и сказал откровенно:
– Мне давал их наш дворник Степан. У него их во-от сколько! – показал я руками.
– Так-так… Только все это глупости, – сказал дядя. – Надо читать хорошие книги, где говорится о жизни. Видишь, стоят они, – указал он на полки. – Каждая из них – часть сердца человека, которого называют писателем!
Я посмотрел на книги. В сумеречных тенях они уже сливались в сплошную стену.
– Книга не Петрушка, – продолжал дядя, тряся пальцем, – она не для смеху пишется! Она должна указывать людям, как надо и как не надо жить…
Я слушал и хлопал глазами. Оказывалось, мы со Степаном даром тратили пятаки.
Дядя подставил к книжной стенке лесенку и, кряхтя, полез кверху.
Мне показалось, что он хочет достать сову: она сидела как раз над концом лестницы. «Сейчас она обязательно шарахнется», – думал я, предвкушая развлечение. Но сова не шелохнулась, хотя дядя взял ее за ноги и передвинул. Тут я догадался, что сова не настоящая, а набитое чучело.
– А зачем у вас сова? – спросил я.
– Сова, брат, ночью не спит и во тьме видит. Вот она и сторожит всю эту мудрость, – постучал дядя по книгам. – Не веришь? На-ка вот «Сказки Андерсена», это будет получше твоих «солдат» и «разбойников».
Должно быть, радость, которую я пережил в этот момент, отразилась на моей физиономии: дядя взял меня за подбородок и, глядя в глаза, сказал:
– Книги, которые я буду давать тебе, можешь оставлять у себя. Пусть это будет началом твоей библиотеки. Пусть они будут твоими друзьями.
Как это было давно, но как до сих пор ярко встает в моей памяти!
В тот памятный вечер в моем сердце затеплилась искра. Почти строгий тон дядиных слов, когда говорил он о книгах, черные молчаливые ряды на полках и грустные сумерки – все это будило во мне тихое чувство благоговения.
Дымчатый кот проснулся и терся у ног. В комнате густились тени ночи. Они глядели из углов слепыми глазами. Я чувствовал их. Совы под потолком уже не было видно, только ряды книг еще поблескивали золотым тиснением.
Вошел старичок и зажег лампу.
– Ответа дожидается, с ими-то который пришел, – сказал он.
Я вспомнил о Степане.
– Позови сюда, – сказал дядя.
У меня заиграло сердце: сейчас войдет Степан и увидит все. «Разве он видал что-нибудь подобное?» – думал я. Чтобы показать ему, что я здесь как дома, я перебежал к стенке, отставил ногу и облокотился на книги.
Слышались осторожные шаги и покашливание. Степан остановился в дверях и высунул голову. Я заметил, как у него метнулись глаза, окинули полки и с почтением остановились на дяде. Он прямо впивался в него, с благоговением слушая о какой-то переносной печке. Но его левый глаз сильно косился на полки.
– Да… – вспомнил дядя. – Ты это давал ему книжки?
Степан съежился и искоса поглядел на меня.
– Так… баловство-с… пустые сказки-с…
Он оправдывался и продолжал коситься.
– И брось их! Любишь читать?
– Я… конечно… ежели от скуки, обожаю…
Дядя подумал и достал книгу.
– Почитай, только не мажь.
Надо было видеть Степана! Он подался вперед и вытянул руки, точно принимал благословение.
Когда мы вышли на улицу, Степан сунул книгу за пазуху, в полушубок.
– Что, Степан? – спрашивал я, забегая вперед и заглядывая в лицо. – Что, видел?
– Видел, – ответил он. – Откуда он их набрал?
– А ну-ка, покажи, про что?
Мы остановились у фонаря, и Степан вынул книгу.
– «Издание… третье…» Гм… «С пор-тре-том, гра-ви-ро-ван-ным…»
Степан посмотрел на меня, я на него.
– Должно, ученая книга… – сказал он. – Обязательно прочитаю.
После ужина я забежал в кухню. Разложив на столе полотенце и спустив руки на край стола, Степан читал при свете маленькой лампочки. На лбу его сверкали капельки пота.
– Что, Степан, интересно?
Он поднял голову и шмурыгнул носом.
– Дюже хорошо! – сказал он, вздыхая. – Про «Записки охотника»… Тут про нашу хресьянскую жизнь сказано. Так, што это прямо что-нибудь особенное!..
– Ишь, весь стол захватил! – сказала кухарка. – Карасин тратишь…
Я сказал ей, что обязательно надо читать, – пусть она даже у дяди спросит. Степан сдунул листок на другую сторону – он боялся замазать пальцами – и сказал:
– Это все дикое необразование. Книга надлежит для научного употребления, а карасин для света!
Я с ним вполне согласился.
Самые лучшие итальянские макароны.Конечно, это не совсем красиво, но я ревниво оберегаю эту надпись, очень мало подходящую к тому, что хранится на полочке.
Книги и… макароны!
Но когда что-нибудь ярко-ярко освещает вам давно прошедшее, когда в серой веренице ушедших дней вспыхивает вдруг, как огонек во тьме, милый образ, дорого все, что вызывает его.
Вот почему дорога мне и эта надпись о макаронах: она напоминает мне о дяде.
Но буду рассказывать по порядку.
Впервые я увидал дядю, когда мне было лет девять. Мы только что приехали из другого города, где я родился, а дядя по старости не выезжал никуда и, должно быть, знал обо мне только по письмам. У нас часто говорили о нем, называли странным и «книжным» человеком, пожимали плечами и удивлялись, что он слишком много тратил на какие-то никому не нужные вещи. Я ждал с нетерпением, когда меня повезут к нему, но поездку откладывали со дня на день.
Случилось как-то, что нашего дворника послали к дяде с запиской, и я, потеряв терпение, не сказав никому ни слова, отправился самостоятельно. Это была дерзость, в которой я не раскаиваюсь.
У меня постукивало сердце, когда я поднимался по лестнице, но когда старичок-слуга снял с меня шубку и впустил в комнаты, я положительно потерялся. В комнатах совсем не было стен, по крайней мере я их не видел. Были пол, потолок, окна, двери и… книги. Они шли стройными рядами всюду, куда я ни глядел, в решетчатых полках, точно их собрали сюда со всего света. На самой крайней полочке, совсем под потолком, сидела большая головастая сова. В комнате стоял полумрак и было тихо, торжественно-тихо, как в пустой церкви.
В углу, у окна, в глубоком кожаном кресле сидел он, мой дядя, и держал книгу. На коврике, у его ног, спал крупный дымчатый кот.
Я стоял в дверях, не решаясь переступить. Дядя услышал шорох, повернул голову, и я увидал худое, плохо выбритое лицо и всматривающиеся усталые глаза. Казалось, он старался понять, кто я такой. Я шаркнул ножкой и поклонился. Дядя пожал плечами. Путаясь в словах, я объяснил, кто я такой.
– Поди-ка сюда, голова, – сказал он и поманил пальцем.
Я приблизился с чувством благоговения и некоторого страха.
– Вот ты какой, – сказал дядя и потрепал меня по щеке. – Каков, однако, ферт! Один заявился!.. Ну, здравствуй. Так это ты большой любитель чтения?
В тоне голоса я уловил похвалу и из скромности опустил глаза.
– Очень рад тебя видеть…
Из проволочной корзинки он достал яблоко и дал мне.
Через пять минут я был как дома, сидел на скамеечке, рядом с храпевшим котом, глазел на поразившие меня ряды книг.
Сова под потолком сидела по-прежнему недвижимо. «Она не любит дня, – раздумывал я, – и теперь присмирела, а вот наступит ночь, и тогда…»
– Ну, что ты читал, дружок? – спрашивал дядя.
Что я читал! Я сейчас же захотел показать дяде, с кем он имеет дело, и с жаром принялся перечислять, что читал.
– Я все-таки порядочно прочел, дядя, – говорил я. – Про «Заколдованную могилу», про «Храбрую шайку и атамана Кольцо», про «Солдата и семь разбойников», про…

– Тпррр… – остановил меня дядя. – Да ты профессор! Кто же тебе такие книги давал?
Это была моя тайна. У меня дома уже отобрали две трепаные книжечки и допытывались, откуда я их добыл. Но я не сказал. Я боялся, что их отберут и от нашего дворника, у которого я доставал их. Здесь же мне ничто не угрожало, я имел случай познакомить дядю еще с одним любителем чтения и моим другом и сказал откровенно:
– Мне давал их наш дворник Степан. У него их во-от сколько! – показал я руками.
– Так-так… Только все это глупости, – сказал дядя. – Надо читать хорошие книги, где говорится о жизни. Видишь, стоят они, – указал он на полки. – Каждая из них – часть сердца человека, которого называют писателем!
Я посмотрел на книги. В сумеречных тенях они уже сливались в сплошную стену.
– Книга не Петрушка, – продолжал дядя, тряся пальцем, – она не для смеху пишется! Она должна указывать людям, как надо и как не надо жить…
Я слушал и хлопал глазами. Оказывалось, мы со Степаном даром тратили пятаки.
Дядя подставил к книжной стенке лесенку и, кряхтя, полез кверху.
Мне показалось, что он хочет достать сову: она сидела как раз над концом лестницы. «Сейчас она обязательно шарахнется», – думал я, предвкушая развлечение. Но сова не шелохнулась, хотя дядя взял ее за ноги и передвинул. Тут я догадался, что сова не настоящая, а набитое чучело.
– А зачем у вас сова? – спросил я.
– Сова, брат, ночью не спит и во тьме видит. Вот она и сторожит всю эту мудрость, – постучал дядя по книгам. – Не веришь? На-ка вот «Сказки Андерсена», это будет получше твоих «солдат» и «разбойников».
Должно быть, радость, которую я пережил в этот момент, отразилась на моей физиономии: дядя взял меня за подбородок и, глядя в глаза, сказал:
– Книги, которые я буду давать тебе, можешь оставлять у себя. Пусть это будет началом твоей библиотеки. Пусть они будут твоими друзьями.
Как это было давно, но как до сих пор ярко встает в моей памяти!
В тот памятный вечер в моем сердце затеплилась искра. Почти строгий тон дядиных слов, когда говорил он о книгах, черные молчаливые ряды на полках и грустные сумерки – все это будило во мне тихое чувство благоговения.
Дымчатый кот проснулся и терся у ног. В комнате густились тени ночи. Они глядели из углов слепыми глазами. Я чувствовал их. Совы под потолком уже не было видно, только ряды книг еще поблескивали золотым тиснением.
Вошел старичок и зажег лампу.
– Ответа дожидается, с ими-то который пришел, – сказал он.
Я вспомнил о Степане.
– Позови сюда, – сказал дядя.
У меня заиграло сердце: сейчас войдет Степан и увидит все. «Разве он видал что-нибудь подобное?» – думал я. Чтобы показать ему, что я здесь как дома, я перебежал к стенке, отставил ногу и облокотился на книги.
Слышались осторожные шаги и покашливание. Степан остановился в дверях и высунул голову. Я заметил, как у него метнулись глаза, окинули полки и с почтением остановились на дяде. Он прямо впивался в него, с благоговением слушая о какой-то переносной печке. Но его левый глаз сильно косился на полки.
– Да… – вспомнил дядя. – Ты это давал ему книжки?
Степан съежился и искоса поглядел на меня.
– Так… баловство-с… пустые сказки-с…
Он оправдывался и продолжал коситься.
– И брось их! Любишь читать?
– Я… конечно… ежели от скуки, обожаю…
Дядя подумал и достал книгу.
– Почитай, только не мажь.
Надо было видеть Степана! Он подался вперед и вытянул руки, точно принимал благословение.
Когда мы вышли на улицу, Степан сунул книгу за пазуху, в полушубок.
– Что, Степан? – спрашивал я, забегая вперед и заглядывая в лицо. – Что, видел?
– Видел, – ответил он. – Откуда он их набрал?
– А ну-ка, покажи, про что?
Мы остановились у фонаря, и Степан вынул книгу.
– «Издание… третье…» Гм… «С пор-тре-том, гра-ви-ро-ван-ным…»
Степан посмотрел на меня, я на него.
– Должно, ученая книга… – сказал он. – Обязательно прочитаю.
После ужина я забежал в кухню. Разложив на столе полотенце и спустив руки на край стола, Степан читал при свете маленькой лампочки. На лбу его сверкали капельки пота.
– Что, Степан, интересно?
Он поднял голову и шмурыгнул носом.
– Дюже хорошо! – сказал он, вздыхая. – Про «Записки охотника»… Тут про нашу хресьянскую жизнь сказано. Так, што это прямо что-нибудь особенное!..
– Ишь, весь стол захватил! – сказала кухарка. – Карасин тратишь…
Я сказал ей, что обязательно надо читать, – пусть она даже у дяди спросит. Степан сдунул листок на другую сторону – он боялся замазать пальцами – и сказал:
– Это все дикое необразование. Книга надлежит для научного употребления, а карасин для света!
Я с ним вполне согласился.
II
Мне не запрещали бывать у дяди: он сам просил отпускать меня. И сколько славных вечеров провел я!
Сидишь, бывало, на скамеечке и слышишь покойный голос. С верхних полок глядят портреты писателей, глядят строго, точно думают большую думу. Дядя говорит мне о них, как болели они о людском горе, своими сердцами звали людей к лучшей жизни, указывали пути.
– Многие из них давно умерли, – говорил дядя. – Но все-таки они… здесь!.. Они молчат, да! Но сто́ит взять книгу, раскрыть – и они заговорят! Из черных строк заговорят!..
В тихие сумерки на меня наплывали мечты. Дядя иногда уходил к себе в кабинет, а я забирался в большое кресло и затихал. И казалось мне, что они… смотрят на меня с полок и молчат, думают, думают… Кот тихо мурлыкал у ног. Сова сторожила мудрость. Я осторожно слезал с кресла и на цыпочках подходил к полкам. И слушал, зажмурив глаза. Ползли минуты – и начинало казаться, что кто-то шепчет, шепчет мне что-то… Может быть, это постукивало сердце, может быть, доносилось мурлыканье кота, но чудилось, что кто-то шепчет…
Однажды дядя рассказывал мне, как он еще мальчиком начал составлять себе библиотеку, покупал и собирал книги. Я смотрел на полки, и вдруг во мне вспыхнула мысль. Я взял дядю за руку и сказал:
– Дядя, дайте мне ваш ящик!
Он с недоумением посмотрел на меня.
– Ящик? Какой ящик?..
Я объяснил, что видел в коридоре большой ящик, в котором, как я знал, привезли дяде книги. Это-то и было особенно дорого мне. Я сказал, что хочу сделать полочку и расставить на ней все свои книги.
– Так лучше я куплю тебе этажерку!
– Нет, дядя! – заупрямился я. – Я хочу полочку, как у вас… из вашего ящика!
Он назвал меня чудаком и позволил взять ящик. Помню, при свете лампы мне бросилась в глаза черная надпись:
Почему мне понравилась эта надпись, не знаю. Может быть, я подумал тогда, что с этой надписью я никогда не забуду, где достал эту полочку. Мне отбили бочок с надписью. И в следующий мой приход дядя спросил:
– Ну, как твои «макароны»?
Я рассказал, как ловко устроил полочку на гвоздях и бечевках и как вышло красиво. Должно быть, я очень горячо говорил, потому что дядя потрогал мой лоб и потрепал по щеке.
– И все еще есть свободное место?
– Да, дядя, есть. Но я пока поставлю толстые словари…
– Поди-ка сюда…
Он подвел меня к крайнему окну и показал пачку книг.
– Вот я отобрал тебе… для твоей полочки, макаронщик…
Он почти никогда не улыбался, но тут все его желтое морщинистое лицо осветилось такой улыбкой, на меня повеяло такой душевной теплотой, что я сразу понял, как ошибались у нас дома, говоря, что у дяди нет сердца, что он черствый, «книжный» человек.
Он уселся в кресло и молчал.
Я гладил кота, думая о том, что слышал сегодня утром. У нас говорили, что у дяди какая-то опасная болезнь, что дядины дни «сочтены». Говорили о каком-то наследстве и капиталах.
В камине догорали дрова. На стеклах лежали багровые от огня, сверкающие узоры мороза. Не знаю, как это вышло, – около щеки я почувствовал холодную ладонь. Я заглянул дяде в лицо, и у меня сжалось сердце: в лице его я видел выражение мучительной боли. Я опять вспомнил о его болезни, и в тишине и полутьме комнаты почудилось мне, что вот-вот надвигается что-то неотвратимое…
Я взял его руку и поднес к губам. В груди стало тесно-тесно, закололо в глазах.
– Дядя!.. – выкрикнул я, задыхаясь и стискивая зубы.
– Что с тобой, Шура? Что ты?.. – тревожно спросил он.
Я не мог говорить. Я чувствовал, что сейчас расплачусь.
– Ну что, мой мальчик? Ну что ты? Чего ты испугался?
Он гладил меня по голове. А я держал его руку, уткнувшись носом в ручку кресла, и чувствовал, как по щекам ползут капли.
Понял ли он, о чем я плакал?
– Ну вот… – говорил он. – Теперь у меня завелся маленький друг…
Я слышал, как он вздохнул.
– А есть у вас еще друзья? – спросил я, польщенный, что дядя назвал меня своим другом.
– Были… и… умерли… – сказал он и сморщил брови. – Вот теперь мои друзья, – указал он на книги. – Это, брат, самые верные друзья!..
Я глядел на книги, на портреты. Дедушка Крылов, освещаемый вспышками угасающего камина, казалось, подмигивал и говорил: «А ведь он прав, братец!»
С шорохом поползла сломившаяся в средине головешка, дядя шевельнулся и тронул меня за плечо.
– Вот что, дружок, – сказал он. – Видишь эти две полки у окон?..
– Вижу, – сказал я.
– Ну вот… Здесь собраны все наши родные писатели… самое дорогое, что у меня есть… Это твои полки. Помни, они тво-и!
– Мои?.. Все эти книги?!
– Да! – как-то особенно веско сказал он. – Я… отказываю их тебе.
Он вынул записную, с золотым обрезом, книжечку и стал что-то писать карандашом.
– Ты получишь их.
«Отказываю»… Я понимал грустный смысл этого слова. Хотелось плакать, и все же что-то отвлекало меня. Мои книги! Их было так много! И все были в чудесных – красных и зеленых переплетах с золотом!
– Дядя, – тихо сказал я, – это очень много… Мне бы хоть одну полку и…
– Что?..
– Сову… Мне страшно хочется… сову!..
– Сову?.. Ну что же… – Он поглядел кверху. – Возьми сову. Можешь взять и теперь…
Он позвал старичка и велел снять сову. Ее сняли и долго чистили щеточкой и вытирали глаза. Она была великолепна со своими желтыми зрачками и загнутым, вдавленным носом.
За мной, по обыкновению, прислали Степана. Мы шли домой торжественно, я нес связку книг для пополнения полочки, а Степан сову.
У фонарей нас останавливали прохожие, глазели на сову, а некоторые даже приторговывались, но Степан кивал на меня и говорил важно:
– Не продажная. Эта сова знаменитая!..
– А что?.. – допытывались любопытные.
– А то! Это сова… научная… из собрания книг! Такая, братец мой, сова-а… так это прямо что-нибудь особенное!..
Сидишь, бывало, на скамеечке и слышишь покойный голос. С верхних полок глядят портреты писателей, глядят строго, точно думают большую думу. Дядя говорит мне о них, как болели они о людском горе, своими сердцами звали людей к лучшей жизни, указывали пути.
– Многие из них давно умерли, – говорил дядя. – Но все-таки они… здесь!.. Они молчат, да! Но сто́ит взять книгу, раскрыть – и они заговорят! Из черных строк заговорят!..
В тихие сумерки на меня наплывали мечты. Дядя иногда уходил к себе в кабинет, а я забирался в большое кресло и затихал. И казалось мне, что они… смотрят на меня с полок и молчат, думают, думают… Кот тихо мурлыкал у ног. Сова сторожила мудрость. Я осторожно слезал с кресла и на цыпочках подходил к полкам. И слушал, зажмурив глаза. Ползли минуты – и начинало казаться, что кто-то шепчет, шепчет мне что-то… Может быть, это постукивало сердце, может быть, доносилось мурлыканье кота, но чудилось, что кто-то шепчет…
Однажды дядя рассказывал мне, как он еще мальчиком начал составлять себе библиотеку, покупал и собирал книги. Я смотрел на полки, и вдруг во мне вспыхнула мысль. Я взял дядю за руку и сказал:
– Дядя, дайте мне ваш ящик!
Он с недоумением посмотрел на меня.
– Ящик? Какой ящик?..
Я объяснил, что видел в коридоре большой ящик, в котором, как я знал, привезли дяде книги. Это-то и было особенно дорого мне. Я сказал, что хочу сделать полочку и расставить на ней все свои книги.
– Так лучше я куплю тебе этажерку!
– Нет, дядя! – заупрямился я. – Я хочу полочку, как у вас… из вашего ящика!
Он назвал меня чудаком и позволил взять ящик. Помню, при свете лампы мне бросилась в глаза черная надпись:
Самые лучшие итальянские макароны.– Мне бы только вот эту доску… – указывал я.
Почему мне понравилась эта надпись, не знаю. Может быть, я подумал тогда, что с этой надписью я никогда не забуду, где достал эту полочку. Мне отбили бочок с надписью. И в следующий мой приход дядя спросил:
– Ну, как твои «макароны»?
Я рассказал, как ловко устроил полочку на гвоздях и бечевках и как вышло красиво. Должно быть, я очень горячо говорил, потому что дядя потрогал мой лоб и потрепал по щеке.
– И все еще есть свободное место?
– Да, дядя, есть. Но я пока поставлю толстые словари…
– Поди-ка сюда…
Он подвел меня к крайнему окну и показал пачку книг.
– Вот я отобрал тебе… для твоей полочки, макаронщик…
Он почти никогда не улыбался, но тут все его желтое морщинистое лицо осветилось такой улыбкой, на меня повеяло такой душевной теплотой, что я сразу понял, как ошибались у нас дома, говоря, что у дяди нет сердца, что он черствый, «книжный» человек.
Он уселся в кресло и молчал.
Я гладил кота, думая о том, что слышал сегодня утром. У нас говорили, что у дяди какая-то опасная болезнь, что дядины дни «сочтены». Говорили о каком-то наследстве и капиталах.
В камине догорали дрова. На стеклах лежали багровые от огня, сверкающие узоры мороза. Не знаю, как это вышло, – около щеки я почувствовал холодную ладонь. Я заглянул дяде в лицо, и у меня сжалось сердце: в лице его я видел выражение мучительной боли. Я опять вспомнил о его болезни, и в тишине и полутьме комнаты почудилось мне, что вот-вот надвигается что-то неотвратимое…
Я взял его руку и поднес к губам. В груди стало тесно-тесно, закололо в глазах.
– Дядя!.. – выкрикнул я, задыхаясь и стискивая зубы.
– Что с тобой, Шура? Что ты?.. – тревожно спросил он.
Я не мог говорить. Я чувствовал, что сейчас расплачусь.
– Ну что, мой мальчик? Ну что ты? Чего ты испугался?
Он гладил меня по голове. А я держал его руку, уткнувшись носом в ручку кресла, и чувствовал, как по щекам ползут капли.
Понял ли он, о чем я плакал?
– Ну вот… – говорил он. – Теперь у меня завелся маленький друг…
Я слышал, как он вздохнул.
– А есть у вас еще друзья? – спросил я, польщенный, что дядя назвал меня своим другом.
– Были… и… умерли… – сказал он и сморщил брови. – Вот теперь мои друзья, – указал он на книги. – Это, брат, самые верные друзья!..
Я глядел на книги, на портреты. Дедушка Крылов, освещаемый вспышками угасающего камина, казалось, подмигивал и говорил: «А ведь он прав, братец!»
С шорохом поползла сломившаяся в средине головешка, дядя шевельнулся и тронул меня за плечо.
– Вот что, дружок, – сказал он. – Видишь эти две полки у окон?..
– Вижу, – сказал я.
– Ну вот… Здесь собраны все наши родные писатели… самое дорогое, что у меня есть… Это твои полки. Помни, они тво-и!
– Мои?.. Все эти книги?!
– Да! – как-то особенно веско сказал он. – Я… отказываю их тебе.
Он вынул записную, с золотым обрезом, книжечку и стал что-то писать карандашом.
– Ты получишь их.
«Отказываю»… Я понимал грустный смысл этого слова. Хотелось плакать, и все же что-то отвлекало меня. Мои книги! Их было так много! И все были в чудесных – красных и зеленых переплетах с золотом!
– Дядя, – тихо сказал я, – это очень много… Мне бы хоть одну полку и…
– Что?..
– Сову… Мне страшно хочется… сову!..
– Сову?.. Ну что же… – Он поглядел кверху. – Возьми сову. Можешь взять и теперь…
Он позвал старичка и велел снять сову. Ее сняли и долго чистили щеточкой и вытирали глаза. Она была великолепна со своими желтыми зрачками и загнутым, вдавленным носом.
За мной, по обыкновению, прислали Степана. Мы шли домой торжественно, я нес связку книг для пополнения полочки, а Степан сову.
У фонарей нас останавливали прохожие, глазели на сову, а некоторые даже приторговывались, но Степан кивал на меня и говорил важно:
– Не продажная. Эта сова знаменитая!..
– А что?.. – допытывались любопытные.
– А то! Это сова… научная… из собрания книг! Такая, братец мой, сова-а… так это прямо что-нибудь особенное!..
III
Дня через два после этого, в воскресенье утром, я собирался идти к дяде, как к нам в столовую вошел дядин старичок, покрестился на образ и, глубоко вздохнув, сказал каким-то деревянным голосом:
– Барин… Михал Василич… приказали долго жить…
Не выдержал и заплакал.
– Нащот распоряжений как… Я их одних в квартире запер… – говорил старичок, тыча в глаза комочком платка.
Это известие никого особенно не потрясло: все знали, что дядя скоро умрет. Я не плакал. Я точно застыл. Помню, стоял у притолоки[9] и глядел на подрагивающую бородку старичка. У меня дергался глаз и стучало в висках. А старичок рассказывал, что дядя помер внезапно, ночью, один на один с Господом Богом.
Помню, я ушел к себе на кровать и сидел, перебирая край одеяла. «Дяди нет», – говорил я себе. Поднял голову. На меня глядели черные буквы:
Моя полочка! С нее, с этой шершавой доски, тоже глядели на меня живые книги… А я плакал.
Старичок собирался уходить, когда я вышел из своего уголка. Он, конечно, видел мои заплаканные глаза, покачал головой и сказал:
– Что ж плакать-то… Призвал Господь… Царство небесное… Работали много – теперь отдыхать Господь призвал.
Я с удивлением взглянул на старичка.
– А разве он что работал? – спросил я.
Я думал, что «работать» можно топором, пилой, быть кузнецом, пахать землю, служить в дворниках.
– А как же-с… У себя за столиком… писали-с… в разные ученые журналы. До петушков иной раз… Обложатся книжечками и пишут-с… Ну и перекипело у них в нутре-с – не выдержало.
Дядя тоже писал!.. Никто никогда у нас не говорил об этом.
– Они даже очень знамениты были! – продолжал старичок. – Даже такая книга есть, где о них сказано.
Дядя писал книги!.. Значит, он не совсем умер?.. Это вспыхнуло во мне и осветило, и согрело. «Он все-таки жив, – говорил я себе, – и наши не знают этого». Я сделал это своей радостной тайной и решил не говорить никому. Все равно никто не поймет этого.
Долго спустя я нашел то, что писал дядя. Это был ряд статей в журналах, статей о книгах.
Послали телеграмму дядиному брату. Только теперь узнал я, что у дяди был брат. Он всегда проживал в каком-то далеком городе, где вел торговое дело, и только последнее время, предупрежденный о тяжкой болезни брата, жил в нашем городе. У дяди он никогда не бывал. Это я узнал из разговоров. У нас говорили о наследстве, о капиталах, и кто-то сказал:
– Интересно, оставил ли он завещание?
Вечером мы были на панихиде. Дядя в голубом халате лежал на столе в хорошо знакомой мне комнате, где стояло его кресло. Теперь его вынесли, чтобы оно не мешало. Читавшая монахиня погладила меня по голове и подняла кисею, закрывавшую дядино лицо. Оно было такое же, как и при жизни, только стало как-то светлее. В руках, в которых я привык видеть книгу, был образок. Дымчатый кот терся о ножки стола и смотрел на меня, точно хотел сказать, что все кончено.
Казалось, все изменилось в квартире, – только ряды книг по-прежнему чинно стояли, точно для них не могло быть конца. Вдумчиво, как всегда, глядели с высоты портреты писателей, отражая в стеклах дымящие огоньки свечей.
Я взглянул на свои полки. Я унесу их из этой осиротевшей квартиры в свой тихий уголок! С ними я унесу все, что пережил здесь.
Высокий старик с насупленными бровями стоял у окна и разговаривал с юрким, вытягивавшим шею человечком. Он держал себя здесь как хозяин. Это был дядин брат. На моих глазах он вытащил из моей полки книгу и, держа ее, как пюпитр[10], писал что-то на листке бумаги.
– Да, да… но без балдахина. Сейчас же распорядиться!..
Да, он был здесь хозяин. Его все называли наследником. Ему принадлежало здесь всё; всё, за исключением моих двух полок. Он были отказаны мне.
Он швырнул мою книгу на окно и прошел в другую комнату. Что было со мной! Он швырнул мою книгу! Дядину книгу!
Я подошел, взял ее и раскрыл. Гоголь! «Мертвые души»… Он швырнул Гоголя! Я уже знал о нем, «бессмертном», как говорил дядя.
Невольно я поглядел кверху и отыскал знакомый портрет.
Милый Гоголь глядел с посмеивающейся улыбкой из-под прядки волос. Я бережно поставил книгу на место.
Знакомые и незнакомые люди ходили вдоль полок и с любопытством разглядывали книги, показывали пальцами на портреты писателей и путали: они Гончарова принимали за Тургенева и Пушкина смешивали с Жуковским! Только небольшая группа совсем незнакомых мне людей держалась особняком. Они принесли фарфоровый венок с лентами, ни с кем не здоровались и сейчас же после панихиды ушли. Их знал только дядин старичок.
– Тоже в журналах пишут, – сказал он.
Я с благоговением посмотрел им вслед.
– Барин… Михал Василич… приказали долго жить…
Не выдержал и заплакал.
– Нащот распоряжений как… Я их одних в квартире запер… – говорил старичок, тыча в глаза комочком платка.
Это известие никого особенно не потрясло: все знали, что дядя скоро умрет. Я не плакал. Я точно застыл. Помню, стоял у притолоки[9] и глядел на подрагивающую бородку старичка. У меня дергался глаз и стучало в висках. А старичок рассказывал, что дядя помер внезапно, ночью, один на один с Господом Богом.
Помню, я ушел к себе на кровать и сидел, перебирая край одеяла. «Дяди нет», – говорил я себе. Поднял голову. На меня глядели черные буквы:
Самые лучшие итальянские макароны.Брызнули слезы: я вспомнил все. Эти буквы своим черным светом сразу осветили мне все минувшее: дядю, разговоры, его голос, желтое лицо, все мелочи. Я видел полки с книгами, тихие сумерки и пурпурные угли камина. Я видел так ясно все, что еще так недавно открыло мне какой-то новый мир – мир живых книг. Да, я уже знал, что они живые. За ними я видел людей. Я знал их. Они глядели на меня там, с высоких полок! Они втиснули свое сердце в черные ряды строк на белой бумаге. Эти строки сложили в правильные ряды, бросили печатным станком на страницы, и вышла книга.
Моя полочка! С нее, с этой шершавой доски, тоже глядели на меня живые книги… А я плакал.
Старичок собирался уходить, когда я вышел из своего уголка. Он, конечно, видел мои заплаканные глаза, покачал головой и сказал:
– Что ж плакать-то… Призвал Господь… Царство небесное… Работали много – теперь отдыхать Господь призвал.
Я с удивлением взглянул на старичка.
– А разве он что работал? – спросил я.
Я думал, что «работать» можно топором, пилой, быть кузнецом, пахать землю, служить в дворниках.
– А как же-с… У себя за столиком… писали-с… в разные ученые журналы. До петушков иной раз… Обложатся книжечками и пишут-с… Ну и перекипело у них в нутре-с – не выдержало.
Дядя тоже писал!.. Никто никогда у нас не говорил об этом.
– Они даже очень знамениты были! – продолжал старичок. – Даже такая книга есть, где о них сказано.
Дядя писал книги!.. Значит, он не совсем умер?.. Это вспыхнуло во мне и осветило, и согрело. «Он все-таки жив, – говорил я себе, – и наши не знают этого». Я сделал это своей радостной тайной и решил не говорить никому. Все равно никто не поймет этого.
Долго спустя я нашел то, что писал дядя. Это был ряд статей в журналах, статей о книгах.
Послали телеграмму дядиному брату. Только теперь узнал я, что у дяди был брат. Он всегда проживал в каком-то далеком городе, где вел торговое дело, и только последнее время, предупрежденный о тяжкой болезни брата, жил в нашем городе. У дяди он никогда не бывал. Это я узнал из разговоров. У нас говорили о наследстве, о капиталах, и кто-то сказал:
– Интересно, оставил ли он завещание?
Вечером мы были на панихиде. Дядя в голубом халате лежал на столе в хорошо знакомой мне комнате, где стояло его кресло. Теперь его вынесли, чтобы оно не мешало. Читавшая монахиня погладила меня по голове и подняла кисею, закрывавшую дядино лицо. Оно было такое же, как и при жизни, только стало как-то светлее. В руках, в которых я привык видеть книгу, был образок. Дымчатый кот терся о ножки стола и смотрел на меня, точно хотел сказать, что все кончено.
Казалось, все изменилось в квартире, – только ряды книг по-прежнему чинно стояли, точно для них не могло быть конца. Вдумчиво, как всегда, глядели с высоты портреты писателей, отражая в стеклах дымящие огоньки свечей.
Я взглянул на свои полки. Я унесу их из этой осиротевшей квартиры в свой тихий уголок! С ними я унесу все, что пережил здесь.
Высокий старик с насупленными бровями стоял у окна и разговаривал с юрким, вытягивавшим шею человечком. Он держал себя здесь как хозяин. Это был дядин брат. На моих глазах он вытащил из моей полки книгу и, держа ее, как пюпитр[10], писал что-то на листке бумаги.
– Да, да… но без балдахина. Сейчас же распорядиться!..
Да, он был здесь хозяин. Его все называли наследником. Ему принадлежало здесь всё; всё, за исключением моих двух полок. Он были отказаны мне.
Он швырнул мою книгу на окно и прошел в другую комнату. Что было со мной! Он швырнул мою книгу! Дядину книгу!
Я подошел, взял ее и раскрыл. Гоголь! «Мертвые души»… Он швырнул Гоголя! Я уже знал о нем, «бессмертном», как говорил дядя.
Невольно я поглядел кверху и отыскал знакомый портрет.
Милый Гоголь глядел с посмеивающейся улыбкой из-под прядки волос. Я бережно поставил книгу на место.
Знакомые и незнакомые люди ходили вдоль полок и с любопытством разглядывали книги, показывали пальцами на портреты писателей и путали: они Гончарова принимали за Тургенева и Пушкина смешивали с Жуковским! Только небольшая группа совсем незнакомых мне людей держалась особняком. Они принесли фарфоровый венок с лентами, ни с кем не здоровались и сейчас же после панихиды ушли. Их знал только дядин старичок.
– Тоже в журналах пишут, – сказал он.
Я с благоговением посмотрел им вслед.
IV
Проползли два томительных дня. Дядю похоронили. В большой комнате, где недавно стояло тихое кресло, теперь гремели тарелками, кушая блины и кисель. Высокий человек, дядя-наследник, распоряжался. Хлопали пробки, пахло ладаном и воском. Озабоченные официанты обносили заливной рыбой. Кто-то шепотом возле меня говорил о капиталах…
А тысячи книг смотрели на все с холодным спокойствием.
Первая острота потери прошла: я смотрел на отказанные мне полки и считал корешки. Много я насчитал за время обеда – что-то более пятисот. Красные и зеленые корешки сливались, я путался и считал снова.
После обеда, когда все стали расходиться, я понял, что более не попаду сюда. В последний раз окинул я взглядом стройные ряды книг и остановился на моих полках.
«Когда же дадут мне их?» – спрашивал я себя.
– Чего же ты стоишь? – окликнули меня из передней.
Я указал пальцем на свои полки.
– Дядя отказал мне их… Это мои книги! – сказал я.
Затихавшее чувство утраты поднялось снова. Мне чувствовалось, что я опять что-то теряю. Не книги как ценность, – я не умел тогда оценивать на рубли, – мне дороги были они как дядины книги.
– Тише… Что ты болтаешь?.. Какие книги?..
Я знал, что не болтаю.
– Эти книги отказал мне дядя! Он даже записал в золотую книжку!..
Дядя-наследник говорил что-то бойкому человечку, что-то записывал и распоряжался. В руке у него была знакомая книжечка с золотым обрезом. Не раздумывая, я подошел к нему, выждал, когда он перестанет говорить, и осторожно потянул его за сюртук.
Он обернулся и посмотрел на меня.
– Тебе что, мальчик? – спросил он сухо.
– Книги… – забормотал я, – вон те книги… две полочки… дядя сказал… записал… в книжку…
– Ах, не мешай ты!
Он отвернулся и, постукивая длинным пальцем по книжечке, сказал кланявшемуся человечку:
– Представьте самый подробный счет расходов… и документы!..
Меня потянули за руку. И я ушел.
Больше я не был здесь и не видал дядиных книг. Я слышал, что их стащили с полок, запаковали в кули и продали торговцу книгами.
Где теперь они? Я часто думаю об этом. Где они, так лелеемые когда-то?! С них ежедневно стирали пыль. Они стояли такими стройными внушительными рядами, казались мне полными скрытой великой силы. Они были так же чисты, как и вписанные в них мысли!
Может быть, их вывезли на рынок, и они разбились по уголкам и полкам… Может быть, попали на чердаки и в подвалы, на непокрытые столы, на которых никогда не лежало книги… В корявые, мозолистые руки, как руки Степана… В занесенные снегом деревни…
А может быть, и до сих пор распродаются на рынках и мокнут под дождем в связках…
Не знаю.
Раньше я жалел, что они разлетелись, а теперь, теперь я понимаю, что лучше, чтобы они ходили из рук в руки и говорили так, как они могут говорить, – мыслями, втиснутыми в черные строки…
А тысячи книг смотрели на все с холодным спокойствием.
Первая острота потери прошла: я смотрел на отказанные мне полки и считал корешки. Много я насчитал за время обеда – что-то более пятисот. Красные и зеленые корешки сливались, я путался и считал снова.
После обеда, когда все стали расходиться, я понял, что более не попаду сюда. В последний раз окинул я взглядом стройные ряды книг и остановился на моих полках.
«Когда же дадут мне их?» – спрашивал я себя.
– Чего же ты стоишь? – окликнули меня из передней.
Я указал пальцем на свои полки.
– Дядя отказал мне их… Это мои книги! – сказал я.
Затихавшее чувство утраты поднялось снова. Мне чувствовалось, что я опять что-то теряю. Не книги как ценность, – я не умел тогда оценивать на рубли, – мне дороги были они как дядины книги.
– Тише… Что ты болтаешь?.. Какие книги?..
Я знал, что не болтаю.
– Эти книги отказал мне дядя! Он даже записал в золотую книжку!..
Дядя-наследник говорил что-то бойкому человечку, что-то записывал и распоряжался. В руке у него была знакомая книжечка с золотым обрезом. Не раздумывая, я подошел к нему, выждал, когда он перестанет говорить, и осторожно потянул его за сюртук.
Он обернулся и посмотрел на меня.
– Тебе что, мальчик? – спросил он сухо.
– Книги… – забормотал я, – вон те книги… две полочки… дядя сказал… записал… в книжку…
– Ах, не мешай ты!
Он отвернулся и, постукивая длинным пальцем по книжечке, сказал кланявшемуся человечку:
– Представьте самый подробный счет расходов… и документы!..
Меня потянули за руку. И я ушел.
Больше я не был здесь и не видал дядиных книг. Я слышал, что их стащили с полок, запаковали в кули и продали торговцу книгами.
Где теперь они? Я часто думаю об этом. Где они, так лелеемые когда-то?! С них ежедневно стирали пыль. Они стояли такими стройными внушительными рядами, казались мне полными скрытой великой силы. Они были так же чисты, как и вписанные в них мысли!
Может быть, их вывезли на рынок, и они разбились по уголкам и полкам… Может быть, попали на чердаки и в подвалы, на непокрытые столы, на которых никогда не лежало книги… В корявые, мозолистые руки, как руки Степана… В занесенные снегом деревни…
А может быть, и до сих пор распродаются на рынках и мокнут под дождем в связках…
Не знаю.
Раньше я жалел, что они разлетелись, а теперь, теперь я понимаю, что лучше, чтобы они ходили из рук в руки и говорили так, как они могут говорить, – мыслями, втиснутыми в черные строки…
