Страница:
— Конечно! — воскликнул черт, глядя на Мудреца влюбленными глазами. — Конечно, о возможном положительном влиянии.
— Всякое явление, — продолжал старик, — заключает в себе две функции: моторную и тормозную. Все дело в том, какая функция в данный момент больше раздражается; моторная или тормозная. Если раздражитель извне попал на моторную функцию — все явление подпрыгивает и продвигается вперед, если раздражитель попал на тормозную — все явление, что называется, съеживается и отползает в глубь себя. — Мудрец посмотрел на черта и на Ивана. — Обычно этого не понимают…
— Почему, это же так понятно, — сказал черт.
— Я все время твержу, — продолжал Мудрец, — что необходимо учитывать наличие вот этих двух функций. Учитывайте функции, учитывайте функции! Всякое явление, если можно так выразиться, о двух головах: одна говорит «да», другая говорит «нет».
— Я видел явление о трех головах… — вякнул было Иван, но на него не обратили внимания.
— Ударим одну голову, услышим «да»; ударим другую, услышим «нет». — Старик Мудрец стремительно вскинул руку, нацелился пальцем в черта. — Какую ударили вы?
— Мы ударили, которая сказала «да», — не колеблясь, ответил черт. Старик опустил руку.
— Исходя из потенциальных возможностей данных голов, данного явления, голова, которая говорит «да», — крепче. Следует ожидать, что все явление подпрыгнет и продвинется вперед. Идите. И — с теорией, с теорией мне!.. — Старик опять погрозил пальцем черту.
— Манкируете! Смотрите! Распушу!.. Ох, распушу! Черт, мелко кивая головой, улыбаясь, пятился и пятился к выходу… Задом открыл дверь и так с подкупающей улыбкой на мордочке исчез. Иван же как стоял, так упал на колени перед Мудрецом.
— Батя, — взмолился он, — ведь на мне грех-то: я научил чертей, как пройти в монастырь…
— Ну?.. Встань-ка, встань — я не люблю этого. Встань, — велел Мудрец. Иван встал.
— Ну? И как же ты их научил? — с улыбкой спросил старик.
— Я подсказал, чтоб они спели родную песню стражника… Они там мельтешили перед ним — он держался пока, а я говорю: вы родную его запойте, родную его… Они и запели…
— Какую же они запели?
— «По диким степям Забайкалья».
Старик засмеялся
— Ах, шельмы! — воскликнул он. — И хорошо запели?
— Так запели, так сладко запели, что у меня у самого горло перехватило.
— А ты петь умеешь? — быстро спросил Мудрец.
— Ну, как умею?.. Так…
— А плясать?
— А зачем? — насторожился Иван.
— Ну-ка… — заволновался старичок, — вот чего! Поедем-ка мы в одно место. Ах, Ваня!.. Устаю, дружок, так устаю — боюсь, упаду когда-нибудь и не встану. Не от напряжения упаду, заметь, от мыслей.
Тут вошла секретарша Милка. С бумагой.
— Сообщают: вулкан «Дзидра» готов к извержению, — доложила она.
— Ага! — воскликнул старичок и пробежался по кабинету. — Что? Толчки?
— Толчки. Температура в кратере… Гул.
— Пойдем от аналогии с беременной женщиной, — подстегнул свои мысли старичок. — Толчки… Есть толчки? Есть. Температура в кратере… Общая возбудимость беременной женщины, болтливость ее — это не что иное, как температура в кратере. Есть? Гул, гул… — Старичок осадил мысли, нацелился пальцем в Милку: — А что такое гул?
Милка не знала.
— Что такое гул? — Старичок нацелился в Ивана.
— Гул?.. — Иван засмеялся. — Это смотря какой гул… Допустим, гул сделает Илья Муромец-это одно, а сделает гул Бедная Лиза — это…
— Вульгартеория, — прервал старичок Ивана. — Гул — это сотрясение воздуха.
— А знаешь, как от Ильи сотрясается! — воскликнул Иван. — Стекла дребезжат!
— Распушу! — рявкнул старичок. Иван смолк. — Гул — это не только механическое сотрясение, это также… утробное. Есть гул, который человеческое ухо не может воспринять…
— Ухо-то не может воспринять, а… — не утерпел опять Иван, но старичок вперил в пего строгий взор.
— Ну что тебя, распушить?
— Не надо, — попросил Иван. — Больше не буду.
— Продолжим. Все три признака великой аналогии — налицо. Резюме? Резюме: пускай извергается.
— Старичок выстрелил пальчиком в секретаршу: — Так и запишите. Секретарша Милка так и записала. И ушла.
— Устаю, Ваня, дружок, — продолжал старичок свою тему, как если бы он и не прерывался.
— Так устаю, что иногда кажется: все, больше не смогу наложить ни одной резолюции. Нет, наступает момент, и опять накладываю. По семьсот, по восемьсот резолюций в сутки. Вот и захочется иной раз… — Старичок тонко, блудливо засмеялся.
— Захочется иной раз пощипать… травки пощипать, ягодки… черт те что!.. И, знаешь ли, принимаю решение… восемьсот первое: перекур! Есть тут одна такая… царевна Несмеяна, вот мы счас и нагрянем к ней.
Опять вошла секретарша Милка: — Сиамский кот Тишка прыгнул с восьмого этажа.
— Разбился?
— Разбился.
Старичок подумал…
— Запишите, — велел он. — Кот Тимофей не утерпел.
— Все? — спросила секретарша.
— Все. Какая по счету резолюция на сегодня?
— Семьсот сорок восьмая.
— Перекур.
Секретарша Милка кивнула головой. И вышла.
— К царевне, дружок! — воскликнул освобожденный Мудрец. — Сейчас мы ее рассмешим! Мы ее распотешим, Ваня. Грех, грех, конечно, грех… А?
— Я ничего. До третьих петухов-то успеем? Мне еще идти сколько.
— Успеем! Грех, говоришь? Конечно, конечно, грех. Не положено, да? Грех, да?
— Я не про тот грех… Чертей, мол, в монастырь пустили — вот грех-то.
Старичок значительно подумал.
— Чертей-то? Да, — сказал он непонятно. — Все не так просто, дружок, все, милый мой, очень и очень не просто. А кот-то… А? Сиамский-то. С восьмого этажа! Поехали!
Сперва она лежала просто так… Лежала, лежала и взвыла.
— Повешусь! — заявила она.
Были тут еще какие-то молодые люди, парни и девушки. Им тоже было скучно. Лежали в купальных костюмах среди фикусов под кварцевыми лампами — загорали. И всем было страшно скучно.
— Повешу-усь! — закричала Несмеяна. — Не могу больше!
Молодые люди выключили транзисторы.
— Ну, пусть, — сказал один. — А что?
— Принеси веревку, — попросила его. Этот, которого попросили, полежал-полежал… сел, — А потом — стремянку? — сказал он.
— А потом — крюк искать? Я лучше пойду ей по морде дам.
— Не надо, — сказали. — Пусть вешается — может, интересно будет.
Одна девица встала и принесла веревку. А парень принес стремянку и поставил ее под крюк, на котором висела люстра.
— Люстру сними пока, — посоветовали.
— Сам снимай! — огрызнулся парень.
Тогда тот, который посоветовал снять люстру, встал и полез па стремянку — снимать люстру. Мало-помалу задвигались… Дело появилось.
— Веревку-то надо намылить.
— Да, веревку намыливают… Где мыло?
Пошли искать мыло.
— Есть мыло?
— Хозяйственное…
— Ничего?
— Какая разница! Держи веревку. Не оборвется?
— Сколько в тебе, Алка? — Алка это и есть Несмеяна. — Сколько весишь?
— Восемьдесят.
— Выдержит. Намыливай.
Намылили веревку, сделали петлю, привязали конец к крюку… Слезли со стремянки.
— Давай, Алка. Алка — Несмеяна вяло поднялась… зевнула и полезла на стремянку. Влезла…
— Скажи последнее слово, — попросил кто-то.
— Ой, только не надо! — запротестовали все остальные. — Не надо, Алка, не говори.
— Этого только не хватает!
— Умоляю, Алка!.. Не надо слов. Лучше спой.
— Ни петь, ни говорить я не собираюсь, — сказала Алка.
— Умница! Давай.
Алка надела на шею петлю… Постояла.
— Стремянку потом ногой толкни.
Но Алка вдруг села на стремянку и опять взвыла:
— Тоже скучно-о!.. — не то пропела она, не то заплакала. — Не смешно-о! С ней согласились.
— Действительно…
— Ничего нового: было-перебыло.
— К тому же патология.
— Натурализм.
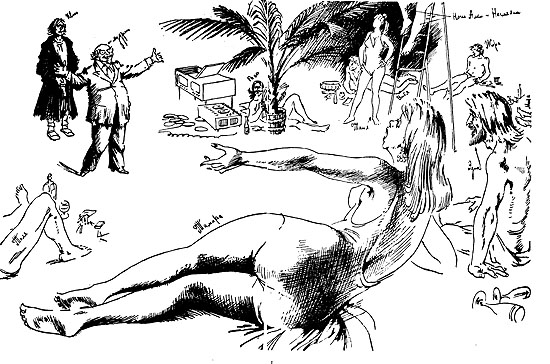
И тут-то вошли Мудрец с Иваном.
— Вот, изволь, — бодренько заговорил старичок, хихикая и потирая руки, — дуреют от скуки. Ну-с, молодые люди!.. Разумеется, все средства испробованы, а как избавиться от скуки — такого средства нет. Так ведь? А, Несмеянушка?
— Ты прошлый раз обещал что-нибудь придумать, — капризно сказала Несмеяна со стремянки.
— А я и придумал! — воскликнул старичок весело. — Я обещал, я и придумал. Вы, господа хорошие, в поисках так называемого веселья совсем забыли о народе. А ведь народ не скучал! Народ смеялся!.. Умел смеяться. Бывали в истории моменты, когда народ прогонял со своей земли целые полчища — и только смехом. Полчища окружали со всех сторон крепостные стены, а за стенами вдруг раздавался могучий смех… Враги терялись и отходили. Надо знать историю, милые люди… А то мы… слишком уж остроумные, интеллектуальные… а родной истории не знаем. А, Несмеянушка?
— Что ты придумал? — спросила Несмеяна.
— Что я придумал? Я взял и обратился к народу! — не без пафоса сказал старичок.
— К народу, к народу, голубушка. Что мы споем, Ваня?
— Да мне как-то неловко: они нагишом все… — сказал Иван. — Пусть хоть оденутся, что ли.
Молодые безразлично промолчали, а старичок похихикал снисходительно — показал, что он тоже не в восторге от этих средневековых представлений Ивана о стыдливости.
— Ваня, это… Ну, скажем так: не нашего ума дело. Наше дело — петь и плясать. Верно? Балалайку! Принесли балалайку.
Иван взял ее. Потренькал, потинькал — подстроил… Вышел за дверь,.. И вдруг влетел в комнату — чуть не со свистом и с гиканьем — с частушкой:
— Не надо, Ваня.
— Так, — сказал старичок. — На языке офеней это называется — не прохонже. Двинем резерв. Перепляс! Ваня, пли!
— Пошел к чертовой матери! — рассердился Иван. — Что я тебе, Петрушка? Ты же видишь, им не смешно! И мне тоже не смешно.
— А справка? — зловеще спросил старичок. — А? Справка-то… Ее ведь надо заработать.
— Ну вот, сразу — в кусты. Как же так, батя?
— А как же! Мы же договорились.
— Но им же не смешно! Было бы хоть смешно, ей-богу, но так-то… Ну стыдно же, ну…
— Не мучай человека, — сказала Несмеяна старичку.
— Давай справку, — стал нервничать Иван. — И так проваландались сколько. Я же не успею. Первые петухи-то когда ишо пропели!.. Вот-вот вторые грянут, а до третьих надо успеть. А мне ишо идти да идти.
Но старичок решил все же развеселить молодежь. И пустился он на очень и очень постыдный выверт — решил сделать Ивана посмешищем: так охота ему стало угодить своей «царевне», так невтерпеж сделалось старому греховоднику. К тому же и досада его взяла, что никак не может рассмешить этих скучающих баранов.
— Справку? — спросил он с дурашливым недоумением. — Какую справку?
— Здрассте! — воскликнул Иван. — Я же говорил…
— Я забыл, повтори.
— Что я умный.
— А! — «вспомнил» старичок, все стараясь вовлечь в нехорошую игру молодежь тоже. — Тебе нужна справка, что ты умный, Я вспомнил. Но как же я могу дать такую справку? А?
— У тебя же есть печать…
— Да печать-то есть… Но я же не знаю: умный ты или нет. Я, допустим, дам тебе справку, что ты умный, а ты — дурак дураком. Что это будет? Это будет подлог. Я не могу пойти на это. Ответь мне прежде на три вопроса. Ответишь — дам тебе справку, не ответишь — не обессудь.
— Давай, — с неохотой сказал Иван. — Во всех предисловиях писано, что я вовсе не дурак.
— Предисловия пишут… Знаешь, кто предисловия пишет?
— Это что, первый вопрос?
— Нет, нет. Это еще не вопрос. Это так… Вопрос вот какой: что сказал Адам, когда Бог вынул у него ребро и сотворил Еву? Что сказал при этом Адам? — Старичок искоса и лукаво поглядел на свою «царевну» и на других молодых: поинтересовался, как приняли эту его затею с экзаменом. Сам он был доволен. — Ну? Что же сказал Адам?
— Не смешно, — сказала Несмеяна. — Тупо. Плоско.
— Самодеятельность какая-то, — сказали и другие. — Идиотизм. Что он сказал? «Сам сотворил, сам и живи с ней»?
Старичок угодливо засмеялся и выстрелил пальчиком в молодого человека, который так сострил.
— Очень близко!.. Очень!
— Мог бы и поостроумнее сказать.
— Минуточку… Минуточку… — суетился старичок. — Самое же интересное — как ответит Иван! Ваня, что сказал Адам?
— А можно, я тоже задам вопрос? — в свою очередь спросил Иван. — Потом…
— Нет, сначала ответь: что сказал…
— Нет, пусть он спросит, — закапризничала Несмеяна. — Спроси, Ваня.
— Да что он может спросить? Почем куль овса на базаре?
— Спроси, Ваня. Спроси, Ваня. Ваня, спроси. Спроси, Ваня!
— Ну-у, это уже ребячество, — огорчился старичок. — Хорошо, спроси, Ваня.
— Ответь мне, почему у тебя одно лишнее ребро? — Иван. подражая старичку, нацелился в него пальцем.
— То есть? — опешил тот.
— Нет, нет, не «то есть», а почему? — заинтересовалась Несмеяна. — И почему ты это скрывал?
— Это уже любопытно, — заинтересовались и другие. — Лишнее ребро? Это же из ряда вон!..
— Так вот вся мудрость-то откуда!
— Ой, как интересно-о!
— Покажите, пожалуйста. Ну, пожалуйста! Молодые люди стали окружать старичка.
— Ну, ну, ну, — испугался старичок, — зачем же так? Ну что за шутки? Что, так понравилась мысль дурака, что ли?
Старичка окружали все теснее. Кто-то уже тянулся к его пиджаку, кто-то дергал за штаны — Мудреца вознамерились раздеть без всяких шуток.
— И скрывать действительно такое преимущество… Зачем же?
— Подержите-ка пиджак, пиджак подержите!.. О, тут не очень-то их прощупаешь!
— Прекратите! — закричал старичок и начал сопротивляться изо всех сил, но только больше раззадоривал этим. — Немедленно прекратите это безобразие! Это не смешно, понимаете? Это не юмор, это же не юмор! Дурак пошутил, а они… Иван, скажи, что ты пошутил!
— По-моему, я уже нащупал!.. Рубашка мешает, — вовсю шуровал один здоровенный парень. — У него тут еще майка… Нет, теплое белье! Синтетическое. Лечебное. Подержите-ка рубашку…
С Мудреца сняли пиджак, брюки. Сняли рубашку. Старичок предстал в нижнем теплом белье.
— Это безобразие! — кричал он. — Здесь же нет основания для юмора! Когда смешно? Смешно, когда намерения, цель и средства — все искажено! Когда налицо отклонение от нормы!
Здоровенный парень деликатно похлопал его по круглому животу.
— А это… разве не отклонение?
— Руки прочь! — завопил старичок. — Идиоты! Придурки!.. Никакого представления, что такое смешно!.. Кретины! Лежебоки…
В это время его аккуратненько пощекотали, он громко захохотал и хотел вырваться из окружения, но молодые бычки и телки стояли весьма плотно.
— Почему вы скрывали о наличии лишнего ребра?
— Да какое ребро? Ой, ха-ха-ха!.. Да где? Ха-ха-ха!.. Ой, не могу!.. Это же… Ха-ха-ха!.. Это же… Ха-ха-ха!..
— Дайте ему сказать.
— Это примитив! Это юмор каменного века! Все глупо, начиная с ребра и кончая вашим стремлением… Ха-ха-ха!.. О-о-о!.. — И тут старичок пукнул, так это — по-старчески, негромко дал, и сам очень испугался, весь встрепенулся и съежился.
А с молодыми началась истерика, Теперь хохотали они, но как! — взахлеб, легли. Несмеяна опасно качалась на стремянке, хотела слезть, но не могла двинуться от смеха. Иван полез и снял ее. И положил рядом с другими — хохотать. Сам же нашел брюки старика, порылся в кармане… И нашел. Печать. И взял ее.
— Вы пока тут занимайтесь, — сказал он, — а мне пора отправляться.
— Зачем же ты всю-то… печать-то? — жалко спросил Мудрец. — Давай, я тебе справку выдам.
— Я сам теперь буду выдавать справки. Всем подряд. — Иван пошел к двери. — Прощайте.
— Это вероломство, Иван, — сказал Мудрец. — Насилие.
— Ничего подобного. — Иван тоже стал в позу. — Насилие — это когда по зубам бьют.
— Я ведь наложу резолюцию! — заявил Мудрец с угрозой. — Наложу ведь — запляшете!
— Слабо, батя! — крикнули из компании молодых. — Клади!

— Возлюбленный мой! — заломила руки в мольбе Несмеяна. — Наложи! Колыхни атмосферу!
— Решение! — торжественно объявил Мудрец. — Данный юмор данного коллектива дураков объявляется тупым! А также несвоевременным и животным, в связи с чем он лишается права выражать собой качество, именуемое в дальнейшем — смех. Точка. Мой так называемый нежданчик считать недействительным.
Ивану стало жалко монахов. Но когда он подошел ближе, он увидел: монахи стоят и подергивают плечами в такт чертовой музыке. И ногами тихонько пристукивают. Только несколько — в основном пожилые — сидели в горестных позах на земле и покачивали головами… Но вот диковина: хоть и грустно они покачивали, а все же в такт. Да и сам Иван — постоял маленько и не заметил, как стал тоже подергиваться и притопывать ногой, словно зуд его охватил. Но вот визг и песнопение смолкло в монастыре — видно, устали черти, передых взяли. Монахи отошли от забора… И тут вдруг вылез из канавы стражник-монах и пошел с пьяных глаз на свое былое место.
— Ну-ка, брысь! — сказал он черту. — Ты как здесь?
Черт-стражник снисходительно улыбался.
— Иди, иди, дядя, иди проспись. Отойди!
— Эт-то што такое?! — изумился монах. — По какому такому праву? Как ты здесь оказался?
— Иди проспись, потом я тебе объясню твое право. Пшел!
Монах полез было на черта, но тот довольно чувствительно ткнул его пикой.
— Пшел, говорят! Нальют глаза-то и лезут… Не положено подходить! Вон инструкция висит: подходить к воротам не ближе десяти метров.
— Ах ты, харя! — заругался монах. — Ах ты, аборт козлиный!.. Ну, ладно, ладно… Дай, я в себя приду, я тебе покажу инструкцию. Я тебя самого повешу заместо инструкции!
— И выражаться не положено, — строго заметил черт. — А то я тебя быстро определю — там будешь выражаться, сколько влезет. Обзываться он будет! Я те по — обзываюсь! Иди отсюда, пока я те… Иди отсюда! Бочка пивная. Иди отсюда!
— Агафангел! — позвали монаха. — Отойди… А то наживешь беды. Отойди от греха.
Агафангел, покачиваясь, пошел восвояси. Пошел и загудел:
— Агафангел… — сказал он, смеясь. — И назовут же! Уж скорей-«Агавинус». Или просто-«Вермут».
— Што же это, братцы, случилось-то с вами? — спросил Иван, подсаживаясь к монахам. — Выгнали?
— Выгнали, — вздохнул один седобородый. — Да как выгнали! Пиночьями, вот как выгнали! Взашей попросили.
— Беда, беда, — тихо молвил другой. — Вот уж беда так беда: небывалая. Отродясь такой не видывали.
— Надо терпеть, — откликнулся совсем ветхий старичок и слабо высморкался. — Укрепиться и терпеть.
— Да что же терпеть-то?! — воскликнул Иван. — Что терпеть-то?! Надо же что-то делать!
— Молодой ты, — урезонили его. — Потому и шумишь. Будешь постарше — не будешь шуметь. Што делать? Што тут сделаешь — вишь, сила какая! — Это нам за грехи наши. — За грехи, за грехи… Надо терпеть. — Будем терпеть.
Иван с силой, зло, стукнул кулаком себя по колену. И сказал горько:
— Где была моя голова дурная?! Где она была, тыква?! Я виноватый, братцы, я виноватый! Я подкузьмил вам. На мне грех.
— Ну, ну, ну, — стали его успокаивать. — Что ты? Эка, как тебя сграбастало. Чего ты?
— Эх-х!.. — сокрушался Иван. И даже заплакал. — Сколько же я на душу взял… за один-то поход! Как же мне тяжко!..
— Ну, ну… Не казнись, не надо. Что теперь сделаешь? Надо терпеть, милок.
Тут вышел из ворот Изящный черт и обратился ко всем.
— Мужички, — сказал он, — есть халтура! Кто хочет заработать?
— Ну? А чего такое? — зашевелились монахи. — Чего надо-то?
— У вас там портреты висят… в несколько рядов…
— Иконы.
— А?
— Святые наши, какие портреты?
— Их надо переписать: они устарели.
Монахи опешили.
— И кого же заместо их писать? — тихо спросил самый старый монах.
— Нас.
Теперь уж все смолкли. И долго молчали.
— Гром небесный, — сказал старик монах. — Вот она, кара-то.
— Ну? — торопил Изящный черт. — Есть мастера? Заплатим прилично…
Все равно ведь без дела сидите.
— Бей их! — закричал вдруг один монах. И несколько человек вскочило… И кинулись на черта, ко тот быстро вбежал в ворота, за стражника. А к стражнику в момент подстроились другие черти и выставили вперед пики. Монахи остановились.
Какие вы все же… грубые, — сказал им Изящный черт из-за частокола. — Невоспитанные. Воспитывать да воспитывать вас… Дикари. Пошехонь. Ничего, мы за вас теперь возьмемся. — И он ушел. И только он ушел, в глубине монастыря опять грянула музыка… И послышался звонкий перестук копыт по булыжнику — черти били на площади массовую чечетку. Иван взялся за голову и пошел прочь.

— Ну, сходил? — спросил он.
— Сходил, — откликнулся Иван. — Лучше бы не ходил…
— Что? Не дали справку?
Иван только рукой махнул, не стал говорить — больно было говорить. Медведь прислушался к далекой музыке… И все понял без слов.
— Эти… — сказал он. — Все пляшут?
— Где пляшут-то? В монастыре пляшут-то!
— Ох, мать честная! — изумился Медведь. — Прошли?
— Прошли.
— Ну, все, — сказал Медведь обреченно, — надо уходить. Я так и знал, что пройдут.
Они помолчали.
— Слушай, — заговорил Медведь, — ты там ближе к городу… Какие условия в цирке?
— Вроде ничего… Я, правда, не шибко знаю, но так, слышно, ничего.
— Как насчет питания, интересно… Сколькиразовое?
— Шут его знает. Хочешь в цирк?
— Ну, а что делать-то? Хочешь не хочешь — пойдешь. Куда больше?
— Да… — вздохнул Иван. — Дела.
— Сильно безобразничают? — спросил Медведь, закуривая. — Эти-то?
— А что же… смотреть, что ли, будут!
— Это уж… не для того старались. Погарцуют теперь. Тьфу, в душу мать-то совсем!.. —
Медведь закашлялся. Долго с хрипом кашлял. — Еще откажут вот… в цирке-то — собрался. Забракуют. Легкие как тряпки стали. Бывало, пробку вышибал — с оглоблю толщиной вылетала, а давеча за коровой погнался… кхо, кхо, кхох… с версту пробежал и язык высунул. А там небось тяжести надо подымать.
— Там надо на задних лапах ходить, — сказал Иван.
— Зачем? — не понял Медведь.
— Да что же ты, не знаешь, что ли? Тех и кормят, кто на задних лапах умеет. Любая собака знает…
— Да какой интерес-то?
— Это уж я не знаю.
Медведь задумался. Долго молчал. — Ну и ну, — сказал.
— У тебя семья-то есть? — поинтересовался Иван
— Где!.. — горько, с отчаянием воскликнул Михаило Иваныч. — Разогнал. Напился, начал буянить-то — они все разбежались. Где теперь, сам не знаю. — Он еще помолчал. И вдруг встал и рявкнул: — Ну, курва! Напьюсь водки, возьму оглоблю и пойду крушить монастырь!
— Зачем же монастырь-то?
— Они же там!
— Нет, Михаило Иваныч… не надо. Да ты и не попадешь туда.
Михаило Иваныч сел и трясущимися лапами стал закуривать.
— Ты не пьешь? — спросил.
— Нет.
— Зря, — зло сказал Михаило Иваныч.. — Легче становится. Хошь, научу?
— Нет, — решительно сказал Иван. — Я пробовал — она горькая.
— Кто?
— Водка-то.
Михаило Иваныч оглушительно захохотал… И хлопнул Ивана по плечу.
— Эх, дите ты, дите!.. Чистое дите, ей-богу. А то научу?
— Нет. — Иван поднялся с лесины. — Пойду: время осталось с гулькин нос. Прощай.
— Прощай, — сказал Медведь. И они разошлись в разные стороны.
— Иванушка, а Иванушка! Что ж мимо-то?
Оглянулся Иван — никого.
— Да здесь я, — опять голос, — в сортире! Видит Иван-сортир, а на двери — замок пудовый. А голос-то — оттуда, из сортира.
— Кто там? — спросил Иван.
— Да я это, дочка Бабы-Яги… усатая-то, помнишь?
— Помню, как же. А чего ты там? Кто тебя?
— Выручи меня отсюда, Иванушка… Открой замок. На крылечке, под половиком, ключ, возьми его и открой. Потом расскажу все.
— Всякое явление, — продолжал старик, — заключает в себе две функции: моторную и тормозную. Все дело в том, какая функция в данный момент больше раздражается; моторная или тормозная. Если раздражитель извне попал на моторную функцию — все явление подпрыгивает и продвигается вперед, если раздражитель попал на тормозную — все явление, что называется, съеживается и отползает в глубь себя. — Мудрец посмотрел на черта и на Ивана. — Обычно этого не понимают…
— Почему, это же так понятно, — сказал черт.
— Я все время твержу, — продолжал Мудрец, — что необходимо учитывать наличие вот этих двух функций. Учитывайте функции, учитывайте функции! Всякое явление, если можно так выразиться, о двух головах: одна говорит «да», другая говорит «нет».
— Я видел явление о трех головах… — вякнул было Иван, но на него не обратили внимания.
— Ударим одну голову, услышим «да»; ударим другую, услышим «нет». — Старик Мудрец стремительно вскинул руку, нацелился пальцем в черта. — Какую ударили вы?
— Мы ударили, которая сказала «да», — не колеблясь, ответил черт. Старик опустил руку.
— Исходя из потенциальных возможностей данных голов, данного явления, голова, которая говорит «да», — крепче. Следует ожидать, что все явление подпрыгнет и продвинется вперед. Идите. И — с теорией, с теорией мне!.. — Старик опять погрозил пальцем черту.
— Манкируете! Смотрите! Распушу!.. Ох, распушу! Черт, мелко кивая головой, улыбаясь, пятился и пятился к выходу… Задом открыл дверь и так с подкупающей улыбкой на мордочке исчез. Иван же как стоял, так упал на колени перед Мудрецом.
— Батя, — взмолился он, — ведь на мне грех-то: я научил чертей, как пройти в монастырь…
— Ну?.. Встань-ка, встань — я не люблю этого. Встань, — велел Мудрец. Иван встал.
— Ну? И как же ты их научил? — с улыбкой спросил старик.
— Я подсказал, чтоб они спели родную песню стражника… Они там мельтешили перед ним — он держался пока, а я говорю: вы родную его запойте, родную его… Они и запели…
— Какую же они запели?
— «По диким степям Забайкалья».
Старик засмеялся
— Ах, шельмы! — воскликнул он. — И хорошо запели?
— Так запели, так сладко запели, что у меня у самого горло перехватило.
— А ты петь умеешь? — быстро спросил Мудрец.
— Ну, как умею?.. Так…
— А плясать?
— А зачем? — насторожился Иван.
— Ну-ка… — заволновался старичок, — вот чего! Поедем-ка мы в одно место. Ах, Ваня!.. Устаю, дружок, так устаю — боюсь, упаду когда-нибудь и не встану. Не от напряжения упаду, заметь, от мыслей.
Тут вошла секретарша Милка. С бумагой.
— Сообщают: вулкан «Дзидра» готов к извержению, — доложила она.
— Ага! — воскликнул старичок и пробежался по кабинету. — Что? Толчки?
— Толчки. Температура в кратере… Гул.
— Пойдем от аналогии с беременной женщиной, — подстегнул свои мысли старичок. — Толчки… Есть толчки? Есть. Температура в кратере… Общая возбудимость беременной женщины, болтливость ее — это не что иное, как температура в кратере. Есть? Гул, гул… — Старичок осадил мысли, нацелился пальцем в Милку: — А что такое гул?
Милка не знала.
— Что такое гул? — Старичок нацелился в Ивана.
— Гул?.. — Иван засмеялся. — Это смотря какой гул… Допустим, гул сделает Илья Муромец-это одно, а сделает гул Бедная Лиза — это…
— Вульгартеория, — прервал старичок Ивана. — Гул — это сотрясение воздуха.
— А знаешь, как от Ильи сотрясается! — воскликнул Иван. — Стекла дребезжат!
— Распушу! — рявкнул старичок. Иван смолк. — Гул — это не только механическое сотрясение, это также… утробное. Есть гул, который человеческое ухо не может воспринять…
— Ухо-то не может воспринять, а… — не утерпел опять Иван, но старичок вперил в пего строгий взор.
— Ну что тебя, распушить?
— Не надо, — попросил Иван. — Больше не буду.
— Продолжим. Все три признака великой аналогии — налицо. Резюме? Резюме: пускай извергается.
— Старичок выстрелил пальчиком в секретаршу: — Так и запишите. Секретарша Милка так и записала. И ушла.
— Устаю, Ваня, дружок, — продолжал старичок свою тему, как если бы он и не прерывался.
— Так устаю, что иногда кажется: все, больше не смогу наложить ни одной резолюции. Нет, наступает момент, и опять накладываю. По семьсот, по восемьсот резолюций в сутки. Вот и захочется иной раз… — Старичок тонко, блудливо засмеялся.
— Захочется иной раз пощипать… травки пощипать, ягодки… черт те что!.. И, знаешь ли, принимаю решение… восемьсот первое: перекур! Есть тут одна такая… царевна Несмеяна, вот мы счас и нагрянем к ней.
Опять вошла секретарша Милка: — Сиамский кот Тишка прыгнул с восьмого этажа.
— Разбился?
— Разбился.
Старичок подумал…
— Запишите, — велел он. — Кот Тимофей не утерпел.
— Все? — спросила секретарша.
— Все. Какая по счету резолюция на сегодня?
— Семьсот сорок восьмая.
— Перекур.
Секретарша Милка кивнула головой. И вышла.
— К царевне, дружок! — воскликнул освобожденный Мудрец. — Сейчас мы ее рассмешим! Мы ее распотешим, Ваня. Грех, грех, конечно, грех… А?
— Я ничего. До третьих петухов-то успеем? Мне еще идти сколько.
— Успеем! Грех, говоришь? Конечно, конечно, грех. Не положено, да? Грех, да?
— Я не про тот грех… Чертей, мол, в монастырь пустили — вот грех-то.
Старичок значительно подумал.
— Чертей-то? Да, — сказал он непонятно. — Все не так просто, дружок, все, милый мой, очень и очень не просто. А кот-то… А? Сиамский-то. С восьмого этажа! Поехали!
* * * *
Несмеяна тихо зверела от скуки.Сперва она лежала просто так… Лежала, лежала и взвыла.
— Повешусь! — заявила она.
Были тут еще какие-то молодые люди, парни и девушки. Им тоже было скучно. Лежали в купальных костюмах среди фикусов под кварцевыми лампами — загорали. И всем было страшно скучно.
— Повешу-усь! — закричала Несмеяна. — Не могу больше!
Молодые люди выключили транзисторы.
— Ну, пусть, — сказал один. — А что?
— Принеси веревку, — попросила его. Этот, которого попросили, полежал-полежал… сел, — А потом — стремянку? — сказал он.
— А потом — крюк искать? Я лучше пойду ей по морде дам.
— Не надо, — сказали. — Пусть вешается — может, интересно будет.
Одна девица встала и принесла веревку. А парень принес стремянку и поставил ее под крюк, на котором висела люстра.
— Люстру сними пока, — посоветовали.
— Сам снимай! — огрызнулся парень.
Тогда тот, который посоветовал снять люстру, встал и полез па стремянку — снимать люстру. Мало-помалу задвигались… Дело появилось.
— Веревку-то надо намылить.
— Да, веревку намыливают… Где мыло?
Пошли искать мыло.
— Есть мыло?
— Хозяйственное…
— Ничего?
— Какая разница! Держи веревку. Не оборвется?
— Сколько в тебе, Алка? — Алка это и есть Несмеяна. — Сколько весишь?
— Восемьдесят.
— Выдержит. Намыливай.
Намылили веревку, сделали петлю, привязали конец к крюку… Слезли со стремянки.
— Давай, Алка. Алка — Несмеяна вяло поднялась… зевнула и полезла на стремянку. Влезла…
— Скажи последнее слово, — попросил кто-то.
— Ой, только не надо! — запротестовали все остальные. — Не надо, Алка, не говори.
— Этого только не хватает!
— Умоляю, Алка!.. Не надо слов. Лучше спой.
— Ни петь, ни говорить я не собираюсь, — сказала Алка.
— Умница! Давай.
Алка надела на шею петлю… Постояла.
— Стремянку потом ногой толкни.
Но Алка вдруг села на стремянку и опять взвыла:
— Тоже скучно-о!.. — не то пропела она, не то заплакала. — Не смешно-о! С ней согласились.
— Действительно…
— Ничего нового: было-перебыло.
— К тому же патология.
— Натурализм.
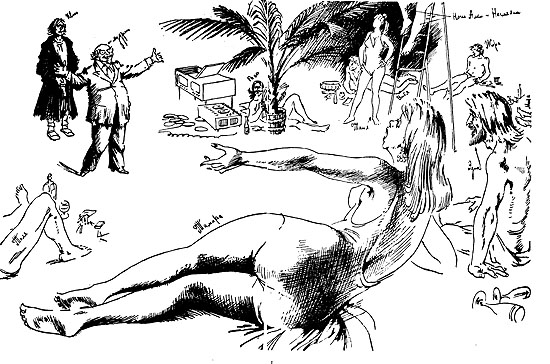
И тут-то вошли Мудрец с Иваном.
— Вот, изволь, — бодренько заговорил старичок, хихикая и потирая руки, — дуреют от скуки. Ну-с, молодые люди!.. Разумеется, все средства испробованы, а как избавиться от скуки — такого средства нет. Так ведь? А, Несмеянушка?
— Ты прошлый раз обещал что-нибудь придумать, — капризно сказала Несмеяна со стремянки.
— А я и придумал! — воскликнул старичок весело. — Я обещал, я и придумал. Вы, господа хорошие, в поисках так называемого веселья совсем забыли о народе. А ведь народ не скучал! Народ смеялся!.. Умел смеяться. Бывали в истории моменты, когда народ прогонял со своей земли целые полчища — и только смехом. Полчища окружали со всех сторон крепостные стены, а за стенами вдруг раздавался могучий смех… Враги терялись и отходили. Надо знать историю, милые люди… А то мы… слишком уж остроумные, интеллектуальные… а родной истории не знаем. А, Несмеянушка?
— Что ты придумал? — спросила Несмеяна.
— Что я придумал? Я взял и обратился к народу! — не без пафоса сказал старичок.
— К народу, к народу, голубушка. Что мы споем, Ваня?
— Да мне как-то неловко: они нагишом все… — сказал Иван. — Пусть хоть оденутся, что ли.
Молодые безразлично промолчали, а старичок похихикал снисходительно — показал, что он тоже не в восторге от этих средневековых представлений Ивана о стыдливости.
— Ваня, это… Ну, скажем так: не нашего ума дело. Наше дело — петь и плясать. Верно? Балалайку! Принесли балалайку.
Иван взял ее. Потренькал, потинькал — подстроил… Вышел за дверь,.. И вдруг влетел в комнату — чуть не со свистом и с гиканьем — с частушкой:
— О-о!.. — застонали молодые и Несмеяна. — Не надо! Ну, пожалуйста…
Эх, милка моя,
Шевелилка моя,
Сама ходит шевелит…
— Не надо, Ваня.
— Так, — сказал старичок. — На языке офеней это называется — не прохонже. Двинем резерв. Перепляс! Ваня, пли!
— Пошел к чертовой матери! — рассердился Иван. — Что я тебе, Петрушка? Ты же видишь, им не смешно! И мне тоже не смешно.
— А справка? — зловеще спросил старичок. — А? Справка-то… Ее ведь надо заработать.
— Ну вот, сразу — в кусты. Как же так, батя?
— А как же! Мы же договорились.
— Но им же не смешно! Было бы хоть смешно, ей-богу, но так-то… Ну стыдно же, ну…
— Не мучай человека, — сказала Несмеяна старичку.
— Давай справку, — стал нервничать Иван. — И так проваландались сколько. Я же не успею. Первые петухи-то когда ишо пропели!.. Вот-вот вторые грянут, а до третьих надо успеть. А мне ишо идти да идти.
Но старичок решил все же развеселить молодежь. И пустился он на очень и очень постыдный выверт — решил сделать Ивана посмешищем: так охота ему стало угодить своей «царевне», так невтерпеж сделалось старому греховоднику. К тому же и досада его взяла, что никак не может рассмешить этих скучающих баранов.
— Справку? — спросил он с дурашливым недоумением. — Какую справку?
— Здрассте! — воскликнул Иван. — Я же говорил…
— Я забыл, повтори.
— Что я умный.
— А! — «вспомнил» старичок, все стараясь вовлечь в нехорошую игру молодежь тоже. — Тебе нужна справка, что ты умный, Я вспомнил. Но как же я могу дать такую справку? А?
— У тебя же есть печать…
— Да печать-то есть… Но я же не знаю: умный ты или нет. Я, допустим, дам тебе справку, что ты умный, а ты — дурак дураком. Что это будет? Это будет подлог. Я не могу пойти на это. Ответь мне прежде на три вопроса. Ответишь — дам тебе справку, не ответишь — не обессудь.
— Давай, — с неохотой сказал Иван. — Во всех предисловиях писано, что я вовсе не дурак.
— Предисловия пишут… Знаешь, кто предисловия пишет?
— Это что, первый вопрос?
— Нет, нет. Это еще не вопрос. Это так… Вопрос вот какой: что сказал Адам, когда Бог вынул у него ребро и сотворил Еву? Что сказал при этом Адам? — Старичок искоса и лукаво поглядел на свою «царевну» и на других молодых: поинтересовался, как приняли эту его затею с экзаменом. Сам он был доволен. — Ну? Что же сказал Адам?
— Не смешно, — сказала Несмеяна. — Тупо. Плоско.
— Самодеятельность какая-то, — сказали и другие. — Идиотизм. Что он сказал? «Сам сотворил, сам и живи с ней»?
Старичок угодливо засмеялся и выстрелил пальчиком в молодого человека, который так сострил.
— Очень близко!.. Очень!
— Мог бы и поостроумнее сказать.
— Минуточку… Минуточку… — суетился старичок. — Самое же интересное — как ответит Иван! Ваня, что сказал Адам?
— А можно, я тоже задам вопрос? — в свою очередь спросил Иван. — Потом…
— Нет, сначала ответь: что сказал…
— Нет, пусть он спросит, — закапризничала Несмеяна. — Спроси, Ваня.
— Да что он может спросить? Почем куль овса на базаре?
— Спроси, Ваня. Спроси, Ваня. Ваня, спроси. Спроси, Ваня!
— Ну-у, это уже ребячество, — огорчился старичок. — Хорошо, спроси, Ваня.
— Ответь мне, почему у тебя одно лишнее ребро? — Иван. подражая старичку, нацелился в него пальцем.
— То есть? — опешил тот.
— Нет, нет, не «то есть», а почему? — заинтересовалась Несмеяна. — И почему ты это скрывал?
— Это уже любопытно, — заинтересовались и другие. — Лишнее ребро? Это же из ряда вон!..
— Так вот вся мудрость-то откуда!
— Ой, как интересно-о!
— Покажите, пожалуйста. Ну, пожалуйста! Молодые люди стали окружать старичка.
— Ну, ну, ну, — испугался старичок, — зачем же так? Ну что за шутки? Что, так понравилась мысль дурака, что ли?
Старичка окружали все теснее. Кто-то уже тянулся к его пиджаку, кто-то дергал за штаны — Мудреца вознамерились раздеть без всяких шуток.
— И скрывать действительно такое преимущество… Зачем же?
— Подержите-ка пиджак, пиджак подержите!.. О, тут не очень-то их прощупаешь!
— Прекратите! — закричал старичок и начал сопротивляться изо всех сил, но только больше раззадоривал этим. — Немедленно прекратите это безобразие! Это не смешно, понимаете? Это не юмор, это же не юмор! Дурак пошутил, а они… Иван, скажи, что ты пошутил!
— По-моему, я уже нащупал!.. Рубашка мешает, — вовсю шуровал один здоровенный парень. — У него тут еще майка… Нет, теплое белье! Синтетическое. Лечебное. Подержите-ка рубашку…
С Мудреца сняли пиджак, брюки. Сняли рубашку. Старичок предстал в нижнем теплом белье.
— Это безобразие! — кричал он. — Здесь же нет основания для юмора! Когда смешно? Смешно, когда намерения, цель и средства — все искажено! Когда налицо отклонение от нормы!
Здоровенный парень деликатно похлопал его по круглому животу.
— А это… разве не отклонение?
— Руки прочь! — завопил старичок. — Идиоты! Придурки!.. Никакого представления, что такое смешно!.. Кретины! Лежебоки…
В это время его аккуратненько пощекотали, он громко захохотал и хотел вырваться из окружения, но молодые бычки и телки стояли весьма плотно.
— Почему вы скрывали о наличии лишнего ребра?
— Да какое ребро? Ой, ха-ха-ха!.. Да где? Ха-ха-ха!.. Ой, не могу!.. Это же… Ха-ха-ха!.. Это же… Ха-ха-ха!..
— Дайте ему сказать.
— Это примитив! Это юмор каменного века! Все глупо, начиная с ребра и кончая вашим стремлением… Ха-ха-ха!.. О-о-о!.. — И тут старичок пукнул, так это — по-старчески, негромко дал, и сам очень испугался, весь встрепенулся и съежился.
А с молодыми началась истерика, Теперь хохотали они, но как! — взахлеб, легли. Несмеяна опасно качалась на стремянке, хотела слезть, но не могла двинуться от смеха. Иван полез и снял ее. И положил рядом с другими — хохотать. Сам же нашел брюки старика, порылся в кармане… И нашел. Печать. И взял ее.
— Вы пока тут занимайтесь, — сказал он, — а мне пора отправляться.
— Зачем же ты всю-то… печать-то? — жалко спросил Мудрец. — Давай, я тебе справку выдам.
— Я сам теперь буду выдавать справки. Всем подряд. — Иван пошел к двери. — Прощайте.
— Это вероломство, Иван, — сказал Мудрец. — Насилие.
— Ничего подобного. — Иван тоже стал в позу. — Насилие — это когда по зубам бьют.
— Я ведь наложу резолюцию! — заявил Мудрец с угрозой. — Наложу ведь — запляшете!
— Слабо, батя! — крикнули из компании молодых. — Клади!

— Возлюбленный мой! — заломила руки в мольбе Несмеяна. — Наложи! Колыхни атмосферу!
— Решение! — торжественно объявил Мудрец. — Данный юмор данного коллектива дураков объявляется тупым! А также несвоевременным и животным, в связи с чем он лишается права выражать собой качество, именуемое в дальнейшем — смех. Точка. Мой так называемый нежданчик считать недействительным.
* * * *
И грянула вдруг дивная, стремительная музыка… И хор. Хор, похоже, поет и движется — приплясывают.Песенка чертей
Это где же так дивно поют и пляшут? Где так умеют радоваться? Э — э!.. То в монастыре. Черти. Монахов они оттуда всех выгнали, а сами веселятся. Когда наш Иван пришел к монастырю, была глубокая ночь; над лесом, близко, висела луна. На воротах стоял теперь стражник — черт. Монахи же облепили забор и смотрели, что делается в монастыре. И там-то как раз шел развеселый бесовский ход: черти шли процессией и пели с приплясом. А песня их далеко разносилась вокруг.
Аллилуйя — вот,
Три-четыре — вот,
Шуры-муры. Шуры-муры,
Аллилуйя — a! Аллилуйя — a!
Мы возьмем с собой в поход
На покладистый народ —
Политуру. Политуру.
Аллилуйя — а! Аллилуйя — а!
Наше — вам
С кистенем;
Под забором,
Под плетнем —
Покультурим. Покультурим.
Аллилуйя — a! Аллилуйя — a!
Ивану стало жалко монахов. Но когда он подошел ближе, он увидел: монахи стоят и подергивают плечами в такт чертовой музыке. И ногами тихонько пристукивают. Только несколько — в основном пожилые — сидели в горестных позах на земле и покачивали головами… Но вот диковина: хоть и грустно они покачивали, а все же в такт. Да и сам Иван — постоял маленько и не заметил, как стал тоже подергиваться и притопывать ногой, словно зуд его охватил. Но вот визг и песнопение смолкло в монастыре — видно, устали черти, передых взяли. Монахи отошли от забора… И тут вдруг вылез из канавы стражник-монах и пошел с пьяных глаз на свое былое место.
— Ну-ка, брысь! — сказал он черту. — Ты как здесь?
Черт-стражник снисходительно улыбался.
— Иди, иди, дядя, иди проспись. Отойди!
— Эт-то што такое?! — изумился монах. — По какому такому праву? Как ты здесь оказался?
— Иди проспись, потом я тебе объясню твое право. Пшел!
Монах полез было на черта, но тот довольно чувствительно ткнул его пикой.
— Пшел, говорят! Нальют глаза-то и лезут… Не положено подходить! Вон инструкция висит: подходить к воротам не ближе десяти метров.
— Ах ты, харя! — заругался монах. — Ах ты, аборт козлиный!.. Ну, ладно, ладно… Дай, я в себя приду, я тебе покажу инструкцию. Я тебя самого повешу заместо инструкции!
— И выражаться не положено, — строго заметил черт. — А то я тебя быстро определю — там будешь выражаться, сколько влезет. Обзываться он будет! Я те по — обзываюсь! Иди отсюда, пока я те… Иди отсюда! Бочка пивная. Иди отсюда!
— Агафангел! — позвали монаха. — Отойди… А то наживешь беды. Отойди от греха.
Агафангел, покачиваясь, пошел восвояси. Пошел и загудел:
Черт-стражник захихикал ему в спину.
По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная…
— Агафангел… — сказал он, смеясь. — И назовут же! Уж скорей-«Агавинус». Или просто-«Вермут».
— Што же это, братцы, случилось-то с вами? — спросил Иван, подсаживаясь к монахам. — Выгнали?
— Выгнали, — вздохнул один седобородый. — Да как выгнали! Пиночьями, вот как выгнали! Взашей попросили.
— Беда, беда, — тихо молвил другой. — Вот уж беда так беда: небывалая. Отродясь такой не видывали.
— Надо терпеть, — откликнулся совсем ветхий старичок и слабо высморкался. — Укрепиться и терпеть.
— Да что же терпеть-то?! — воскликнул Иван. — Что терпеть-то?! Надо же что-то делать!
— Молодой ты, — урезонили его. — Потому и шумишь. Будешь постарше — не будешь шуметь. Што делать? Што тут сделаешь — вишь, сила какая! — Это нам за грехи наши. — За грехи, за грехи… Надо терпеть. — Будем терпеть.
Иван с силой, зло, стукнул кулаком себя по колену. И сказал горько:
— Где была моя голова дурная?! Где она была, тыква?! Я виноватый, братцы, я виноватый! Я подкузьмил вам. На мне грех.
— Ну, ну, ну, — стали его успокаивать. — Что ты? Эка, как тебя сграбастало. Чего ты?
— Эх-х!.. — сокрушался Иван. И даже заплакал. — Сколько же я на душу взял… за один-то поход! Как же мне тяжко!..
— Ну, ну… Не казнись, не надо. Что теперь сделаешь? Надо терпеть, милок.
Тут вышел из ворот Изящный черт и обратился ко всем.
— Мужички, — сказал он, — есть халтура! Кто хочет заработать?
— Ну? А чего такое? — зашевелились монахи. — Чего надо-то?
— У вас там портреты висят… в несколько рядов…
— Иконы.
— А?
— Святые наши, какие портреты?
— Их надо переписать: они устарели.
Монахи опешили.
— И кого же заместо их писать? — тихо спросил самый старый монах.
— Нас.
Теперь уж все смолкли. И долго молчали.
— Гром небесный, — сказал старик монах. — Вот она, кара-то.
— Ну? — торопил Изящный черт. — Есть мастера? Заплатим прилично…
Все равно ведь без дела сидите.
— Бей их! — закричал вдруг один монах. И несколько человек вскочило… И кинулись на черта, ко тот быстро вбежал в ворота, за стражника. А к стражнику в момент подстроились другие черти и выставили вперед пики. Монахи остановились.
Какие вы все же… грубые, — сказал им Изящный черт из-за частокола. — Невоспитанные. Воспитывать да воспитывать вас… Дикари. Пошехонь. Ничего, мы за вас теперь возьмемся. — И он ушел. И только он ушел, в глубине монастыря опять грянула музыка… И послышался звонкий перестук копыт по булыжнику — черти били на площади массовую чечетку. Иван взялся за голову и пошел прочь.
* * * *
Шел он по лесу, а его все преследовала, догоняла, стегала окаянная музыка, чертячий пляс. Шел Иван и плакал — так горько было на душе, так мерзко. Сел он на ту же поваленную лесину, на какой сидел прошлый раз. Сел и задумался. Сзади подошел Медведь и тоже присел.
— Ну, сходил? — спросил он.
— Сходил, — откликнулся Иван. — Лучше бы не ходил…
— Что? Не дали справку?
Иван только рукой махнул, не стал говорить — больно было говорить. Медведь прислушался к далекой музыке… И все понял без слов.
— Эти… — сказал он. — Все пляшут?
— Где пляшут-то? В монастыре пляшут-то!
— Ох, мать честная! — изумился Медведь. — Прошли?
— Прошли.
— Ну, все, — сказал Медведь обреченно, — надо уходить. Я так и знал, что пройдут.
Они помолчали.
— Слушай, — заговорил Медведь, — ты там ближе к городу… Какие условия в цирке?
— Вроде ничего… Я, правда, не шибко знаю, но так, слышно, ничего.
— Как насчет питания, интересно… Сколькиразовое?
— Шут его знает. Хочешь в цирк?
— Ну, а что делать-то? Хочешь не хочешь — пойдешь. Куда больше?
— Да… — вздохнул Иван. — Дела.
— Сильно безобразничают? — спросил Медведь, закуривая. — Эти-то?
— А что же… смотреть, что ли, будут!
— Это уж… не для того старались. Погарцуют теперь. Тьфу, в душу мать-то совсем!.. —
Медведь закашлялся. Долго с хрипом кашлял. — Еще откажут вот… в цирке-то — собрался. Забракуют. Легкие как тряпки стали. Бывало, пробку вышибал — с оглоблю толщиной вылетала, а давеча за коровой погнался… кхо, кхо, кхох… с версту пробежал и язык высунул. А там небось тяжести надо подымать.
— Там надо на задних лапах ходить, — сказал Иван.
— Зачем? — не понял Медведь.
— Да что же ты, не знаешь, что ли? Тех и кормят, кто на задних лапах умеет. Любая собака знает…
— Да какой интерес-то?
— Это уж я не знаю.
Медведь задумался. Долго молчал. — Ну и ну, — сказал.
— У тебя семья-то есть? — поинтересовался Иван
— Где!.. — горько, с отчаянием воскликнул Михаило Иваныч. — Разогнал. Напился, начал буянить-то — они все разбежались. Где теперь, сам не знаю. — Он еще помолчал. И вдруг встал и рявкнул: — Ну, курва! Напьюсь водки, возьму оглоблю и пойду крушить монастырь!
— Зачем же монастырь-то?
— Они же там!
— Нет, Михаило Иваныч… не надо. Да ты и не попадешь туда.
Михаило Иваныч сел и трясущимися лапами стал закуривать.
— Ты не пьешь? — спросил.
— Нет.
— Зря, — зло сказал Михаило Иваныч.. — Легче становится. Хошь, научу?
— Нет, — решительно сказал Иван. — Я пробовал — она горькая.
— Кто?
— Водка-то.
Михаило Иваныч оглушительно захохотал… И хлопнул Ивана по плечу.
— Эх, дите ты, дите!.. Чистое дите, ей-богу. А то научу?
— Нет. — Иван поднялся с лесины. — Пойду: время осталось с гулькин нос. Прощай.
— Прощай, — сказал Медведь. И они разошлись в разные стороны.
* * * *
И пришел Иван к избушке Бабы-Яги. И хотел уж было мимо протопать, как услышал — зовут:— Иванушка, а Иванушка! Что ж мимо-то?
Оглянулся Иван — никого.
— Да здесь я, — опять голос, — в сортире! Видит Иван-сортир, а на двери — замок пудовый. А голос-то — оттуда, из сортира.
— Кто там? — спросил Иван.
— Да я это, дочка Бабы-Яги… усатая-то, помнишь?
— Помню, как же. А чего ты там? Кто тебя?
— Выручи меня отсюда, Иванушка… Открой замок. На крылечке, под половиком, ключ, возьми его и открой. Потом расскажу все.
