Страница:
Нужно дать себе ясный отчет в том, что в религиозной жизни не может быть никаких гарантий. Мы не можем навязывать Богу свою волю и свои представления о том, что хорошо, а что плохо, человек сам по себе отчасти лишен способности различия добра и зла. Об этом свидетельствует и русская поговорка: «Благими намерениями выстлана дорога в ад». Что в данном случае является благом, а что может нанести непоправимый вред человеческой душе, какое из двух зол является наименьшим – это не дано нам определить, глубина бытия скрыта от рефлексирующего рассудка.
Поиск правды без Бога чреват катастрофой. Это предостережение можно отнести в равной степени как к жизни отдельного человека, так и к истории народов и государств. Как известно, борьба за свободу, равенство и братство, под лозунгами которой совершалась французская революция в конце XVIII века, закончилась общеевропейской войной. А плодами эпохи Просвещения, среди прочих достаточно сомнительных достижений, стал аморализм маркиза де Сада и гильотина. Поэтому поиск духовного блага для человека возможен лишь в самоотречении, в самоотречении не только от своих желаний, дабы не было соблазна принять желаемое за действительное или навязать свои желания Богу, но и в отказе от тех стереотипов и рассудочных построений, которыми мы руководствуемся в повседневности.
Акт веры заставляет нас пойти на определенный «риск», положившись на волю Божию, довериться Ему подобно Аврааму, который вел своего сына Исаака на заклание, внимая Божественному повелению. Мы должны выпустить усопшего из своего эгоцентричного мира и передать его в руки Божии. При этом даже не помышляя думать и пытаться что-либо решать за Бога, так как всякая наша правда пред Ним есть «руб поверженный», а мудрость мира – сущее безумие. Близость к Богу рождается через доверие к Нему. Даже на первых порах, когда потеря близкого переживается наиболее остро, мы должны не жалеть себя, не упиваться своим горем, а прорваться через собственные эмоции к Тому, перед Кем мы ходатайствуем за того, кого любим, кого мы потеряли на земле, но пока еще не обрели в вечности. Поэтому в данном случае, возможно, особую значимость имеют такие постоянные и неотъемлемые элементы христианской молитвы, как славословия Богу. Насколько сложно в такой жизненной ситуации честно произнести привычные слова: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу всегда, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Действительно, нелегко сказать это от всего сердца, когда мы видим перед собою лежащим обезображенным смертью того, кого, возможно, мы любим более всех живущих на свете. Бог, во власти Которого все на земле, отнял у меня самое дорогое, могу ли я дать на это свое внутреннее согласие? Для преодоления такого барьера нужны необычайная решимость веры и подлинное самоотречение. Самоотречение доступно каждому из нас, если он заглянет внутрь себя и сможет отделить любовь к усопшему от иных своих переживаний, и в этой любви уже есть начаток подлинного отречения от себя, начаток любви и абсолютного доверия к Богу.
Вернемся же теперь к нашему вопросу: так в каком же случае мы имеем, так сказать, «моральное право» просить у Бога? Ответ мы можем найти в заключительных словах заупокойной ектеньи, которая возглашается в начале чинопоследования панихиды:
Милости Божия, Царства Небеснаго, и оставления грехов испросивше тем и сами себе, друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим[6].
Отдать себя и отдать ближнего в руки Бога – вот главное условие любой просительной молитвы. Каждое наше прошение обретает свою завершенность именно в этих словах, именно при таком понимании взаимоотношения человека и Бога, где каждая из сторон молитвенного диалога всецело посвящает, передает себя другой стороне. Но зачем просить о чем-либо Бога, если Ему и так известно о том, в чем мы на данный момент нуждаемся, обо всех наших желаниях, которые, к слову сказать, часто расходятся с нашими потребностями? Ребром этот вопрос ставит само Евангелие, говоря о том, что Отец наш Небесный и так знает наперед, в чем мы имеем нужду (см.: Мф. 6: 30). Господу известны все наши мысли, все наши вопрошания, не нужно ли ограничить молитву нашу одним лишь единственным прошением: «Да будет воля Твоя…», не будет ли это для нас достаточным? Возможно, на определенной духовной высоте, на которую суждено подняться лишь единицам, это действительно так, и подлинная молитва совершается в безмолвном созерцании Божественной Славы. Для нас же, людей приземленных, возможность обратиться к Богу с просьбой открывает саму перспективу духовной жизни. В прошении выявляется вера христианина в то, что он небезразличен Богу, в то, что Бог не может остаться безучастным по отношению к человеческой боли, что Бог сострадает ему во всем кошмаре его жизненной ситуации, что это их общая боль. Но и христианин с хоть мало-мальским молитвенным опытом начинает догадываться, что и он со своей стороны призывается разделить боль и страдание Бога, разделить Крест, умереть и воскреснуть с Ним. Человек, вступивший в союз со Христом, уже не обречен на перспективу выживания в одиночку, но саму свою жизнь, все, что ему дано и, наоборот, чем он обременен, разделяет с Самим Христом и другими членами Церкви. Недаром при совершении Таинства Крещения священник трижды спрашивает крещаемого, имеет ли он твердое намерение сочетаться со Христом, то есть войти с Ним в духовный союз, посвятить себя служению Его Правде. Вне этого крещального обета верности нет самого христианства, в конечном счете, нет и действительного единства человеческого рода, а лишь некая совокупность людей, обреченных на вечное одиночество.
Изменение ума
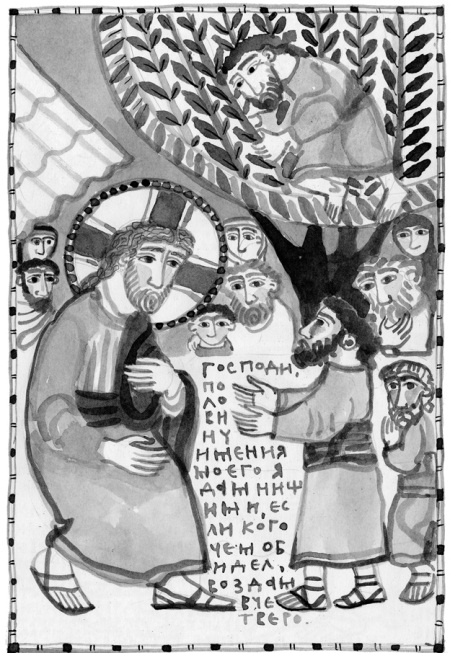 Внимательный прихожанин не может не заметить наличие большого количества покаянных мотивов в православном заупокойном богослужении. Покаяние – это отправная точка Евангелия и любого духовного восхождения, с призыва к покаянию начинают свою проповедь Иоанн Креститель и Господь наш Иисус Христос, взывая: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 3: 2; 4: 17). «Покаяние есть великое понимание» – это цитата из одного из древнейших христианских текстов, книги «Пастырь» Ерма; без этого понимания не может совершаться молитва. И то самозабвение, о котором мы говорили выше, неразрывным образом связано именно с покаянием. Делая ставку на Того, Кто не может быть обнаружен очевидным образом, мы вынуждены искать Его в глубине своего собственного сердца. Здесь мы в некотором смысле обречены на отказ от поверхностного восприятия себя самих и своих отношений с умершим близким, то есть с тем, кто также не присутствует рядом очевидным образом, но навсегда остался у нас в сердце.
Внимательный прихожанин не может не заметить наличие большого количества покаянных мотивов в православном заупокойном богослужении. Покаяние – это отправная точка Евангелия и любого духовного восхождения, с призыва к покаянию начинают свою проповедь Иоанн Креститель и Господь наш Иисус Христос, взывая: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 3: 2; 4: 17). «Покаяние есть великое понимание» – это цитата из одного из древнейших христианских текстов, книги «Пастырь» Ерма; без этого понимания не может совершаться молитва. И то самозабвение, о котором мы говорили выше, неразрывным образом связано именно с покаянием. Делая ставку на Того, Кто не может быть обнаружен очевидным образом, мы вынуждены искать Его в глубине своего собственного сердца. Здесь мы в некотором смысле обречены на отказ от поверхностного восприятия себя самих и своих отношений с умершим близким, то есть с тем, кто также не присутствует рядом очевидным образом, но навсегда остался у нас в сердце.
Поиск правды без Бога чреват катастрофой. Это предостережение можно отнести в равной степени как к жизни отдельного человека, так и к истории народов и государств. Как известно, борьба за свободу, равенство и братство, под лозунгами которой совершалась французская революция в конце XVIII века, закончилась общеевропейской войной. А плодами эпохи Просвещения, среди прочих достаточно сомнительных достижений, стал аморализм маркиза де Сада и гильотина. Поэтому поиск духовного блага для человека возможен лишь в самоотречении, в самоотречении не только от своих желаний, дабы не было соблазна принять желаемое за действительное или навязать свои желания Богу, но и в отказе от тех стереотипов и рассудочных построений, которыми мы руководствуемся в повседневности.
Акт веры заставляет нас пойти на определенный «риск», положившись на волю Божию, довериться Ему подобно Аврааму, который вел своего сына Исаака на заклание, внимая Божественному повелению. Мы должны выпустить усопшего из своего эгоцентричного мира и передать его в руки Божии. При этом даже не помышляя думать и пытаться что-либо решать за Бога, так как всякая наша правда пред Ним есть «руб поверженный», а мудрость мира – сущее безумие. Близость к Богу рождается через доверие к Нему. Даже на первых порах, когда потеря близкого переживается наиболее остро, мы должны не жалеть себя, не упиваться своим горем, а прорваться через собственные эмоции к Тому, перед Кем мы ходатайствуем за того, кого любим, кого мы потеряли на земле, но пока еще не обрели в вечности. Поэтому в данном случае, возможно, особую значимость имеют такие постоянные и неотъемлемые элементы христианской молитвы, как славословия Богу. Насколько сложно в такой жизненной ситуации честно произнести привычные слова: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу всегда, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Действительно, нелегко сказать это от всего сердца, когда мы видим перед собою лежащим обезображенным смертью того, кого, возможно, мы любим более всех живущих на свете. Бог, во власти Которого все на земле, отнял у меня самое дорогое, могу ли я дать на это свое внутреннее согласие? Для преодоления такого барьера нужны необычайная решимость веры и подлинное самоотречение. Самоотречение доступно каждому из нас, если он заглянет внутрь себя и сможет отделить любовь к усопшему от иных своих переживаний, и в этой любви уже есть начаток подлинного отречения от себя, начаток любви и абсолютного доверия к Богу.
Вернемся же теперь к нашему вопросу: так в каком же случае мы имеем, так сказать, «моральное право» просить у Бога? Ответ мы можем найти в заключительных словах заупокойной ектеньи, которая возглашается в начале чинопоследования панихиды:
Милости Божия, Царства Небеснаго, и оставления грехов испросивше тем и сами себе, друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим[6].
Отдать себя и отдать ближнего в руки Бога – вот главное условие любой просительной молитвы. Каждое наше прошение обретает свою завершенность именно в этих словах, именно при таком понимании взаимоотношения человека и Бога, где каждая из сторон молитвенного диалога всецело посвящает, передает себя другой стороне. Но зачем просить о чем-либо Бога, если Ему и так известно о том, в чем мы на данный момент нуждаемся, обо всех наших желаниях, которые, к слову сказать, часто расходятся с нашими потребностями? Ребром этот вопрос ставит само Евангелие, говоря о том, что Отец наш Небесный и так знает наперед, в чем мы имеем нужду (см.: Мф. 6: 30). Господу известны все наши мысли, все наши вопрошания, не нужно ли ограничить молитву нашу одним лишь единственным прошением: «Да будет воля Твоя…», не будет ли это для нас достаточным? Возможно, на определенной духовной высоте, на которую суждено подняться лишь единицам, это действительно так, и подлинная молитва совершается в безмолвном созерцании Божественной Славы. Для нас же, людей приземленных, возможность обратиться к Богу с просьбой открывает саму перспективу духовной жизни. В прошении выявляется вера христианина в то, что он небезразличен Богу, в то, что Бог не может остаться безучастным по отношению к человеческой боли, что Бог сострадает ему во всем кошмаре его жизненной ситуации, что это их общая боль. Но и христианин с хоть мало-мальским молитвенным опытом начинает догадываться, что и он со своей стороны призывается разделить боль и страдание Бога, разделить Крест, умереть и воскреснуть с Ним. Человек, вступивший в союз со Христом, уже не обречен на перспективу выживания в одиночку, но саму свою жизнь, все, что ему дано и, наоборот, чем он обременен, разделяет с Самим Христом и другими членами Церкви. Недаром при совершении Таинства Крещения священник трижды спрашивает крещаемого, имеет ли он твердое намерение сочетаться со Христом, то есть войти с Ним в духовный союз, посвятить себя служению Его Правде. Вне этого крещального обета верности нет самого христианства, в конечном счете, нет и действительного единства человеческого рода, а лишь некая совокупность людей, обреченных на вечное одиночество.
Изменение ума
Вечность для человека невозможна без изменения ума, без преображения его природы, без уподобления себя своему первообразу, вечность несовместима с нашим несовершенством, с нашей поврежденностью грехом.
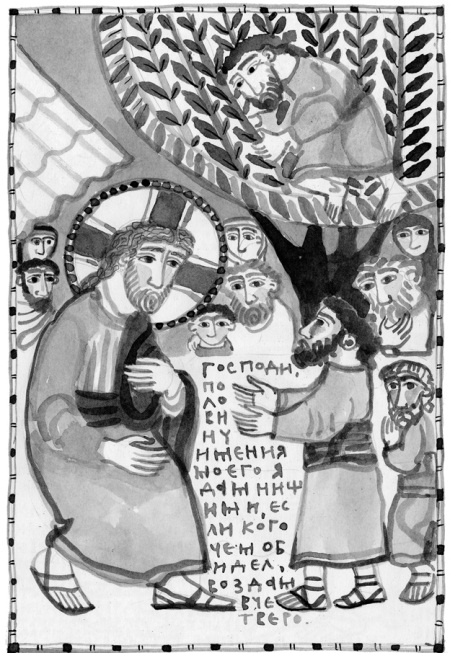
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента
