Все эти оговорки, а главное — духовный сан автора законопроекта, сразу снимали прямо гору с плеч революционной буржуазии. Это было именно то, что требовалось: церковь сама брала на себя инициативу, дело шло отныне не о конфискации, а о добровольном пожертвовании.
Правда, чувствовалась некоторая неувязка: епископ отенский уже с давних пор снискал себе моральную репутацию, значительно отличающуюся от той, которая подходила бы к такому вот древле-благочестивому святителю и подвижнику, желающему вернуть церковь к евангельской нищете. Известно было, например, что, не говоря уже о грехах юности, за епископом отенским, даже и в тот момент, о котором идет речь, числились две любовные связи одновременно и что эти связи как-то сложно, но неразрывно переплетались с его финансовыми делами, и трудно было понять, кто у кого сколько берет и получает. Говорили (Камилл Демулэн даже печатал об этом в своей газете прозой, а другие журналисты в стихах), что епископ отенский, посвящая дни своей работе в Национальном учредительном собрании, отдыхает вечером от своих законодательных трудов в игорных клубах и притонах, где ведет очень крупную и азартную картежную игру. Все это было совершенно справедливо. Враги епископа отенского не хотели понять, что карты — дело неверное, что серьезные люди (а Талейран был прежде всего человеком касательно дел своего кармана серьезным и вдумчивым) должны неминуемо заботиться о более верных заработках и что только этим и объясняются две операции, к которым принужден был прибегнуть приблизительно тогда же епископ-законодатель: во-первых, он обратил внимание испанского посла в Париже, приехавшего возобновить договор с Францией, на то, что он, Талейран, между многим прочим, заседает также в дипломатическом комитете Национального собрания, и испанский посол в ответ на это сообщение подарил Талейрану сто тысяч долларов американской монетой в знак уважения испанского правительства к его душевным качествам; а, во-вторых, Талейран тою же осенью 1789 года выпросил у своей любовницы, графини Флао, драгоценное ожерелье, которое немедленно и заложил в парижском ломбарде за девяносто две тысячи ливров. Обе эти операции стали широко известны и были приняты общественным мнением без всякого сочувствия к практическим талантам первосвятителя Отенской епархии.
Но теперь (на время) значительное большинство Учредительного собрания и задававшего всему тон буржуазного общественного мнения решительно превозносило Талейрана. Услуга, оказанная им по части церковных земель, даже преувеличивалась. Сразу он выдвинулся в первые ряды руководящих законодателей. Даже те, кто не верил его искренности, считали, что он бесповоротно сжег за собой все корабли и что уж по одной этой причине революция может отныне вполне доверять ему. Зато ярости в лагере аристократии и особенно среди духовенства не было предела. «Без таланта, с небольшим умом, с большим самодовольством, мошенничая при Калонне на бирже, оскорбляя пристойность в своем серале», — так жил и таков был прежде епископ отенский; «а теперь он холодно воспринимает уколы презрения, он советует воровать, преподает клятвопреступление и сеет раздоры, возвещая при этом мир». Так (в стихах) воспевала Талейрана контрреволюционная газета «Les Actes des Ap?tres» по поводу секвестра церковных имуществ.
Пойдя по новой дороге, Талейран не обращал на эти стрелы ни малейшего внимания. Ему важно было теперь мнение его новых хозяев, к которым он пошел на службу, презирая их точно так же, как он презирал оставленных им аристократов и епископов, и еще вдобавок холодно осмеивая тайком новых людей, так как они раздражали его своими манерами, своим тоном и языком, своею полнейшей бытовой отчужденностью от него. Но в их руках была власть, а потому и деньги. Талейран никогда не блистал ораторскими способностями, да и опасался он выступать на этой неспокойной трибуне. Он пристроился к разным интересным комитетам — вроде дипломатического и финансового, — где негласно и без особого риска можно было подзаработать. «Видите ли, — поучал он впоследствии барона Витроля, — никогда не следует быть бедняком, il ne faut pas ?tre pauvre diable. Что до меня, — то я всегда был богат». На самих Людовиков и на самих Наполеонов нельзя полагаться, но на золотые кружочки с чеканными портретами Людовиков и Наполеонов можно вполне и при всех условиях положиться. Таков был руководящий жизненный принцип князя Талейрана вплоть до гробовой доски.
Духовенство и дворянство яростно его возненавидели за инициативную роль в деле отобрания церковных имуществ. Но они были бессильны и поэтому нисколько Талейрана не интересовали. Торжествовавшая в Национальном собрании буржуазия демонстративно возблагодарила так кстати выступившего епископа отенского тем, что в феврале 1790 года избрала его президентом Национального собрания. Он быстро шел в гору.
Во время громадного торжества праздника Федерации (14 июля 1790 года, в первую годовщину взятия Бастилии) Талейран появился в своем импозантном епископском одеянии во главе духовных лиц, примкнувших к новому устройству церкви. Он изображал своей особой слияние братства евангельского и братства революционного в единое гармоническое целое. Он оказался в центре действия. Он величаво благословил королевскую семью, Национальную гвардию, членов Национального собрания, несметные толпы обнажившего пред ним свои головы народа, он отслужил молебен у алтаря, воздвигнутого посредине колоссальной площади. Этот смиренный служитель Христа, этот бескорыстный аристократ, так всецело служащий возрождению отечества, возбуждал в теснившихся вокруг него доверчивых массах в этот день даже некоторое умиление.
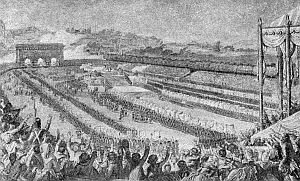
Праздник Федерации на Марсовом поле (гравюра Гельмана с рис. Моне).
Сам Талейран, впрочем, тоже всегда с удовольствием об этом дне вспоминал, но вот почему: к вечеру он освободился и, не теряя времени, поехал в игорный дом, где ему так неслыханно повезло, что он сорвал банк. Сорвав банк, он отправился на веселый обед к знакомой даме (графине Лаваль). После обеда он снова съездил в игорный притон, — но уже в другой, и тут произошел изумительный в картежной истории случай: он снова сорвал банк! «Я вернулся тогда к госпоже Лаваль, чтобы показать ей золото и банковые билеты. Я был покрыт ими. Между прочим, и шляпа моя была ими полна». Так с воодушевлением повествовал он об этом отрадном событии много лет спустя барону Витролю, когда речь зашла о дне праздника революционного братства 14 июля 1790 года.
Вскоре снова пригодилась Талейрану его епископская митра: он посвятил в епископы тех присягнувших новому устройству церкви священников, которых папа воспретил посвящать и которых другие епископы не желали посвятить.
Папа ответил на это отлучением Талейрана от церкви. Но тот и ухом на это отлучение не повел и продолжал свое дело. Он решительно и публично отверг право папы запрещать французскому духовенству присягать новому устройству церкви. Он представил (осенью 1791 года) собранию обширный доклад о народном образовании, составленный вполне в духе совершившейся революции. Полностью закончив все, что он мог сделать для своей карьеры в собрании в качестве епископа, Талейран сбросил, наконец, свое епископское одеяние окончательно и бесповоротно: ведь папское отлучение, в сущности, отвечало всегдашнему его желанию отвязаться от духовного звания и стать светским человеком.
Очень скоро услуги Талейрана понадобились революции на том поприще, на котором ему и суждено было снискать себе историческую славу, — на поприще дипломатии. Французское правительство уже с конца 1791 года должно было думать о предстоящей войне против монархической Европы. В январе 1792 года Талейран был командирован в Лондон с целью убедить Вильяма Питта остаться нейтральным в предстоящей схватке. «Сближение с Англией — не химера, — заявил тогда же Талейран: — две соседние нации, из которых одна основывает свое процветание, главным образом, на торговле, а другая — на земледелии, призваны неизменной природой вещей к согласию, ко взаимному обогащению».
Приняли его в Лондоне крайне враждебно. Французские эмигранты презирали и ненавидели «этого интригана, этого вора и расстригу», как они его величали. С эмигрантами сам Питт считался мало, но королевская семья с Георгом III во главе и вся английская аристократия очень считались. Королева на аудиенции, когда Талейран, со всеми должными церемониями и поклонами в три темпа, подошел к ней, повернулась спиною и ушла. На улицах Лондона Талейрана иногда вполголоса, а иногда и во весь голос ругали, на него и его спутников показывали пальцами. Но Талейран и тут, на международной сцене, обнаруживал впервые, каким он был первоклассным дипломатическим интриганом. Он с такой царственной величавостью умел не замечать того, чего не хотел заметить, так спокойно и небрежно, где нужно, держал себя и говорил, так артистически симулировал сознание глубокой своей моральной правоты, что не этим уколам и демонстрациям было его смутить. Миссия ему почти удалась, во всяком случае выступление Англии было отсрочено больше чем на год. Англичан поразила, между прочим, самая личность французского представителя. Они единодушно нашли, что он вовсе не похож на француза. Он был холоден, сдержан, говорил свысока, скупо и намеренно не очень ясно по существу, очень умел слушать и извлекать пользу из малейшей необдуманности противника.
В первых числах июля 1792 года Талейран, закончив свою миссию в Лондоне, уже вернулся в Париж, а через месяц после его возвращения, 10 августа, пала французская монархия, после полуторатысячелетнего своего существования.
Наступали такие грозные времена, когда всей ловкости бывшего епископа могло нехватить для того, чтобы спасти свою голову. Конечно, Талейран тотчас же взял на себя поручение составить ноту, извещающую великобританское правительство о провозглашении республики. «Король нечувствительно подкапывался под новую конституцию, в которой ему было отведено такое прекрасное место. С самой скандальной щедростью из рук короля лилось золото и расточались подкупы, чтобы погасить или ослабить пламенный патриотизм, беспокоивший его». С таким праведным революционным гневом изъяснялся в этой ноте князь Талейран, оправдывая низвержение Людовика XVI перед иностранными державами и, прежде всего, перед Англией.
И, буквально чуть не в тот же самый день, как он писал эту проникнутую суровым революционным пафосом ноту, Талейран уже предпринял первые шаги для получения возможности немедленно бежать без оглядки за границу. Он явился к Дантону просить заграничный паспорт под предлогом необходимости войти в соглашение с Англией о принятии общих мер длины и веса. Предлог был до курьеза явственно придуманный и фальшивый. Но не мог же Дантон заподозрить, что эмигрировать в Англию собирается тот самый человек, который пять дней тому назад за полной подписью писал Англии ноту о совершеннейшей необходимости низвержения монархии и о самой безусловной правоте и обоснованности того углубления революции, которое произошло 10 августа. Дантон согласился. Паспорт был окончательно оформлен к 7 сентября, а спустя несколько дней Талейран ступил на английский берег.
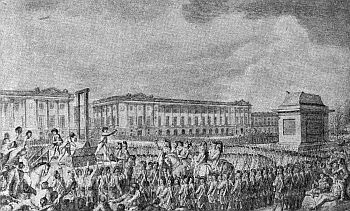 Казнь Людовика XVI 21 января 1793 г. (гравюра Гельмана с рис. Моне).
Казнь Людовика XVI 21 января 1793 г. (гравюра Гельмана с рис. Моне).
Опоздай он немного — и голова его скатилась бы с эшафота еще в том же 1792 году. Это можно утверждать совершенно категорически: дело в том, что в знаменитом «железном шкафу» короля, вскрытом по приказу революционного правительства, оказались два документа, доказывавшие, что еще весной 1791 года Талейран тайно предлагал королю свои услуги; дело было сейчас же после смерти Мирабо, и Талейран имел тогда все основания рассчитывать, что именно ему пойдет приличное вознаграждение, которое за подобные же тайные услуги получал Мирабо. Конечно, Талейран имел в виду обмануть короля. Сделка почему-то расстроилась, но следы Остались, хотя и очень слабые (он был крайне осторожен), и, как сказано, обнаружились. 5 декабря 1792 года декретом Конвента было возбуждено обвинение против Талейрана. Присланное им объяснение не помогло, и он официально был объявлен эмигрантом.
Это было — или казалось — до известной степени жизненным крушением для Талейрана. Путь во Францию был закрыт если не навсегда, то очень надолго. Денег было при себе 750 фунтов стерлингов, и никаких доходов не предвиделось. В Лондоне кишмя-кишели эмигранты-роялисты, которые печатно поспешили заявить, что бывший епископ отенский заслужил за свое поведение, чтобы в случае реставрации его не просто повесили, но колесовали. Правда, были там и другого типа эмигранты, — «люди 1789 года», как их называли, — они относились к Талейрану гораздо терпимее, так что составился небольшой кружок, принимавший его в свою среду. Кстати, приехала в Лондон и госпожа Сталь, у которой были с Талейраном тогда интимные отношения. Зажил он, в конце концов, спокойно, как всегда не показывая вида какой бы то ни было растерянности или угнетенности. Роялистов-эмигрантов он презирал от всей души, главным образом за убогость их умственных средств, в частности за полнейшее, детское непонимание ими всей грандиозности того, что случилось.
 Марат. (Гравюра Боссельмана с рис. Раффе)
Марат. (Гравюра Боссельмана с рис. Раффе)
Для Талейрана было уже тогда (и даже раньше, уже после взятия Бастилии) ясно, что, какие бы сюрпризы и перемены ни ждали Францию, одно вполне доказано: старый феодально-дворянский режим в том виде, как он существовал до 1789 года, никогда уже не вернется. Мало того: не вернется ни единая сколько-нибудь характерная его черта, и это — даже если бы каким-нибудь чудом вернулась династия Бурбонов. Но он пока даже и в возвращение Бурбонов ни в малейшей степени не верил.
Оттого-то Талейран и не считался нисколько со всеми этими негодующими демонстрациями и яростными выходками против своей особы со стороны роялистов-эмигрантов, которые истощали весь словарь французских ругательств, едва только заходила речь о ненавистном «расстриге». С его точки зрения, эти белые эмигранты были мертвецы, которых почему-то забыли похоронить, и только. Однако кое-какие и даже очень крупные неприятности косвенным путем эмигранты все-таки могли ему доставить; они не преминули воспользоваться случаем.
 Карно. (Гравюра Боссельмана с рис. Раффе).
Карно. (Гравюра Боссельмана с рис. Раффе).
В один прекрасный день (дело было в январе 1794 года) английское правительство приказало ему немедленно покинуть Англию и ехать, куда пожелает, в другое место. Но куда? В монархическую континентальную Европу ему показаться нельзя было: там его имя возбуждало еще больше злобы, чем в Англии, а эмигранты, враги его, имели там еще больше влияния, чем в Лондоне. Оставалась Америка, и Талейран выехал в Филадельфию. Сам по себе юный и совсем тогда неведомый Новый Свет нисколько его не интересовал. «Я прибыл туда, полный отвращения к новым вещам, которые обыкновенно интересуют путешественников. Мне трудно было возбудить в себе хоть немного любопытства». Тут характерно самодовольство, с которым это высказывается, но еще более характерно для этой смолоду опустошенной души, что в самом деле у него ни к чему и никогда не было «любопытства», — ни к какому предмету, событию или человеку, если они не имели отношения к его собственным материальным соображениям и интересам. Оттого он так скуп и тускл в тех случаях, когда ему приходится говорить обо всем, что не имело к нему лично прямого отношения.
В Америке он деятельно занялся разными земельными спекуляциями, и, повидимому, небезуспешно. Но его стала томить в Америке такая скука, что он ждал только случая завести сношения с революционным правительством и просить разрешения вернуться. Конечно, думать об этом ему можно было лишь после 9 термидора, а в особенности после 1 прериаля, после неудавшегося восстания и последовавшего разоружения рабочих предместий в начале лета 1795 года. Он начал деятельно хлопотать, и уже 4 сентября 1795 года ему было дано разрешение вернуться во Францию. Сильно ему помогла именно та ярая ненависть, которой он был окружен в эмиграции. Докладывая о нем в Конвенте, в заседании 4 сентября 1795 года, Шенье сказал: «Я прошу о нем во имя республики, которой он может еще пригодиться своими талантами и своими трудами; я прошу о нем во имя вашей ненависти к эмигрантам, жертвой которых он был бы подобно вам самим, если бы эти подлецы могли восторжествовать».
Тотчас по получении (в ноябре того же 1795 года) известия об этом событии Талейран стал ликвидировать свои американские дела и собираться в Европу. Только 20 сентября 1796 года он прибыл в Париж.
V
Правда, чувствовалась некоторая неувязка: епископ отенский уже с давних пор снискал себе моральную репутацию, значительно отличающуюся от той, которая подходила бы к такому вот древле-благочестивому святителю и подвижнику, желающему вернуть церковь к евангельской нищете. Известно было, например, что, не говоря уже о грехах юности, за епископом отенским, даже и в тот момент, о котором идет речь, числились две любовные связи одновременно и что эти связи как-то сложно, но неразрывно переплетались с его финансовыми делами, и трудно было понять, кто у кого сколько берет и получает. Говорили (Камилл Демулэн даже печатал об этом в своей газете прозой, а другие журналисты в стихах), что епископ отенский, посвящая дни своей работе в Национальном учредительном собрании, отдыхает вечером от своих законодательных трудов в игорных клубах и притонах, где ведет очень крупную и азартную картежную игру. Все это было совершенно справедливо. Враги епископа отенского не хотели понять, что карты — дело неверное, что серьезные люди (а Талейран был прежде всего человеком касательно дел своего кармана серьезным и вдумчивым) должны неминуемо заботиться о более верных заработках и что только этим и объясняются две операции, к которым принужден был прибегнуть приблизительно тогда же епископ-законодатель: во-первых, он обратил внимание испанского посла в Париже, приехавшего возобновить договор с Францией, на то, что он, Талейран, между многим прочим, заседает также в дипломатическом комитете Национального собрания, и испанский посол в ответ на это сообщение подарил Талейрану сто тысяч долларов американской монетой в знак уважения испанского правительства к его душевным качествам; а, во-вторых, Талейран тою же осенью 1789 года выпросил у своей любовницы, графини Флао, драгоценное ожерелье, которое немедленно и заложил в парижском ломбарде за девяносто две тысячи ливров. Обе эти операции стали широко известны и были приняты общественным мнением без всякого сочувствия к практическим талантам первосвятителя Отенской епархии.
Но теперь (на время) значительное большинство Учредительного собрания и задававшего всему тон буржуазного общественного мнения решительно превозносило Талейрана. Услуга, оказанная им по части церковных земель, даже преувеличивалась. Сразу он выдвинулся в первые ряды руководящих законодателей. Даже те, кто не верил его искренности, считали, что он бесповоротно сжег за собой все корабли и что уж по одной этой причине революция может отныне вполне доверять ему. Зато ярости в лагере аристократии и особенно среди духовенства не было предела. «Без таланта, с небольшим умом, с большим самодовольством, мошенничая при Калонне на бирже, оскорбляя пристойность в своем серале», — так жил и таков был прежде епископ отенский; «а теперь он холодно воспринимает уколы презрения, он советует воровать, преподает клятвопреступление и сеет раздоры, возвещая при этом мир». Так (в стихах) воспевала Талейрана контрреволюционная газета «Les Actes des Ap?tres» по поводу секвестра церковных имуществ.
Пойдя по новой дороге, Талейран не обращал на эти стрелы ни малейшего внимания. Ему важно было теперь мнение его новых хозяев, к которым он пошел на службу, презирая их точно так же, как он презирал оставленных им аристократов и епископов, и еще вдобавок холодно осмеивая тайком новых людей, так как они раздражали его своими манерами, своим тоном и языком, своею полнейшей бытовой отчужденностью от него. Но в их руках была власть, а потому и деньги. Талейран никогда не блистал ораторскими способностями, да и опасался он выступать на этой неспокойной трибуне. Он пристроился к разным интересным комитетам — вроде дипломатического и финансового, — где негласно и без особого риска можно было подзаработать. «Видите ли, — поучал он впоследствии барона Витроля, — никогда не следует быть бедняком, il ne faut pas ?tre pauvre diable. Что до меня, — то я всегда был богат». На самих Людовиков и на самих Наполеонов нельзя полагаться, но на золотые кружочки с чеканными портретами Людовиков и Наполеонов можно вполне и при всех условиях положиться. Таков был руководящий жизненный принцип князя Талейрана вплоть до гробовой доски.
Духовенство и дворянство яростно его возненавидели за инициативную роль в деле отобрания церковных имуществ. Но они были бессильны и поэтому нисколько Талейрана не интересовали. Торжествовавшая в Национальном собрании буржуазия демонстративно возблагодарила так кстати выступившего епископа отенского тем, что в феврале 1790 года избрала его президентом Национального собрания. Он быстро шел в гору.
Во время громадного торжества праздника Федерации (14 июля 1790 года, в первую годовщину взятия Бастилии) Талейран появился в своем импозантном епископском одеянии во главе духовных лиц, примкнувших к новому устройству церкви. Он изображал своей особой слияние братства евангельского и братства революционного в единое гармоническое целое. Он оказался в центре действия. Он величаво благословил королевскую семью, Национальную гвардию, членов Национального собрания, несметные толпы обнажившего пред ним свои головы народа, он отслужил молебен у алтаря, воздвигнутого посредине колоссальной площади. Этот смиренный служитель Христа, этот бескорыстный аристократ, так всецело служащий возрождению отечества, возбуждал в теснившихся вокруг него доверчивых массах в этот день даже некоторое умиление.
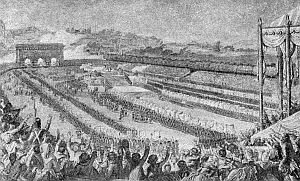
Праздник Федерации на Марсовом поле (гравюра Гельмана с рис. Моне).
Сам Талейран, впрочем, тоже всегда с удовольствием об этом дне вспоминал, но вот почему: к вечеру он освободился и, не теряя времени, поехал в игорный дом, где ему так неслыханно повезло, что он сорвал банк. Сорвав банк, он отправился на веселый обед к знакомой даме (графине Лаваль). После обеда он снова съездил в игорный притон, — но уже в другой, и тут произошел изумительный в картежной истории случай: он снова сорвал банк! «Я вернулся тогда к госпоже Лаваль, чтобы показать ей золото и банковые билеты. Я был покрыт ими. Между прочим, и шляпа моя была ими полна». Так с воодушевлением повествовал он об этом отрадном событии много лет спустя барону Витролю, когда речь зашла о дне праздника революционного братства 14 июля 1790 года.
Вскоре снова пригодилась Талейрану его епископская митра: он посвятил в епископы тех присягнувших новому устройству церкви священников, которых папа воспретил посвящать и которых другие епископы не желали посвятить.
Папа ответил на это отлучением Талейрана от церкви. Но тот и ухом на это отлучение не повел и продолжал свое дело. Он решительно и публично отверг право папы запрещать французскому духовенству присягать новому устройству церкви. Он представил (осенью 1791 года) собранию обширный доклад о народном образовании, составленный вполне в духе совершившейся революции. Полностью закончив все, что он мог сделать для своей карьеры в собрании в качестве епископа, Талейран сбросил, наконец, свое епископское одеяние окончательно и бесповоротно: ведь папское отлучение, в сущности, отвечало всегдашнему его желанию отвязаться от духовного звания и стать светским человеком.
Очень скоро услуги Талейрана понадобились революции на том поприще, на котором ему и суждено было снискать себе историческую славу, — на поприще дипломатии. Французское правительство уже с конца 1791 года должно было думать о предстоящей войне против монархической Европы. В январе 1792 года Талейран был командирован в Лондон с целью убедить Вильяма Питта остаться нейтральным в предстоящей схватке. «Сближение с Англией — не химера, — заявил тогда же Талейран: — две соседние нации, из которых одна основывает свое процветание, главным образом, на торговле, а другая — на земледелии, призваны неизменной природой вещей к согласию, ко взаимному обогащению».
Приняли его в Лондоне крайне враждебно. Французские эмигранты презирали и ненавидели «этого интригана, этого вора и расстригу», как они его величали. С эмигрантами сам Питт считался мало, но королевская семья с Георгом III во главе и вся английская аристократия очень считались. Королева на аудиенции, когда Талейран, со всеми должными церемониями и поклонами в три темпа, подошел к ней, повернулась спиною и ушла. На улицах Лондона Талейрана иногда вполголоса, а иногда и во весь голос ругали, на него и его спутников показывали пальцами. Но Талейран и тут, на международной сцене, обнаруживал впервые, каким он был первоклассным дипломатическим интриганом. Он с такой царственной величавостью умел не замечать того, чего не хотел заметить, так спокойно и небрежно, где нужно, держал себя и говорил, так артистически симулировал сознание глубокой своей моральной правоты, что не этим уколам и демонстрациям было его смутить. Миссия ему почти удалась, во всяком случае выступление Англии было отсрочено больше чем на год. Англичан поразила, между прочим, самая личность французского представителя. Они единодушно нашли, что он вовсе не похож на француза. Он был холоден, сдержан, говорил свысока, скупо и намеренно не очень ясно по существу, очень умел слушать и извлекать пользу из малейшей необдуманности противника.
В первых числах июля 1792 года Талейран, закончив свою миссию в Лондоне, уже вернулся в Париж, а через месяц после его возвращения, 10 августа, пала французская монархия, после полуторатысячелетнего своего существования.
Наступали такие грозные времена, когда всей ловкости бывшего епископа могло нехватить для того, чтобы спасти свою голову. Конечно, Талейран тотчас же взял на себя поручение составить ноту, извещающую великобританское правительство о провозглашении республики. «Король нечувствительно подкапывался под новую конституцию, в которой ему было отведено такое прекрасное место. С самой скандальной щедростью из рук короля лилось золото и расточались подкупы, чтобы погасить или ослабить пламенный патриотизм, беспокоивший его». С таким праведным революционным гневом изъяснялся в этой ноте князь Талейран, оправдывая низвержение Людовика XVI перед иностранными державами и, прежде всего, перед Англией.
И, буквально чуть не в тот же самый день, как он писал эту проникнутую суровым революционным пафосом ноту, Талейран уже предпринял первые шаги для получения возможности немедленно бежать без оглядки за границу. Он явился к Дантону просить заграничный паспорт под предлогом необходимости войти в соглашение с Англией о принятии общих мер длины и веса. Предлог был до курьеза явственно придуманный и фальшивый. Но не мог же Дантон заподозрить, что эмигрировать в Англию собирается тот самый человек, который пять дней тому назад за полной подписью писал Англии ноту о совершеннейшей необходимости низвержения монархии и о самой безусловной правоте и обоснованности того углубления революции, которое произошло 10 августа. Дантон согласился. Паспорт был окончательно оформлен к 7 сентября, а спустя несколько дней Талейран ступил на английский берег.
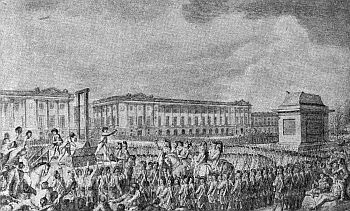
Опоздай он немного — и голова его скатилась бы с эшафота еще в том же 1792 году. Это можно утверждать совершенно категорически: дело в том, что в знаменитом «железном шкафу» короля, вскрытом по приказу революционного правительства, оказались два документа, доказывавшие, что еще весной 1791 года Талейран тайно предлагал королю свои услуги; дело было сейчас же после смерти Мирабо, и Талейран имел тогда все основания рассчитывать, что именно ему пойдет приличное вознаграждение, которое за подобные же тайные услуги получал Мирабо. Конечно, Талейран имел в виду обмануть короля. Сделка почему-то расстроилась, но следы Остались, хотя и очень слабые (он был крайне осторожен), и, как сказано, обнаружились. 5 декабря 1792 года декретом Конвента было возбуждено обвинение против Талейрана. Присланное им объяснение не помогло, и он официально был объявлен эмигрантом.
Это было — или казалось — до известной степени жизненным крушением для Талейрана. Путь во Францию был закрыт если не навсегда, то очень надолго. Денег было при себе 750 фунтов стерлингов, и никаких доходов не предвиделось. В Лондоне кишмя-кишели эмигранты-роялисты, которые печатно поспешили заявить, что бывший епископ отенский заслужил за свое поведение, чтобы в случае реставрации его не просто повесили, но колесовали. Правда, были там и другого типа эмигранты, — «люди 1789 года», как их называли, — они относились к Талейрану гораздо терпимее, так что составился небольшой кружок, принимавший его в свою среду. Кстати, приехала в Лондон и госпожа Сталь, у которой были с Талейраном тогда интимные отношения. Зажил он, в конце концов, спокойно, как всегда не показывая вида какой бы то ни было растерянности или угнетенности. Роялистов-эмигрантов он презирал от всей души, главным образом за убогость их умственных средств, в частности за полнейшее, детское непонимание ими всей грандиозности того, что случилось.

Для Талейрана было уже тогда (и даже раньше, уже после взятия Бастилии) ясно, что, какие бы сюрпризы и перемены ни ждали Францию, одно вполне доказано: старый феодально-дворянский режим в том виде, как он существовал до 1789 года, никогда уже не вернется. Мало того: не вернется ни единая сколько-нибудь характерная его черта, и это — даже если бы каким-нибудь чудом вернулась династия Бурбонов. Но он пока даже и в возвращение Бурбонов ни в малейшей степени не верил.
Оттого-то Талейран и не считался нисколько со всеми этими негодующими демонстрациями и яростными выходками против своей особы со стороны роялистов-эмигрантов, которые истощали весь словарь французских ругательств, едва только заходила речь о ненавистном «расстриге». С его точки зрения, эти белые эмигранты были мертвецы, которых почему-то забыли похоронить, и только. Однако кое-какие и даже очень крупные неприятности косвенным путем эмигранты все-таки могли ему доставить; они не преминули воспользоваться случаем.

В один прекрасный день (дело было в январе 1794 года) английское правительство приказало ему немедленно покинуть Англию и ехать, куда пожелает, в другое место. Но куда? В монархическую континентальную Европу ему показаться нельзя было: там его имя возбуждало еще больше злобы, чем в Англии, а эмигранты, враги его, имели там еще больше влияния, чем в Лондоне. Оставалась Америка, и Талейран выехал в Филадельфию. Сам по себе юный и совсем тогда неведомый Новый Свет нисколько его не интересовал. «Я прибыл туда, полный отвращения к новым вещам, которые обыкновенно интересуют путешественников. Мне трудно было возбудить в себе хоть немного любопытства». Тут характерно самодовольство, с которым это высказывается, но еще более характерно для этой смолоду опустошенной души, что в самом деле у него ни к чему и никогда не было «любопытства», — ни к какому предмету, событию или человеку, если они не имели отношения к его собственным материальным соображениям и интересам. Оттого он так скуп и тускл в тех случаях, когда ему приходится говорить обо всем, что не имело к нему лично прямого отношения.
В Америке он деятельно занялся разными земельными спекуляциями, и, повидимому, небезуспешно. Но его стала томить в Америке такая скука, что он ждал только случая завести сношения с революционным правительством и просить разрешения вернуться. Конечно, думать об этом ему можно было лишь после 9 термидора, а в особенности после 1 прериаля, после неудавшегося восстания и последовавшего разоружения рабочих предместий в начале лета 1795 года. Он начал деятельно хлопотать, и уже 4 сентября 1795 года ему было дано разрешение вернуться во Францию. Сильно ему помогла именно та ярая ненависть, которой он был окружен в эмиграции. Докладывая о нем в Конвенте, в заседании 4 сентября 1795 года, Шенье сказал: «Я прошу о нем во имя республики, которой он может еще пригодиться своими талантами и своими трудами; я прошу о нем во имя вашей ненависти к эмигрантам, жертвой которых он был бы подобно вам самим, если бы эти подлецы могли восторжествовать».
Тотчас по получении (в ноябре того же 1795 года) известия об этом событии Талейран стал ликвидировать свои американские дела и собираться в Европу. Только 20 сентября 1796 года он прибыл в Париж.
V
Началась новая эпоха его жизни, а одновременно начинался и новый период мировой истории. «Революция кончилась во Франции и пошла на Европу», говорили одни. «Революция вышла из своих берегов», говорили другие. За Альпами уже гремела слава Бонапарта, молодого завоевателя, которого феодальная Европа назвала впоследствии «Робеспьером на коне». Предстояли великие перемены и во Франции и в Европе. Буржуазная революция, победившая во Франции, готовилась померяться силами с абсолютистской Европой, с полуфеодальным строем, решившим дорого продать свою жизнь. На авансцену истории выступали армии; ораторы готовились уступить место генералам. Буржуазная революция, отбросив врагов от границ Франции, преследовала их на их собственной территории. Талейран не сомневался ни минуты (и никогда) относительно того, на чьей стороне в этой борьбе буржуазии против пережитков феодализма будет победа. Оттого-то он и приехал во Францию из Америки. Его час пришел.
В этом самом 1796 году в одну бессонную ночь завоеватель Италии, генерал Бонапарт, по собственному своему позднейшему признанию, впервые спросил себя: Неужели же ему всегда придется воевать «для этих адвокатов»? А в то же время в далеком Париже только что вернувшийся князь Талейран, у которого за время террора было конфисковано и продано все имущество и который теперь проживал остатки того, что успел заработать на своих мелких земельных спекуляциях в Америке, — князь Талейран, внимательно присматриваясь к новым владыкам, к пяти директорам республики, тоже решал вопрос: искать ли себе нового господина или довольствоваться «этими адвокатами», как они ни плохи? Он решил, что прежде всего нужно вкрасться в милость и в ближайшее окружение, нынешних владык, а потом уже думать о будущем властелине. Что страна безусловно идет к военной диктатуре, — это Талейран ясно предвидел.
Во всяком случае, нужно было прежде всего предложить свои услуги Директории. Тут дело пошло весьма негладко. Обнаружилось досадное обстоятельство: слишком уж оказалась громкой в известном смысле репутация бывшего епископа отенского. «С медным лбом он соединяет ледяное сердце», писал о нем Лебрэн в стихах. А в прозе о нем выражались настолько непринужденно, что наиболее красочные эпитеты приходилось обозначать в печати лишь первой буквой и несколькими точками: печатная бумага не выдерживала наплыва чувств его критиков. Хуже всего (в карьерном отношении) было то, что в самой пятичленной Директории трое считали его взяточником, четвертый считал его вором и взяточником, а пятый (Ребель) — изменником, вором и взяточником. «Талейран состоит на тайной службе у иностранных держав! — восклицал Ребель на заседаниях Директории. — Никогда не было на свете более извращенного, более опасного существа». Остальные четверо внимали этим речам без малейшего протеста. Да и как бы мог протестовать хотя бы тот же честный и убежденный Карно, когда сам он — не очень точно, впрочем, — говорил о нашем герое: «Талейран потому именно так презирает людей, что он много изучал самого себя… Он меняет принципы, как белье».
 Баррас (гравюра Компани с рис. Бонвиля).
Баррас (гравюра Компани с рис. Бонвиля).
Все упования Талейрана были возложены на Барраса. Баррас тоже знал, что Талейран способен решительно на все, но он знал также, что правительству во что бы то ни стало нужен хороший дипломат, тонкий ум, нужен человек, обладающий способностью к долгим извилистым переговорам, к словесным поединкам самого трудного свойства. Баррас понимал, что эта сложнейшая дипломатическая функция и есть та служба, та техника, та специальность, которая сейчас, в 1797 году, имеет и в близком будущем будет иметь колоссальное значение и которую не могут взять на себя ни «адвокаты», ни генералы. Не буду передавать во всех деталях (они все известны и даже приведены в систему вследствие стародавней любви французской историографии к мелочам и к альковным сплетням), не буду даже касаться того, как госпожа Сталь, бывшая его любовница, помогла в этом деле Талейрану, как он для этого позорно льстил и унижался не только пред нею, но и пред ее (в тот момент) любовником Бенжаменом Констаном, как он умолял госпожу Сталь, чтобы она разжалобила Барраса и уверила бы долго колебавшегося директора, что ему, Талейрану, жить нечем, что если его не назначат министром иностранных дел, то он принужден будет немедленно утопиться в реке Сене, ибо у него в кармане осталось всего десять луидоров, и так далее. «Il m'a dit, qu'il allait se jeter ? la Seine, si vous ne le faites pas d?cid?ment ministre des affaires ?trang?res». Баррас не скрыл от своей гостьи (она семь раз почти подряд побывала у него в эти горячие дни), что вся Директория относится к покровительствуемому госпожею Сталь другу, как к отъявленному плуту, и что вообще она, Сталь, ему, Барра су, очень уж надоела с этими назойливыми приставаниями. Госпожа Сталь, выслушав, явилась спустя два дня в восьмой раз. В конце концов Баррас, при всесильном своем влиянии, убежденный, как сказано, что Талейран может пригодиться и что у них подходящей замены нет, ускорил решение и в самом деле поставил в Директории вопрос о назначении Талейрана. После прений три голоса оказались за назначение, два — против.
 9 термидора (гравюра Гельмана с рис. Моне).
9 термидора (гравюра Гельмана с рис. Моне).
Когда Бенжамен Констан вбежал к Талейрану с этим известием, тот чуть ли не в первый и в последний раз в своей долгой жизни прямо потерялся от радости. Он бросился на шею Констану, а в карете, в которой он сейчас же поехал с Констаном и с одним своим собутыльником благодарить Барраса. Он, как будто забыв о существовании слушателей, повторял всю дорогу, как помешанный, одну и ту же фразу: «Место за нами! Нужно составить на нем громадное состояние, громадное состояние, громадное состояние!» («Nous tenons la place! Il faut y faire une fortune immense, une fortune immense, une fortune immense!»)
Такова была та основная пружина, тот самый глубокий, основной нерв деятельности, тот в тайниках сердца выношенный руководящий мотив, который Талейран высказал, как только узнал, что назначен министром Французской республики, высказал в пароксизме стихийной, пьянящей радости, единственный раз в своей жизни забыв собственное свое правило, что «язык дан человеку затем, чтобы скрывать свои мысли». Он попал на такое место, сидя на котором можно легко стать из нищего миллионером. Вот истинный пафос его деятельности. В этой карете, в эти четверть часа, он был вполне правдив и искренен. Конечно, он скоро очнулся. Уже на другой день, 18 июля 1797 года, получив официальную бумагу о своем назначении князь Талейран совершенно опомнился и взял себя в руки. Пред служащими министерства иностранных дел, пред просителями, пред дипломатическим корпусом стоял, величаво опираясь на свой красивый костыль, спокойный и чуть-чуть надменный вельможа, бесстрастный государственный деятель, законный представитель победоносной великой державы, бьющей Европу, полномочный представитель Великой французской революции, борющейся со всеми этими Георгами. Павлами. Францами, а главное — человек, спокойно и глубоко убежденный в своей непорочной чистоте и в том, что если какие-нибудь завистники и клевещут на него, то это никак не может омрачить его нравственную красоту. Всякий внешний успех всегда усиливал в нем это величавое и просветленное спокойствие, — и после всякого своего торжества он как бы говорил своим хулителям и вообще всему окружающему его обществу: «Вы сами теперь видите, как я хорош!»
Итак, он министр, он настоящая власть и сила. Некоторое время уцелевшие аристократы или начавшие возвращаться во Францию эмигранты побаивались мести этого человека, которого они так яростно бранили и преследовали своей ненавистью и даже, как мы видели, выгнали его из Англии в свое время. Думали, что ему, члену правительства, теперь ничего не будет поить жестоко расправиться со своими недругами и ненавистниками. Но никаких преследований он не предпринял, хотя имел полную к тому возможность. Это тоже характерная его черта: он вовсе не был мстителен. При полнейшем, законченном своем аморализме он был бы способен деятельно поработать чтобы хоть живьем закопать совсем пред ним ни в чем неповинного человека, если это, сколько-нибудь требовалось в карьерных целях, — но он пальцем о палец не ударил бы, чтобы покарать самого лютого врага, если, конечно, этот враг впредь уже не мог ему вредить. Месть сама по себе ни малейшего удовольствия или даже простого развлечения ему не доставляла, потому что он в самом деле не умел сильно ненавидеть, а умел только презирать. То, что у позднейших романтиков так часто звучит фальшивой фразой в устах их ходульных героев, то в Талейране было самой реальной правдой, хоть он никогда никаких тирад о ненависти и презрении не говорил. Он забывал о своих врагах, как только они не стояли у него на дороге; а если становились поперек пути, он их либо отшвыривал, либо растаптывал пятой, после чего снова забывал о них. Да и были у нового министра гораздо более его интересовавшие заботы и устремления. Буквально с первых же дней его министерства в дипломатическом корпусе стали с любопытством наблюдать за тем, что творит новый хозяин французской иностранной политики.
В этом самом 1796 году в одну бессонную ночь завоеватель Италии, генерал Бонапарт, по собственному своему позднейшему признанию, впервые спросил себя: Неужели же ему всегда придется воевать «для этих адвокатов»? А в то же время в далеком Париже только что вернувшийся князь Талейран, у которого за время террора было конфисковано и продано все имущество и который теперь проживал остатки того, что успел заработать на своих мелких земельных спекуляциях в Америке, — князь Талейран, внимательно присматриваясь к новым владыкам, к пяти директорам республики, тоже решал вопрос: искать ли себе нового господина или довольствоваться «этими адвокатами», как они ни плохи? Он решил, что прежде всего нужно вкрасться в милость и в ближайшее окружение, нынешних владык, а потом уже думать о будущем властелине. Что страна безусловно идет к военной диктатуре, — это Талейран ясно предвидел.
Во всяком случае, нужно было прежде всего предложить свои услуги Директории. Тут дело пошло весьма негладко. Обнаружилось досадное обстоятельство: слишком уж оказалась громкой в известном смысле репутация бывшего епископа отенского. «С медным лбом он соединяет ледяное сердце», писал о нем Лебрэн в стихах. А в прозе о нем выражались настолько непринужденно, что наиболее красочные эпитеты приходилось обозначать в печати лишь первой буквой и несколькими точками: печатная бумага не выдерживала наплыва чувств его критиков. Хуже всего (в карьерном отношении) было то, что в самой пятичленной Директории трое считали его взяточником, четвертый считал его вором и взяточником, а пятый (Ребель) — изменником, вором и взяточником. «Талейран состоит на тайной службе у иностранных держав! — восклицал Ребель на заседаниях Директории. — Никогда не было на свете более извращенного, более опасного существа». Остальные четверо внимали этим речам без малейшего протеста. Да и как бы мог протестовать хотя бы тот же честный и убежденный Карно, когда сам он — не очень точно, впрочем, — говорил о нашем герое: «Талейран потому именно так презирает людей, что он много изучал самого себя… Он меняет принципы, как белье».

Все упования Талейрана были возложены на Барраса. Баррас тоже знал, что Талейран способен решительно на все, но он знал также, что правительству во что бы то ни стало нужен хороший дипломат, тонкий ум, нужен человек, обладающий способностью к долгим извилистым переговорам, к словесным поединкам самого трудного свойства. Баррас понимал, что эта сложнейшая дипломатическая функция и есть та служба, та техника, та специальность, которая сейчас, в 1797 году, имеет и в близком будущем будет иметь колоссальное значение и которую не могут взять на себя ни «адвокаты», ни генералы. Не буду передавать во всех деталях (они все известны и даже приведены в систему вследствие стародавней любви французской историографии к мелочам и к альковным сплетням), не буду даже касаться того, как госпожа Сталь, бывшая его любовница, помогла в этом деле Талейрану, как он для этого позорно льстил и унижался не только пред нею, но и пред ее (в тот момент) любовником Бенжаменом Констаном, как он умолял госпожу Сталь, чтобы она разжалобила Барраса и уверила бы долго колебавшегося директора, что ему, Талейрану, жить нечем, что если его не назначат министром иностранных дел, то он принужден будет немедленно утопиться в реке Сене, ибо у него в кармане осталось всего десять луидоров, и так далее. «Il m'a dit, qu'il allait se jeter ? la Seine, si vous ne le faites pas d?cid?ment ministre des affaires ?trang?res». Баррас не скрыл от своей гостьи (она семь раз почти подряд побывала у него в эти горячие дни), что вся Директория относится к покровительствуемому госпожею Сталь другу, как к отъявленному плуту, и что вообще она, Сталь, ему, Барра су, очень уж надоела с этими назойливыми приставаниями. Госпожа Сталь, выслушав, явилась спустя два дня в восьмой раз. В конце концов Баррас, при всесильном своем влиянии, убежденный, как сказано, что Талейран может пригодиться и что у них подходящей замены нет, ускорил решение и в самом деле поставил в Директории вопрос о назначении Талейрана. После прений три голоса оказались за назначение, два — против.

Когда Бенжамен Констан вбежал к Талейрану с этим известием, тот чуть ли не в первый и в последний раз в своей долгой жизни прямо потерялся от радости. Он бросился на шею Констану, а в карете, в которой он сейчас же поехал с Констаном и с одним своим собутыльником благодарить Барраса. Он, как будто забыв о существовании слушателей, повторял всю дорогу, как помешанный, одну и ту же фразу: «Место за нами! Нужно составить на нем громадное состояние, громадное состояние, громадное состояние!» («Nous tenons la place! Il faut y faire une fortune immense, une fortune immense, une fortune immense!»)
Такова была та основная пружина, тот самый глубокий, основной нерв деятельности, тот в тайниках сердца выношенный руководящий мотив, который Талейран высказал, как только узнал, что назначен министром Французской республики, высказал в пароксизме стихийной, пьянящей радости, единственный раз в своей жизни забыв собственное свое правило, что «язык дан человеку затем, чтобы скрывать свои мысли». Он попал на такое место, сидя на котором можно легко стать из нищего миллионером. Вот истинный пафос его деятельности. В этой карете, в эти четверть часа, он был вполне правдив и искренен. Конечно, он скоро очнулся. Уже на другой день, 18 июля 1797 года, получив официальную бумагу о своем назначении князь Талейран совершенно опомнился и взял себя в руки. Пред служащими министерства иностранных дел, пред просителями, пред дипломатическим корпусом стоял, величаво опираясь на свой красивый костыль, спокойный и чуть-чуть надменный вельможа, бесстрастный государственный деятель, законный представитель победоносной великой державы, бьющей Европу, полномочный представитель Великой французской революции, борющейся со всеми этими Георгами. Павлами. Францами, а главное — человек, спокойно и глубоко убежденный в своей непорочной чистоте и в том, что если какие-нибудь завистники и клевещут на него, то это никак не может омрачить его нравственную красоту. Всякий внешний успех всегда усиливал в нем это величавое и просветленное спокойствие, — и после всякого своего торжества он как бы говорил своим хулителям и вообще всему окружающему его обществу: «Вы сами теперь видите, как я хорош!»
Итак, он министр, он настоящая власть и сила. Некоторое время уцелевшие аристократы или начавшие возвращаться во Францию эмигранты побаивались мести этого человека, которого они так яростно бранили и преследовали своей ненавистью и даже, как мы видели, выгнали его из Англии в свое время. Думали, что ему, члену правительства, теперь ничего не будет поить жестоко расправиться со своими недругами и ненавистниками. Но никаких преследований он не предпринял, хотя имел полную к тому возможность. Это тоже характерная его черта: он вовсе не был мстителен. При полнейшем, законченном своем аморализме он был бы способен деятельно поработать чтобы хоть живьем закопать совсем пред ним ни в чем неповинного человека, если это, сколько-нибудь требовалось в карьерных целях, — но он пальцем о палец не ударил бы, чтобы покарать самого лютого врага, если, конечно, этот враг впредь уже не мог ему вредить. Месть сама по себе ни малейшего удовольствия или даже простого развлечения ему не доставляла, потому что он в самом деле не умел сильно ненавидеть, а умел только презирать. То, что у позднейших романтиков так часто звучит фальшивой фразой в устах их ходульных героев, то в Талейране было самой реальной правдой, хоть он никогда никаких тирад о ненависти и презрении не говорил. Он забывал о своих врагах, как только они не стояли у него на дороге; а если становились поперек пути, он их либо отшвыривал, либо растаптывал пятой, после чего снова забывал о них. Да и были у нового министра гораздо более его интересовавшие заботы и устремления. Буквально с первых же дней его министерства в дипломатическом корпусе стали с любопытством наблюдать за тем, что творит новый хозяин французской иностранной политики.
