Страница:
Шельга утомился, рассказывая. Долго молчали. Хлынов спросил:
— Где может быть сейчас Роллинг?
— Как где? Конечно, в Париже. Ворочает прессой. У него сейчас большое наступление на химическом фронте. Деньги лопатой загребает. В том-то всё и дело, что я с минуты на минуту жду пулю в окно или яд в соуснике. Он меня всё-таки пришьёт, конечно…
— Чего же вы молчите?.. Немедленно нужно дать знать шефу полиции.
— Товарищ дорогой, вы с ума сошли! Я и жив-то до сих пор только потому, что молчу.
— Видел и теперь знаю: пушки, газы, аэропланы — всё это детская забава. Вы не забывайте, тут не один Гарин… Гарин и Роллинг. Смертоносная машина и миллиарды. Всего можно ждать.
Хлынов поднял штору и долго стоял у окна, глядя на изумрудную зелень, на старого садовника, с трудом перетаскивающего металлические суставчатые трубы в теневую сторону сада, на чёрных дроздов, — они деловито и озабоченно бегали под кустами вербены, вытаскивали из чернозёма дождевых червяков. Небо, синее и прелестное, вечным покоем расстилалось над садом.
— А то предоставить их самим себе, пусть развернутся во всём великолепии — Роллинг и Гарин, и конец будет ближе, — проговорил Хлынов. — Этот мир погибнет неминуемо… Здесь одни дрозды живут разумно. — Хлынов отвернулся от окна. — Человек каменного века был значительнее, несомненно… Бесплатно, только из внутренней потребности, разрисовывал пещеры, думал, сидя у огня, о мамонтах, о грозах, о странном вращении жизни и смерти и о самом себе. Чёрт знает, как это было почтенно!.. Мозг ещё маленький, череп толстый, но духовная энергия молниями лучилась из его головы… А эти, нынешние, на кой чёрт им летательные машины? Посадить бы какого-нибудь франта с бульвара в пещеру напротив палеолитического человека. Тот бы, волосатый дядя, его спросил: «Рассказывай, сын больной суки, до чего ты додумался за эти сто тысяч лет?..» — «Ах, ах, — завертелся бы франт, — я, знаете ли, не столько думаю, сколько наслаждаюсь плодами цивилизации, господин пращур… Если бы не опасность революций со стороны черни, то наш мир был бы поистине прекрасен. Женщины, рестораны, немножко волнения за картами в казино, немножко спорта… Но, вот беда, — эти постоянные кризисы и революции, — это становится утомительным…» — «Ух, ты, — сказал бы на это пращур, впиваясь в франта горящими глазами, — а мне вот нравится ду-у-у-умать, я вот сижу и уважаю мой гениальный мозг… Мне бы хотелось проткнуть им вселенную…»
Хлынов замолчал. Усмехаясь, всматривался в сумрак палеолитической пещеры. Тряхнул головой:
— Чего добиваются Гарин и Роллинг? Щекотки. Пусть они её называют властью над миром. Всё же это не больше, чем щекотка. В прошлую войну погибло тридцать миллионов. Они постараются убить триста. Духовная энергия в глубочайшем обмороке. Профессор Рейхер обедает только по воскресеньям. В остальные дни он кушает два бутерброда с повидлой и с маргарином — на завтрак и отварной картофель с солью — к обеду. Такова плата за мозговой труд… И так будет, покуда мы не взорвём всю эту ихнюю «цивилизацию», Гарина посадим в сумасшедший дом, а Роллинга отправим завхозом куда-нибудь на остров Врангеля… Вы правы, нужно бороться… Что же, — я готов. Аппаратом Гарина должен владеть СССР…
— Аппарат будет у нас, — закрыв глаза, проговорил Шельга.
— С какого конца приступить к делу?
— С разведки, как полагается.
— В каком направлении?
— Гарин сейчас, по всей вероятности, бешеным ходом строит аппараты. В Вилль Давре у него была только модель. Если он успеет построить боевой аппарат, — тогда его взять будет очень трудно. Первое, — нужно узнать, где он строит аппараты.
— Понадобятся деньги.
— Поезжайте сегодня же на улицу Гренелль, переговорите с нашим послом, я его кое о чём уже осведомил. Деньги будут. Теперь второе, — нужно разыскать Зою Монроз. Это очень важно. Это баба умная, жестокая, с большой фантазией. Она Гарина и Роллинга связала насмерть. В ней вся пружина их махинации.
— Простите, бороться с женщинами отказываюсь.
— Алексей Семёнович, она посильнее нас с вами… Она ещё много крови прольёт.
Сквозь иллюминаторы скользили текучие отблески солнца, зеленоватый свет играл на мраморных стенах, ванная комната слегка покачивалась. Горничная осторожно вытирала, как драгоценность, ноги Зои, натянула чулки и белые туфли.
— Бельё, мадам.
Зоя лениво поднялась, на неё надели почти не существующее бельё. Она глядела мимо зеркала, заломив брови. Её одели в белую юбку и белый, морского покроя, пиджачок с золотыми пуговицами, — как это и полагалось для владелицы трёхсоттонной яхты в Средиземном море.
— Грим, мадам?
— Вы с ума сошли, — ответила Зоя, медленно взглянула на горничную и пошла наверх, на палубу, где с теневой стороны на низком камышовом столике был накрыт завтрак.
Зоя села у стола. Разломила кусочек хлеба и загляделась. Белый узкий корпус моторной яхты скользил по зеркальной воде, — море было ясно-голубое, немного темнее безоблачного неба. Пахло свежестью чисто вымытой палубы. Подувал тёплый ветерок, лаская ноги под платьем.
На слегка выгнутой, из узких досок, точно замшевой палубе стояли у бортов плетёные кресла, посредине лежал серебристый анатолийский ковёр с разбросанными парчовыми подушками. От капитанского мостика до кормы натянут тент из синего шёлка с бахромой и кистями.
Зоя вздохнула и начала завтракать.
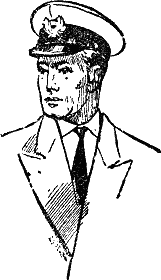 Мягко ступая, улыбаясь, подошёл капитан Янсен, норвежец, — выбритый, румяный, похожий на взрослого ребёнка. Неторопливо приложил два пальца к фуражке, надвинутой глубоко на одно ухо.
Мягко ступая, улыбаясь, подошёл капитан Янсен, норвежец, — выбритый, румяный, похожий на взрослого ребёнка. Неторопливо приложил два пальца к фуражке, надвинутой глубоко на одно ухо.
— С добрым утром, мадам Ламоль. (Зоя плавала под этим именем и под французским флагом.)
Капитан был весь белоснежный, выглаженный, — косолапо, по-морски, изящный. Зоя оглянула его от золотых дубовых листьев на козырьке фуражки до белых туфель с верёвочными подошвами. Осталась удовлетворена:
— Доброе утро, Янсен.
— Имею честь доложить, курс — норд-вест-вест, широта и долгота (такие-то), на горизонте курится Везувий. Неаполь покажется меньше чем через час.
— Садитесь, Янсен.
Движением руки она пригласила его принять участие в завтраке. Янсен сел на заскрипевшую под сильным его телом камышовую банкетку. От завтрака отказался, — он уже ел в девять утра. Из вежливости взял чашечку кофе.
Зоя рассматривала его загорелое лицо со светлыми ресницами, — оно понемногу залилось краской. Не отхлебнув, он поставил чашечку на скатерть.
— Нужно переменить пресную воду и взять бензин для моторов, — сказал он, не поднимая глаз.
— Как, заходить в Неаполь? Какая тоска! Мы встанем на внешнем рейде, если вам так уже нужны вода и бензин.
— Есть встать на внешнем рейде, — тихо проговорил капитан.
— Янсен, ваши предки были морскими пиратами?
— Да, мадам.
— Как это было интересно! Приключения, опасности, отчаянные кутежи, похищение красивых женщин… Вам жалко, что вы не морской пират?
Янсен молчал. Рыжие ресницы его моргали. По лбу пошли складки.
— Ну?
— Я получил хорошее воспитание, мадам.
— Верю.
— Разве что-нибудь во мне даёт повод думать, что я способен на противозаконные и нелояльные поступки?
— Фу, — сказала Зоя, — такой сильный, смелый, отличный человек, потомок пиратов, — и всё это, чтобы возить вздорную бабу по тёплой, скучной луже. Фу!
— Но, мадам…
— Устройте какую-нибудь глупость, Янсен. Мне скучно…
— Есть устроить глупость.
— Когда будет страшная буря, посадите яхту на камень.
— Есть посадить яхту на камни…
— Вы серьёзно это намерены сделать?
— Если вы приказываете…
Он взглянул на Зою. В глазах его были обида и сдерживаемое восхищение. Зоя потянулась и положила руку ему на белый рукав:
— Я не шучу с вами, Янсен. Я знаю вас всего три недели, но мне кажется, что вы из тех, кто может быть предан (у него сжались челюсти). Мне кажется, вы способны на поступки, выходящие из пределов лояльности, если, если…
В это время на лакированной, сверкающей бронзою лестнице с капитанского мостика показались сбегающие ноги. Янсен сказал поспешно:
— Время, мадам…
Вниз сошёл помощник капитана. Отдал честь:
— Мадам Ламоль, без трёх минут двенадцать, сейчас будут вызывать по радио…
Зоя глядела и загляделась, взявшись за перила. Узкий корпус яхты с приподнятым бушпритом летел среди ветерков в этом водянистом свете.
Сердце билось от счастья. Казалось, оторви руки от перил, и полетишь. Чудесное создание — человек. Какими числами измерить неожиданности его превращений? Злые излучения воли, текучий яд вожделений, душа, казалось, разбитая в осколки, — всё мучительное тёмное прошлое Зои отодвинулось, растворилось в этом солнечном свете…
«Я молода, молода, — так казалось ей на палубе корабля, с поднятым к солнцу бушпритом, — я красива, я добра».
Ветер ласкал шею, лицо. Зоя восторженно желала счастья себе. Всё ещё не в силах оторваться от света, неба, моря, она повернула холодную ручку дверцы, вошла в хрустальную будку, где с солнечной стороны были задёрнуты шторки. Взяла слуховые трубки. Положила локти на стол, прикрыла глаза пальцами, — сердцу всё ещё было горячо. Зоя сказала помощнику капитана:
— Идите.
Он вышел, покосившись на мадам Ламоль. Мало того, что она была чертовски красива, стройна, тонка, «шикарна», — от неё неизъяснимое волнение.
«Нужно научиться чувствовать, раздвигать каждую минуту в вечность, — подумалось ей, — знать: впереди миллионы минут, миллионы вечностей».
Она положила пальцы на рычажок и, пододвинув его влево, настроила аппарат на волну сто тридцать семь с половиной метров. Тогда из чёрной пустоты трубки раздался медленный и жёсткий голос Роллинга:
— …Мадам Ламоль, мадам Ламоль, мадам Ламоль… Слушайте, слушайте, слушайте…
— Да, слушаю я, успокойся, — прошептала Зоя.
— …Всё ли у вас благополучно? Не терпите ли бедствия? В чём-либо недостатка? Сегодня в тот же час, как обычно, буду счастлив слышать ваш голос… Волну посылайте той же длины, как обычно… Мадам Ламоль, не удаляйтесь слишком далеко от десяти градусов восточной долготы, сорока градусов северной широты. Не исключена возможность скорой встречи. У нас всё в порядке. Дела блестящи. Тот, кому нужно молчать, молчит. Будьте спокойны, счастливы, — безоблачный путь.
Зоя сняла наушные трубки. Морщина прорезала её лоб. Глядя на стрелку хронометра, она проговорила сквозь зубы: «Надоело!» Эти ежедневные радиопризнания в любви ужасно сердили её. Роллинг не может, не хочет оставить её в покое… Пойдёт на какое угодно преступление в конце концов, только бы позволила ему каждый день хрипеть в микрофон: «… Будьте спокойны, счастливы, — безоблачный путь».
В Гавре она села на его яхту «Аризона» и на рассвете вышла в Бискайский залив. В Лиссабоне Зоя получила документы и бумаги на имя мадам Ламоль — она становилась владелицей одной из самых роскошных на Западе яхт. Из Лиссабона пошли в Средиземное море, и там «Аризона» крейсировала у берегов Италии, держась десяти градусов восточной долготы, сорока градусов северной широты.
Немедленно была установлена связь между яхтой и частной радиостанцией Роллинга в Медоне под Парижем. Капитан Янсен докладывал Роллингу обо всех подробностях путешествия. Роллинг ежедневно вызывал Зою. Она каждый вечер докладывала ему о своих «настроениях». В этом однообразии прошло дней десять, и вот аппараты «Аризоны», щупавшие пространство, приняли короткие волны на непонятном языке. Дали знать Зое, и она услыхала голос, от которого остановилось сердце.
— …Зоя, Зоя, Зоя, Зоя…
Точно огромная муха о стекло, звенел в наушниках голос Гарина. Он повторял её имя и затем через некоторые промежутки:
— …Отвечай от часа до трёх ночи… И опять:
— …Зоя, Зоя, Зоя… Будь осторожна, будь осторожна…
В ту же ночь над тёмным морем, над спящей Европой, над древними пепелищами Малой Азии, над равнинами Африки, покрытыми иглами и пылью высохших растений, полетели волны женского голоса:
— …Тому, кто велел отвечать от часа до трёх…
Этот вызов Зоя повторяла много раз. Затем говорила:
— …Хочу тебя видеть. Пусть это неразумно. Назначь любой из итальянских портов… По имени меня не вызывай, узнаю тебя по голосу…
В ту же ночь, в ту самую минуту, когда Зоя упрямо повторяла вызов, надеясь, что Гарин где-то, — в Европе, Азии, Африке, — нащупает волны электромагнитов «Аризоны», за две тысячи километров, в Париже, на ночном столике у двухспальной кровати, где одиноко, уткнув нос в одеяло, спал Роллинг, затрещал телефонный звонок.
Роллинг, подскочив, схватил трубку. Голос Семёнова поспешно проговорил:
— Роллинг. Она разговаривает.
— С кем?
— Плохо слышно, по имени не называет.
— Хорошо, продолжайте слушать. Отчёт завтра. Роллинг положил трубку, снова лёг, но сон уже отошёл от него.
Задача была нелегка: среди несущихся ураганом над Европой фокстротов, рекламных воплей, церковных хоралов, отчётов о международной политике, опер, симфоний, биржевых бюллетеней, шуточек знаменитых юмористов — уловить слабый голос Зои.
День и ночь для этого в Медоне сидел Семёнов. Ему удалось перехватить несколько фраз, сказанных голосом Зои. Но и этого было достаточно, чтобы разжечь ревнивое воображение Роллинга.
Роллинг чувствовал себя отвратительно после ночи в Фонтенебло. Шельга остался жив, — висел над головой страшной угрозой. С Гариным, которого Роллинг с наслаждением повесил бы на сучке, как негра, был подписан договор. Быть может, Роллинг и заупрямился бы тогда, — лучше смерть, эшафот, чем союз, — но волю его сокрушала Зоя. Договариваясь с Гариным, он выигрывал время, и, быть может сумасшедшая женщина опомнится, раскается, вернётся… Роллинг действительно плакал в автомобиле, зажмурясь, молча… Это было чёрт знает что… Из-за распутной, продажной бабы… Но слёзы были солоны и мучительны… Одним из условий договора он поставил длительное путешествие Зои на яхте. (Это было необходимо, чтобы замести следы.) Он надеялся убедить, усовестить, увлечь её ежедневными беседами по радио. Эта надежда была, пожалуй, глупее слёз в автомобиле.
По условию с Гариным Роллинг немедленно начинал «всеобщее наступление на химическом фронте». В тот день, когда Зоя села в Гавре на «Аризону», Роллинг поездом вернулся в Париж. Он известил полицию о том, что был в Гавре и на обратном пути, ночью, подвергся нападению бандитов (трое, с лицами, обвязанными платками). Они отобрали у него деньги и автомобиль. (Гарин в это время, — как было условлено, — пересёк с запада на восток Францию, проскочил границу в Люксембурге и в первом попавшемся канале утопил автомобиль Роллинга.)
«Наступление на химическом фронте» началось. Парижские газеты начали грандиозный переполох. «Загадочная трагедия в Вилль Давре», «Таинственное нападение на русского в парке Фонтенебло», «Наглое ограбление химического короля», «Американские миллиарды в Европе», «Гибель национальной германской индустрии», «Роллинг или Москва» — всё это умно и ловко было запутано в один клубок, который, разумеется, застрял в горле у обывателя — держателя ценностей. Биржа тряслась до основания. Между серых колонн её, у чёрных досок, где истерические руки писали, стирали, писали меловые цифры падающих бумаг, мотались, орали обезумевшие люди с глазами, готовыми лопнуть, с губами в коричневой пене.
Но это гибла плотва, — всё это были шуточки. Крупные промышленники и банки, стиснув зубы, держались за пакеты акций. Их нелегко было повалить даже рогами Роллинга. Для этой наиболее серьёзной операции и подготовлялся удар со стороны Гарина.
Гарин «бешеным ходом», как верно угадал Шельга, строил в Германии аппарат по своей модели. Он разъезжал из города в город, заказывая заводам различные части. Для сношения с Парижем пользовался отделом частных объявлений в кёльнской газете. Роллинг в свою очередь помещал в одной из бульварных парижских газет две-три строчки: «Всё внимание сосредоточьте на анилине…», «Дорог каждый день, не жалейте денег…» и так далее.
Гарин отвечал: «Окончу скорее, чем предполагал…», «Место найдено…», «Приступаю…», «Непредвиденная задержка…»
Роллинг: «Тревожусь, назначьте день…» Гарин ответил: «Отсчитайте тридцать пять со дня подписания договора…»
Приблизительно с этим его сообщением совпала ночная телефонограмма Роллингу от Семёнова. Роллинг пришёл в ярость, — его водили за нос. Тайные сношения с «Аризоной», помимо всего, были опасны. Но Роллинг не выдал себя ни словом, когда на следующий день говорил с мадам Ламоль.
Теперь, в часы бессонниц, Роллинг стал «продумывать» заново свою «партию» со смертельным врагом. Он нашёл ошибки. Гарин оказывался не так уже хорошо защищён. Ошибкой его было согласие на путешествие Зои, — конец партии для него предрешён. Мат будет сказан на борту «Аризоны».
Но всё же ум её не прояснялся, как надеялся Роллинг. Наяву и во сне чудились какие-то дивные острова, мраморные дворцы, уходящие лестницами в океан… Толпы красивых людей, музыка, вьющиеся флаги… И она — повелительница этого фантастического мира…
Сны и видения в кресле под синим тентом были продолжением разговора с Гариным в Вилль Давре (за час до убийства). Один на свете человек, Гарин, понял бы её сейчас. Но с ним были связаны и стеклянные глаза Ленуара и разинутый страшный рот Гастона Утиный Нос.
Вот почему у Зои остановилось сердце, когда неожиданно в трубку радио забормотал голос Гарина… С тех пор она ежедневно звала его, умоляла, грозила. Она хотела видеть его и боялась. Он чудился ей чёрным пятном в лазурной чистоте моря и неба… Ей нужно было рассказать ему о снах наяву. Спросить, где же его Оливиновый пояс? Зоя металась по яхте, лишая капитана Янсена и его помощника присутствия духа.
Гарин отвечал:
На мостике капитан Янсен опустил руку с биноклем, и Зоя чувствовала, что он, как зачарованный, смотрит на неё. Да и как было ему не смотреть, когда все чудеса неба и воды были сотворены только затем, чтобы ими любовалась мадам Ламоль, — у перил над молочно-лазурной бездной.
Невероятным, смешным казалось время, когда за дюжину шёлковых чулок, за платье от большого дома, просто за тысячу франков Зоя позволяла слюнявить себя молодчикам с коротенькими пальцами и сизыми щеками… Фу!.. Париж, кабаки, глупые девки, гнусные мужчины, уличная вонь, деньги, деньги, деньги, — какое убожество… Возня в зловонной яме!..
Гарин сказал в ту ночь: «Захотите — и будете наместницей бога или чёрта, что вам больше по вкусу. Вам захочется уничтожать людей, — иногда в этом бывает потребность, — ваша власть надо всем человечеством… Такая женщина, как вы, найдёт применение сокровищам Оливинового пояса…»
Зоя думала:
«Римские императоры обожествляли себя. Наверно, им это доставляло удовольствие. В наше время это тоже не плохое развлечение. На что-нибудь должны пригодиться людишки. Воплощение бога, живая богиня среди фантастического великолепия… Отчего же, — пресса могла бы подготовить моё обожествление легко и быстро. Миром правит сказочно прекрасная женщина. Это имело бы несомненный успех. Построить где-нибудь на островах великолепный город для избранных юношей, предполагаемых любовников богини. Появляться, как богиня, среди этих голодных мальчишек, — недурные эмоции».
Зоя пожала плечиком и снова посмотрела на капитана:
— Подите сюда, Янсен.
Он подошёл, мягко и широко ступая по горячей палубе.
— Янсен, вы не думаете, что я сумасшедшая?
— Я не думаю этого, мадам Ламоль, и не подумаю, что бы вы мне ни приказали.
— Благодарю. Я вас назначаю командором ордена божественной Зои.
Янсен моргнул светлыми ресницами. Затем взял под козырёк. Опустил руку и ещё раз моргнул. Зоя засмеялась, и его губы поползли в улыбку.
— Янсен, есть возможность осуществить самые несбыточные желания… Всё, что может придумать женщина в такой знойный полдень… Но нужно будет бороться…
— Есть бороться, — коротко ответил Янсен.
— Сколько узлов делает «Аризона»?
— До сорока.
— Какие суда могут нагнать её в открытом море?
— Очень немногие…
— Быть может, нам придётся выдержать длительную погоню.
— Прикажете взять полный запас жидкого топлива?
— Да. Консервов, пресной воды, шампанского… Капитан Янсен, мы идём на очень опасное предприятие.
— Есть идти на опасное предприятие.
— Но, слышите, я уверена в победе…
Склянки пробили половину первого… Зоя вошла в радиотелефонную рубку. Села к аппарату. Она потрогала рычажок радиоприёмника. Откуда-то поймались несколько тактов фокстрота.
Сдвинув брови, она глядела на хронометр. Гарин молчал. Она снова стала двигать рычажок, сдерживая дрожь пальцев.
…Незнакомый, медленный голос по-русски проговорил в самое ухо:
«…Если вам дорога жизнь… в пятницу высадитесь в Неаполе… в гостинице «Сплендид» ждите известий до полудня субботы».
Это был конец какой-то фразы, отправленной на длине волны четыреста двадцать один, то есть станции, которой всё это время пользовался Гарин.
За эти три недели Шельга настолько поправился, что вставал с койки и пересаживался к окну, поближе к пышнолистным ветвям платана, к чёрным дроздам и радугам над водяной пылью среди газона.
Отсюда был виден весь больничный садик, обнесённый каменной глухой стеной. В восемнадцатом веке это место принадлежало монастырю, уничтоженному революцией. Монахи не любят любопытных глаз. Стена была высока, и по всему гребню её поблёскивали осколки битого стекла.
Перелезть через стену можно было, лишь подставив с той стороны лестницу. Улички, граничившие с больницей, были тихие и пустынные, всё же фонари там горели настолько ярко и так часто слышались в тишине за стеной шаги полицейских, что вопрос о лестнице отпадал.
Разумеется, не будь битого стекла на стене, ловкий человек перемахнул бы и без лестницы. Каждое утро Шельга из-за шторы осматривал всю стену до последнего камешка. Опасность грозила только с этой стороны. Человек, посланный Роллингом, вряд ли рискнул бы появиться изнутри гостиницы. Но что убийца так или иначе появится, Шельга не сомневался.
Он ждал теперь осмотра врача, чтобы выписаться. Об этом было известно. Врач приезжал обычно пять раз в неделю. На этот раз оказалось, что врач заболел. Шельге заявили, что без осмотра старшего врача его не выпишут. Протестовать он даже и не пытался. Он дал знать в советское посольство, чтобы оттуда ему доставляли еду. Больничный суп он выливал в раковину, хлеб бросал дроздам.
Шельга знал, что Роллинг должен избавиться от единственного свидетеля. Шельга теперь почти не спал, — так велико было возбуждение. Сестра-кармелитка приносила ему газеты, — весь день он работал ножницами и изучал вырезки. Хлынову он запретил приходить в больницу. (Вольф был в Германии, на Рейне, где собирал сведения о борьбе Роллинга с Германской анилиновой компанией.)
— Где может быть сейчас Роллинг?
— Как где? Конечно, в Париже. Ворочает прессой. У него сейчас большое наступление на химическом фронте. Деньги лопатой загребает. В том-то всё и дело, что я с минуты на минуту жду пулю в окно или яд в соуснике. Он меня всё-таки пришьёт, конечно…
— Чего же вы молчите?.. Немедленно нужно дать знать шефу полиции.
— Товарищ дорогой, вы с ума сошли! Я и жив-то до сих пор только потому, что молчу.
52
— Итак, Шельга, вы своими глазами видели действие аппарата?— Видел и теперь знаю: пушки, газы, аэропланы — всё это детская забава. Вы не забывайте, тут не один Гарин… Гарин и Роллинг. Смертоносная машина и миллиарды. Всего можно ждать.
Хлынов поднял штору и долго стоял у окна, глядя на изумрудную зелень, на старого садовника, с трудом перетаскивающего металлические суставчатые трубы в теневую сторону сада, на чёрных дроздов, — они деловито и озабоченно бегали под кустами вербены, вытаскивали из чернозёма дождевых червяков. Небо, синее и прелестное, вечным покоем расстилалось над садом.
— А то предоставить их самим себе, пусть развернутся во всём великолепии — Роллинг и Гарин, и конец будет ближе, — проговорил Хлынов. — Этот мир погибнет неминуемо… Здесь одни дрозды живут разумно. — Хлынов отвернулся от окна. — Человек каменного века был значительнее, несомненно… Бесплатно, только из внутренней потребности, разрисовывал пещеры, думал, сидя у огня, о мамонтах, о грозах, о странном вращении жизни и смерти и о самом себе. Чёрт знает, как это было почтенно!.. Мозг ещё маленький, череп толстый, но духовная энергия молниями лучилась из его головы… А эти, нынешние, на кой чёрт им летательные машины? Посадить бы какого-нибудь франта с бульвара в пещеру напротив палеолитического человека. Тот бы, волосатый дядя, его спросил: «Рассказывай, сын больной суки, до чего ты додумался за эти сто тысяч лет?..» — «Ах, ах, — завертелся бы франт, — я, знаете ли, не столько думаю, сколько наслаждаюсь плодами цивилизации, господин пращур… Если бы не опасность революций со стороны черни, то наш мир был бы поистине прекрасен. Женщины, рестораны, немножко волнения за картами в казино, немножко спорта… Но, вот беда, — эти постоянные кризисы и революции, — это становится утомительным…» — «Ух, ты, — сказал бы на это пращур, впиваясь в франта горящими глазами, — а мне вот нравится ду-у-у-умать, я вот сижу и уважаю мой гениальный мозг… Мне бы хотелось проткнуть им вселенную…»
Хлынов замолчал. Усмехаясь, всматривался в сумрак палеолитической пещеры. Тряхнул головой:
— Чего добиваются Гарин и Роллинг? Щекотки. Пусть они её называют властью над миром. Всё же это не больше, чем щекотка. В прошлую войну погибло тридцать миллионов. Они постараются убить триста. Духовная энергия в глубочайшем обмороке. Профессор Рейхер обедает только по воскресеньям. В остальные дни он кушает два бутерброда с повидлой и с маргарином — на завтрак и отварной картофель с солью — к обеду. Такова плата за мозговой труд… И так будет, покуда мы не взорвём всю эту ихнюю «цивилизацию», Гарина посадим в сумасшедший дом, а Роллинга отправим завхозом куда-нибудь на остров Врангеля… Вы правы, нужно бороться… Что же, — я готов. Аппаратом Гарина должен владеть СССР…
— Аппарат будет у нас, — закрыв глаза, проговорил Шельга.
— С какого конца приступить к делу?
— С разведки, как полагается.
— В каком направлении?
— Гарин сейчас, по всей вероятности, бешеным ходом строит аппараты. В Вилль Давре у него была только модель. Если он успеет построить боевой аппарат, — тогда его взять будет очень трудно. Первое, — нужно узнать, где он строит аппараты.
— Понадобятся деньги.
— Поезжайте сегодня же на улицу Гренелль, переговорите с нашим послом, я его кое о чём уже осведомил. Деньги будут. Теперь второе, — нужно разыскать Зою Монроз. Это очень важно. Это баба умная, жестокая, с большой фантазией. Она Гарина и Роллинга связала насмерть. В ней вся пружина их махинации.
— Простите, бороться с женщинами отказываюсь.
— Алексей Семёнович, она посильнее нас с вами… Она ещё много крови прольёт.
53
Зоя вышла из круглой и низкой ванны, подставила спину, — горничная накинула на неё мохнатый халат. Зоя, вся ещё покрытая пузырьками морской воды, села на мраморную скамью.Сквозь иллюминаторы скользили текучие отблески солнца, зеленоватый свет играл на мраморных стенах, ванная комната слегка покачивалась. Горничная осторожно вытирала, как драгоценность, ноги Зои, натянула чулки и белые туфли.
— Бельё, мадам.
Зоя лениво поднялась, на неё надели почти не существующее бельё. Она глядела мимо зеркала, заломив брови. Её одели в белую юбку и белый, морского покроя, пиджачок с золотыми пуговицами, — как это и полагалось для владелицы трёхсоттонной яхты в Средиземном море.
— Грим, мадам?
— Вы с ума сошли, — ответила Зоя, медленно взглянула на горничную и пошла наверх, на палубу, где с теневой стороны на низком камышовом столике был накрыт завтрак.
Зоя села у стола. Разломила кусочек хлеба и загляделась. Белый узкий корпус моторной яхты скользил по зеркальной воде, — море было ясно-голубое, немного темнее безоблачного неба. Пахло свежестью чисто вымытой палубы. Подувал тёплый ветерок, лаская ноги под платьем.
На слегка выгнутой, из узких досок, точно замшевой палубе стояли у бортов плетёные кресла, посредине лежал серебристый анатолийский ковёр с разбросанными парчовыми подушками. От капитанского мостика до кормы натянут тент из синего шёлка с бахромой и кистями.
Зоя вздохнула и начала завтракать.
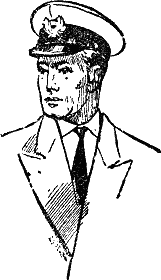
— С добрым утром, мадам Ламоль. (Зоя плавала под этим именем и под французским флагом.)
Капитан был весь белоснежный, выглаженный, — косолапо, по-морски, изящный. Зоя оглянула его от золотых дубовых листьев на козырьке фуражки до белых туфель с верёвочными подошвами. Осталась удовлетворена:
— Доброе утро, Янсен.
— Имею честь доложить, курс — норд-вест-вест, широта и долгота (такие-то), на горизонте курится Везувий. Неаполь покажется меньше чем через час.
— Садитесь, Янсен.
Движением руки она пригласила его принять участие в завтраке. Янсен сел на заскрипевшую под сильным его телом камышовую банкетку. От завтрака отказался, — он уже ел в девять утра. Из вежливости взял чашечку кофе.
Зоя рассматривала его загорелое лицо со светлыми ресницами, — оно понемногу залилось краской. Не отхлебнув, он поставил чашечку на скатерть.
— Нужно переменить пресную воду и взять бензин для моторов, — сказал он, не поднимая глаз.
— Как, заходить в Неаполь? Какая тоска! Мы встанем на внешнем рейде, если вам так уже нужны вода и бензин.
— Есть встать на внешнем рейде, — тихо проговорил капитан.
— Янсен, ваши предки были морскими пиратами?
— Да, мадам.
— Как это было интересно! Приключения, опасности, отчаянные кутежи, похищение красивых женщин… Вам жалко, что вы не морской пират?
Янсен молчал. Рыжие ресницы его моргали. По лбу пошли складки.
— Ну?
— Я получил хорошее воспитание, мадам.
— Верю.
— Разве что-нибудь во мне даёт повод думать, что я способен на противозаконные и нелояльные поступки?
— Фу, — сказала Зоя, — такой сильный, смелый, отличный человек, потомок пиратов, — и всё это, чтобы возить вздорную бабу по тёплой, скучной луже. Фу!
— Но, мадам…
— Устройте какую-нибудь глупость, Янсен. Мне скучно…
— Есть устроить глупость.
— Когда будет страшная буря, посадите яхту на камень.
— Есть посадить яхту на камни…
— Вы серьёзно это намерены сделать?
— Если вы приказываете…
Он взглянул на Зою. В глазах его были обида и сдерживаемое восхищение. Зоя потянулась и положила руку ему на белый рукав:
— Я не шучу с вами, Янсен. Я знаю вас всего три недели, но мне кажется, что вы из тех, кто может быть предан (у него сжались челюсти). Мне кажется, вы способны на поступки, выходящие из пределов лояльности, если, если…
В это время на лакированной, сверкающей бронзою лестнице с капитанского мостика показались сбегающие ноги. Янсен сказал поспешно:
— Время, мадам…
Вниз сошёл помощник капитана. Отдал честь:
— Мадам Ламоль, без трёх минут двенадцать, сейчас будут вызывать по радио…
54
Ветер парусил белую юбку. Зоя поднялась на верхнюю палубу к рубке радиотелеграфа. Прищурясь, вдохнула солёный воздух. Сверху, с капитанского мостика, необъятным казался солнечный свет, падающий на стеклянно-рябое море.Зоя глядела и загляделась, взявшись за перила. Узкий корпус яхты с приподнятым бушпритом летел среди ветерков в этом водянистом свете.
Сердце билось от счастья. Казалось, оторви руки от перил, и полетишь. Чудесное создание — человек. Какими числами измерить неожиданности его превращений? Злые излучения воли, текучий яд вожделений, душа, казалось, разбитая в осколки, — всё мучительное тёмное прошлое Зои отодвинулось, растворилось в этом солнечном свете…
«Я молода, молода, — так казалось ей на палубе корабля, с поднятым к солнцу бушпритом, — я красива, я добра».
Ветер ласкал шею, лицо. Зоя восторженно желала счастья себе. Всё ещё не в силах оторваться от света, неба, моря, она повернула холодную ручку дверцы, вошла в хрустальную будку, где с солнечной стороны были задёрнуты шторки. Взяла слуховые трубки. Положила локти на стол, прикрыла глаза пальцами, — сердцу всё ещё было горячо. Зоя сказала помощнику капитана:
— Идите.
Он вышел, покосившись на мадам Ламоль. Мало того, что она была чертовски красива, стройна, тонка, «шикарна», — от неё неизъяснимое волнение.
55
Двойные удары хронометра, как склянки, прозвонили двенадцать. Зоя улыбнулась, — прошло всего три минуты с тех пор, как она поднялась с кресла под тентом.«Нужно научиться чувствовать, раздвигать каждую минуту в вечность, — подумалось ей, — знать: впереди миллионы минут, миллионы вечностей».
Она положила пальцы на рычажок и, пододвинув его влево, настроила аппарат на волну сто тридцать семь с половиной метров. Тогда из чёрной пустоты трубки раздался медленный и жёсткий голос Роллинга:
— …Мадам Ламоль, мадам Ламоль, мадам Ламоль… Слушайте, слушайте, слушайте…
— Да, слушаю я, успокойся, — прошептала Зоя.
— …Всё ли у вас благополучно? Не терпите ли бедствия? В чём-либо недостатка? Сегодня в тот же час, как обычно, буду счастлив слышать ваш голос… Волну посылайте той же длины, как обычно… Мадам Ламоль, не удаляйтесь слишком далеко от десяти градусов восточной долготы, сорока градусов северной широты. Не исключена возможность скорой встречи. У нас всё в порядке. Дела блестящи. Тот, кому нужно молчать, молчит. Будьте спокойны, счастливы, — безоблачный путь.
Зоя сняла наушные трубки. Морщина прорезала её лоб. Глядя на стрелку хронометра, она проговорила сквозь зубы: «Надоело!» Эти ежедневные радиопризнания в любви ужасно сердили её. Роллинг не может, не хочет оставить её в покое… Пойдёт на какое угодно преступление в конце концов, только бы позволила ему каждый день хрипеть в микрофон: «… Будьте спокойны, счастливы, — безоблачный путь».
56
После убийства в Вилль Давре и Фонтенебло и затем бешеной езды с Гариным по залитым лунным светом пустынным шоссейным дорогам в Гавр Зоя и Роллинг больше не встречались. Он стрелял в неё в ту ночь, пытался оскорбить и затих. Кажется, он даже молча плакал тогда, согнувшись в автомобиле.В Гавре она села на его яхту «Аризона» и на рассвете вышла в Бискайский залив. В Лиссабоне Зоя получила документы и бумаги на имя мадам Ламоль — она становилась владелицей одной из самых роскошных на Западе яхт. Из Лиссабона пошли в Средиземное море, и там «Аризона» крейсировала у берегов Италии, держась десяти градусов восточной долготы, сорока градусов северной широты.
Немедленно была установлена связь между яхтой и частной радиостанцией Роллинга в Медоне под Парижем. Капитан Янсен докладывал Роллингу обо всех подробностях путешествия. Роллинг ежедневно вызывал Зою. Она каждый вечер докладывала ему о своих «настроениях». В этом однообразии прошло дней десять, и вот аппараты «Аризоны», щупавшие пространство, приняли короткие волны на непонятном языке. Дали знать Зое, и она услыхала голос, от которого остановилось сердце.
— …Зоя, Зоя, Зоя, Зоя…
Точно огромная муха о стекло, звенел в наушниках голос Гарина. Он повторял её имя и затем через некоторые промежутки:
— …Отвечай от часа до трёх ночи… И опять:
— …Зоя, Зоя, Зоя… Будь осторожна, будь осторожна…
В ту же ночь над тёмным морем, над спящей Европой, над древними пепелищами Малой Азии, над равнинами Африки, покрытыми иглами и пылью высохших растений, полетели волны женского голоса:
— …Тому, кто велел отвечать от часа до трёх…
Этот вызов Зоя повторяла много раз. Затем говорила:
— …Хочу тебя видеть. Пусть это неразумно. Назначь любой из итальянских портов… По имени меня не вызывай, узнаю тебя по голосу…
В ту же ночь, в ту самую минуту, когда Зоя упрямо повторяла вызов, надеясь, что Гарин где-то, — в Европе, Азии, Африке, — нащупает волны электромагнитов «Аризоны», за две тысячи километров, в Париже, на ночном столике у двухспальной кровати, где одиноко, уткнув нос в одеяло, спал Роллинг, затрещал телефонный звонок.
Роллинг, подскочив, схватил трубку. Голос Семёнова поспешно проговорил:
— Роллинг. Она разговаривает.
— С кем?
— Плохо слышно, по имени не называет.
— Хорошо, продолжайте слушать. Отчёт завтра. Роллинг положил трубку, снова лёг, но сон уже отошёл от него.
Задача была нелегка: среди несущихся ураганом над Европой фокстротов, рекламных воплей, церковных хоралов, отчётов о международной политике, опер, симфоний, биржевых бюллетеней, шуточек знаменитых юмористов — уловить слабый голос Зои.
День и ночь для этого в Медоне сидел Семёнов. Ему удалось перехватить несколько фраз, сказанных голосом Зои. Но и этого было достаточно, чтобы разжечь ревнивое воображение Роллинга.
Роллинг чувствовал себя отвратительно после ночи в Фонтенебло. Шельга остался жив, — висел над головой страшной угрозой. С Гариным, которого Роллинг с наслаждением повесил бы на сучке, как негра, был подписан договор. Быть может, Роллинг и заупрямился бы тогда, — лучше смерть, эшафот, чем союз, — но волю его сокрушала Зоя. Договариваясь с Гариным, он выигрывал время, и, быть может сумасшедшая женщина опомнится, раскается, вернётся… Роллинг действительно плакал в автомобиле, зажмурясь, молча… Это было чёрт знает что… Из-за распутной, продажной бабы… Но слёзы были солоны и мучительны… Одним из условий договора он поставил длительное путешествие Зои на яхте. (Это было необходимо, чтобы замести следы.) Он надеялся убедить, усовестить, увлечь её ежедневными беседами по радио. Эта надежда была, пожалуй, глупее слёз в автомобиле.
По условию с Гариным Роллинг немедленно начинал «всеобщее наступление на химическом фронте». В тот день, когда Зоя села в Гавре на «Аризону», Роллинг поездом вернулся в Париж. Он известил полицию о том, что был в Гавре и на обратном пути, ночью, подвергся нападению бандитов (трое, с лицами, обвязанными платками). Они отобрали у него деньги и автомобиль. (Гарин в это время, — как было условлено, — пересёк с запада на восток Францию, проскочил границу в Люксембурге и в первом попавшемся канале утопил автомобиль Роллинга.)
«Наступление на химическом фронте» началось. Парижские газеты начали грандиозный переполох. «Загадочная трагедия в Вилль Давре», «Таинственное нападение на русского в парке Фонтенебло», «Наглое ограбление химического короля», «Американские миллиарды в Европе», «Гибель национальной германской индустрии», «Роллинг или Москва» — всё это умно и ловко было запутано в один клубок, который, разумеется, застрял в горле у обывателя — держателя ценностей. Биржа тряслась до основания. Между серых колонн её, у чёрных досок, где истерические руки писали, стирали, писали меловые цифры падающих бумаг, мотались, орали обезумевшие люди с глазами, готовыми лопнуть, с губами в коричневой пене.
Но это гибла плотва, — всё это были шуточки. Крупные промышленники и банки, стиснув зубы, держались за пакеты акций. Их нелегко было повалить даже рогами Роллинга. Для этой наиболее серьёзной операции и подготовлялся удар со стороны Гарина.
Гарин «бешеным ходом», как верно угадал Шельга, строил в Германии аппарат по своей модели. Он разъезжал из города в город, заказывая заводам различные части. Для сношения с Парижем пользовался отделом частных объявлений в кёльнской газете. Роллинг в свою очередь помещал в одной из бульварных парижских газет две-три строчки: «Всё внимание сосредоточьте на анилине…», «Дорог каждый день, не жалейте денег…» и так далее.
Гарин отвечал: «Окончу скорее, чем предполагал…», «Место найдено…», «Приступаю…», «Непредвиденная задержка…»
Роллинг: «Тревожусь, назначьте день…» Гарин ответил: «Отсчитайте тридцать пять со дня подписания договора…»
Приблизительно с этим его сообщением совпала ночная телефонограмма Роллингу от Семёнова. Роллинг пришёл в ярость, — его водили за нос. Тайные сношения с «Аризоной», помимо всего, были опасны. Но Роллинг не выдал себя ни словом, когда на следующий день говорил с мадам Ламоль.
Теперь, в часы бессонниц, Роллинг стал «продумывать» заново свою «партию» со смертельным врагом. Он нашёл ошибки. Гарин оказывался не так уже хорошо защищён. Ошибкой его было согласие на путешествие Зои, — конец партии для него предрешён. Мат будет сказан на борту «Аризоны».
57
Но на борту «Аризоны» происходило не совсем то, о чём думал Роллинг. Он помнил Зою умной, спокойно — расчётливой, холодной, преданной. Он знал, с какой брезгливостью она относилась к женским слабостям. Он не мог допустить, чтобы долго могло длиться её увлечение этим нищим бродягой, бандитом Гариным. Хорошая прогулка по Средиземному морю должна прояснить её ум. Зоя действительно была как в бреду, когда в Гавре села на яхту. Несколько дней одиночества среди океана успокоили её. Она пробуждалась, жила и засыпала среди синего света, блеска воды, под спокойный, как вечность, шум волн. Содрогаясь от омерзения, она вспоминала грязную комнату и оскалившийся, стеклянноглазый труп Ленуара, закипевшую дымную полосу поперёк груди Утиного Носа, сырую поляну в Фонтенебло и неожиданные выстрелы Роллинга, точно он убивал бешеную собаку…Но всё же ум её не прояснялся, как надеялся Роллинг. Наяву и во сне чудились какие-то дивные острова, мраморные дворцы, уходящие лестницами в океан… Толпы красивых людей, музыка, вьющиеся флаги… И она — повелительница этого фантастического мира…
Сны и видения в кресле под синим тентом были продолжением разговора с Гариным в Вилль Давре (за час до убийства). Один на свете человек, Гарин, понял бы её сейчас. Но с ним были связаны и стеклянные глаза Ленуара и разинутый страшный рот Гастона Утиный Нос.
Вот почему у Зои остановилось сердце, когда неожиданно в трубку радио забормотал голос Гарина… С тех пор она ежедневно звала его, умоляла, грозила. Она хотела видеть его и боялась. Он чудился ей чёрным пятном в лазурной чистоте моря и неба… Ей нужно было рассказать ему о снах наяву. Спросить, где же его Оливиновый пояс? Зоя металась по яхте, лишая капитана Янсена и его помощника присутствия духа.
Гарин отвечал:
«…Жди. Будет всё, что ты захочешь. Только умей хотеть. Желай, сходи с ума — это хорошо. Ты мне нужна такой. Без тебя моё дело мёртвое».Таково было его последнее радио, точно так же перехваченное Роллингом. Сегодня Зоя ждала ответа на запрос, — в какой точно день его нужно ждать на яхте? Она вышла на палубу и облокотилась о перила. Яхта едва двигалась. Ветер затих. На востоке поднимались испарения ещё невидимой земли, и стоял пепельный столб дыма над Везувием.
На мостике капитан Янсен опустил руку с биноклем, и Зоя чувствовала, что он, как зачарованный, смотрит на неё. Да и как было ему не смотреть, когда все чудеса неба и воды были сотворены только затем, чтобы ими любовалась мадам Ламоль, — у перил над молочно-лазурной бездной.
Невероятным, смешным казалось время, когда за дюжину шёлковых чулок, за платье от большого дома, просто за тысячу франков Зоя позволяла слюнявить себя молодчикам с коротенькими пальцами и сизыми щеками… Фу!.. Париж, кабаки, глупые девки, гнусные мужчины, уличная вонь, деньги, деньги, деньги, — какое убожество… Возня в зловонной яме!..
Гарин сказал в ту ночь: «Захотите — и будете наместницей бога или чёрта, что вам больше по вкусу. Вам захочется уничтожать людей, — иногда в этом бывает потребность, — ваша власть надо всем человечеством… Такая женщина, как вы, найдёт применение сокровищам Оливинового пояса…»
Зоя думала:
«Римские императоры обожествляли себя. Наверно, им это доставляло удовольствие. В наше время это тоже не плохое развлечение. На что-нибудь должны пригодиться людишки. Воплощение бога, живая богиня среди фантастического великолепия… Отчего же, — пресса могла бы подготовить моё обожествление легко и быстро. Миром правит сказочно прекрасная женщина. Это имело бы несомненный успех. Построить где-нибудь на островах великолепный город для избранных юношей, предполагаемых любовников богини. Появляться, как богиня, среди этих голодных мальчишек, — недурные эмоции».
Зоя пожала плечиком и снова посмотрела на капитана:
— Подите сюда, Янсен.
Он подошёл, мягко и широко ступая по горячей палубе.
— Янсен, вы не думаете, что я сумасшедшая?
— Я не думаю этого, мадам Ламоль, и не подумаю, что бы вы мне ни приказали.
— Благодарю. Я вас назначаю командором ордена божественной Зои.
Янсен моргнул светлыми ресницами. Затем взял под козырёк. Опустил руку и ещё раз моргнул. Зоя засмеялась, и его губы поползли в улыбку.
— Янсен, есть возможность осуществить самые несбыточные желания… Всё, что может придумать женщина в такой знойный полдень… Но нужно будет бороться…
— Есть бороться, — коротко ответил Янсен.
— Сколько узлов делает «Аризона»?
— До сорока.
— Какие суда могут нагнать её в открытом море?
— Очень немногие…
— Быть может, нам придётся выдержать длительную погоню.
— Прикажете взять полный запас жидкого топлива?
— Да. Консервов, пресной воды, шампанского… Капитан Янсен, мы идём на очень опасное предприятие.
— Есть идти на опасное предприятие.
— Но, слышите, я уверена в победе…
Склянки пробили половину первого… Зоя вошла в радиотелефонную рубку. Села к аппарату. Она потрогала рычажок радиоприёмника. Откуда-то поймались несколько тактов фокстрота.
Сдвинув брови, она глядела на хронометр. Гарин молчал. Она снова стала двигать рычажок, сдерживая дрожь пальцев.
…Незнакомый, медленный голос по-русски проговорил в самое ухо:
«…Если вам дорога жизнь… в пятницу высадитесь в Неаполе… в гостинице «Сплендид» ждите известий до полудня субботы».
Это был конец какой-то фразы, отправленной на длине волны четыреста двадцать один, то есть станции, которой всё это время пользовался Гарин.
58
Третью ночь подряд в комнате, где лежал Шельга, забывали закрывать ставни. Каждый раз он напоминал об этом сестре-кармелитке. Он внимательно смотрел за тем, чтобы задвижка, соединяющая половинки створчатых ставен, была защёлкнута как следует.За эти три недели Шельга настолько поправился, что вставал с койки и пересаживался к окну, поближе к пышнолистным ветвям платана, к чёрным дроздам и радугам над водяной пылью среди газона.
Отсюда был виден весь больничный садик, обнесённый каменной глухой стеной. В восемнадцатом веке это место принадлежало монастырю, уничтоженному революцией. Монахи не любят любопытных глаз. Стена была высока, и по всему гребню её поблёскивали осколки битого стекла.
Перелезть через стену можно было, лишь подставив с той стороны лестницу. Улички, граничившие с больницей, были тихие и пустынные, всё же фонари там горели настолько ярко и так часто слышались в тишине за стеной шаги полицейских, что вопрос о лестнице отпадал.
Разумеется, не будь битого стекла на стене, ловкий человек перемахнул бы и без лестницы. Каждое утро Шельга из-за шторы осматривал всю стену до последнего камешка. Опасность грозила только с этой стороны. Человек, посланный Роллингом, вряд ли рискнул бы появиться изнутри гостиницы. Но что убийца так или иначе появится, Шельга не сомневался.
Он ждал теперь осмотра врача, чтобы выписаться. Об этом было известно. Врач приезжал обычно пять раз в неделю. На этот раз оказалось, что врач заболел. Шельге заявили, что без осмотра старшего врача его не выпишут. Протестовать он даже и не пытался. Он дал знать в советское посольство, чтобы оттуда ему доставляли еду. Больничный суп он выливал в раковину, хлеб бросал дроздам.
Шельга знал, что Роллинг должен избавиться от единственного свидетеля. Шельга теперь почти не спал, — так велико было возбуждение. Сестра-кармелитка приносила ему газеты, — весь день он работал ножницами и изучал вырезки. Хлынову он запретил приходить в больницу. (Вольф был в Германии, на Рейне, где собирал сведения о борьбе Роллинга с Германской анилиновой компанией.)
