Страница:
В дальнейшем в русском языке всё изменилось: во-первых, исчез из употребления вспомогательный глагол: во-вторых, причастие, подобное «ел», «пел», «сел», утратило свое былое значение, стало пониматься уже не как причастие, а как простая и самостоятельная глагольная форма.
Таким образом, сочетания слов «снег был» и «снег бел» и впрямь похожи одно на другое не случайно, не только по внешности. Между ними, пожалуй, больше сходства, нежели между «снег был» и «снег есть». Поэтому, встретив где-либо предложение вроде: «Рассерженная, она вышла из комнаты», вы вполне вправе расшифровать его так: «Рассерженная, она из комнаты вышла есть».
Не знаю только, принесет ли вам такая расшифровка практическую пользу.
Занятно, кстати: в древнерусском языке можно порою заметить гораздо большее сходство между некоторыми из прилагательных и глагольных причастий, какие мы только что рассматривали, чем у нас сейчас. Наше слово «пошл» явно отличается от глагольной формы «пошел». А там когда-то оба они писались, да, вероятно, и произносились, одинаково: «пошьл».
«Вот уж никогда этого не подозревал!» – восклицаете вы. А ведь это – лишнее доказательство некоторой недостаточности наших знаний о родном языке, о его больших и маленьких загадках.
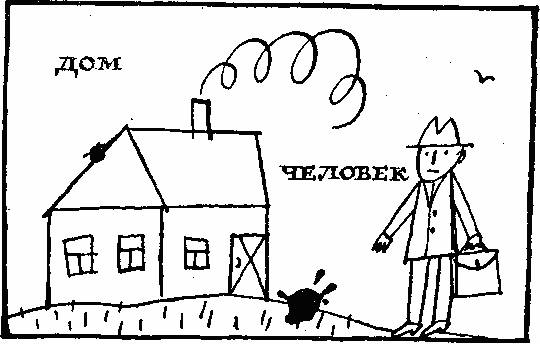
Таким образом, сочетания слов «снег был» и «снег бел» и впрямь похожи одно на другое не случайно, не только по внешности. Между ними, пожалуй, больше сходства, нежели между «снег был» и «снег есть». Поэтому, встретив где-либо предложение вроде: «Рассерженная, она вышла из комнаты», вы вполне вправе расшифровать его так: «Рассерженная, она из комнаты вышла есть».
Не знаю только, принесет ли вам такая расшифровка практическую пользу.
Занятно, кстати: в древнерусском языке можно порою заметить гораздо большее сходство между некоторыми из прилагательных и глагольных причастий, какие мы только что рассматривали, чем у нас сейчас. Наше слово «пошл» явно отличается от глагольной формы «пошел». А там когда-то оба они писались, да, вероятно, и произносились, одинаково: «пошьл».
«Вот уж никогда этого не подозревал!» – восклицаете вы. А ведь это – лишнее доказательство некоторой недостаточности наших знаний о родном языке, о его больших и маленьких загадках.
В ПРОСТРАНСТВЕ И ВО ВРЕМЕНИ
До сих пор я приводил примеры, почерпнутые из русского языка. Вы знаете, что языков на свете много. Но сколько именно их на земном шаре? Сто, тысяча, десять тысяч? Нет, их всего две с половиной, три тысячи. Почему их столько? Что они – похожи один на другой или все совершенно разные? Откуда они взялись?
Знаете ли вы, что существуют такие языки, в которых наряду с именами склоняются и глаголы? Известно ли вам, что в то время как в нашем языке имеются три «рода» имен: мужской, женский и средний, можно указать на языки, где их только два; на другие, где их, наоборот, четыре и даже несравненно больше, но они совершенно иные, чем у нас, и, наконец, на языки, где никаких «родов» вовсе нет?
Слово «никакого рода»? Да как же это может быть?
Поговорите с вашими товарищами, изучающими английский язык: многие из них даже не заметили, что пользуются в нем «безро´довой»[1] грамматикой. Или прислушайтесь к нашему собственному языку: задумывались ли вы когда-нибудь над вопросом, какого рода существительное «ножницы» или «штаны»? Вероятно, нет. А между тем мне, учившемуся в школе полвека назад, приходилось ломать голову над этим вопросом. В те времена в зависимости от рода существительного менялось окончание согласующегося с ним прилагательного во множественном числе. Надо было писать: «красныЕ флаги», но «красныЯ девицы» или «красныЯ знамена»; ошибка считалась грубой. Значит, прежде чем написать «сени новые, кленовые», нужно было установить, какого рода слово «сени». А ну-ка, попробуйте установите!
Вы об этом не печалитесь, и хорошо. Но ведь это значит, что вы спокойно пользуетесь существительными «никакого рода». Так что же вас удивило, когда я сказал о существовании языков, где родов вовсе нет?
Сейчас языков около трех тысяч. А раньше их было меньше или больше? Их число уменьшается или растет? И сами они остаются неизменными или как-нибудь меняются? Всё это вопросы, на которые должно давать ответы языкознание.
Вы читаете в книге:
А вот другой рассказ о том же легендарном происшествии:
На каком языке это написано? По-польски, по-чешски? Нет! Перед нами тоже прекрасный и правильный русский язык, но такой, каким пользовались наши предки за семь-восемь веков до Пушкина. Сравните оба повествования, и вам станет ясно, какая изменчивая, непрерывно принимающая новые облики вещь – язык. Язык как река. Волга в наши дни течет не так, как она текла во времена хозар и половцев. Тем не менее это та же Волга. Так и с языком.
Этого мало. Вчитайтесь в два следующих отрывка:
Можете ли вы положительно утверждать, что оба отрывка написаны на одном и том же языке? И да и нет! И тут и там перед нами современный правильный pycский язык, но в каких двух непохожих друг на друга видах! Можно справедливо усомниться, во всем ли поймут один другого два русских человека, говорящие на этих «разновидных» языках. И все же они-то в конце концов добьются взаимного понимания, тогда как ни француз, ни турок, ни англичанин не уразумеют ни там, ни здесь ни одной фразы.
Язык как море. У одного берега во´ды моря прозрачны и солоны, у другого – опреснены впадающей в него рекой и полны ее мути. И все это в одно и то же время, только в разных точках пространства. Одно и то же море и возле Одессы и под Батуми, только облик его там и здесь совсем разный. То же самое можно сказать и о языке,
Языкознание изучает все виды, все изменения языка. Его интересует все, что связано с удивительной способностью говорить, при помощи звуков передавать другому свои мысли; эта способность во всем мире свойственна только человеку.
Языковеды хотят дознаться, как люди овладели такой способностью, как создали они свои языки, как эти языки живут, изменяются, умирают, каким законам подчинена их жизнь.
Наряду с живыми языками их занимают и языки «мертвые», те, на которых сегодня уже не говорит никто. Мы знаем немало таких. Одни исчезли на памяти людей; о них сохранилась богатая литература, до нас дошли их грамматики и словари, – значит, не позабылся и смысл отдельных слов. Нет только никого, кто бы считал сейчас их своими родными языками. Такова «латынь», язык Древнего Рима; таков древнегреческий язык, таков и древнеиндийский «санскрит». Таков среди близких к нам языков «церковнославянский» или древнеболгарский. Изучение их не так уж сложно.
Но ведь есть и другие – скажем, египетский времен фараонов, вавилонский или хеттский. Еще два века назад никто, ни единый человек в мире, не знал ни единого слова на этих языках. Люди с недоумением и чуть ли не с трепетом взирали на таинственные, никому не понятные надписи на скалах, на стенах древних развалин, на глиняных плитках и полуистлевших папирусах, сделанные тысячи лет назад неведомо кем и неизвестно по каким причинам. Никто не знал, что значат эти странные буквы, звуки какого языка они выражают. Но терпение и остроумие человека не имеют границ. Ученые-языковеды разгадали тайны многих письмен. В наши дни каждый, кто пожелает, может так же спокойно выучиться говорить по-древнеегипетски, по-шуммерски, по-ассирийски или по-хеттски, как и на одном из ныне звучащих «обыкновенных живых» языков.
Благодаря трудам ученых мы знаем о древних Ассирии и Вавилоне, пожалуй, больше и подробнее, чем о многих ныне существующих государствах и народах. Мы можем по именам перечислить тысячи несчастных малолетних рабов, погибших в страшных каменоломнях царя Ашшурбанипала. Мы можем повторить звук за звуком слова их песен, то жалобных, то полных гнева, а ведь они отзвучали в последний раз два или три тысячелетия назад!
И все это дало нам языкознание.
Знаете ли вы, что существуют такие языки, в которых наряду с именами склоняются и глаголы? Известно ли вам, что в то время как в нашем языке имеются три «рода» имен: мужской, женский и средний, можно указать на языки, где их только два; на другие, где их, наоборот, четыре и даже несравненно больше, но они совершенно иные, чем у нас, и, наконец, на языки, где никаких «родов» вовсе нет?
Слово «никакого рода»? Да как же это может быть?
Поговорите с вашими товарищами, изучающими английский язык: многие из них даже не заметили, что пользуются в нем «безро´довой»[1] грамматикой. Или прислушайтесь к нашему собственному языку: задумывались ли вы когда-нибудь над вопросом, какого рода существительное «ножницы» или «штаны»? Вероятно, нет. А между тем мне, учившемуся в школе полвека назад, приходилось ломать голову над этим вопросом. В те времена в зависимости от рода существительного менялось окончание согласующегося с ним прилагательного во множественном числе. Надо было писать: «красныЕ флаги», но «красныЯ девицы» или «красныЯ знамена»; ошибка считалась грубой. Значит, прежде чем написать «сени новые, кленовые», нужно было установить, какого рода слово «сени». А ну-ка, попробуйте установите!
Вы об этом не печалитесь, и хорошо. Но ведь это значит, что вы спокойно пользуетесь существительными «никакого рода». Так что же вас удивило, когда я сказал о существовании языков, где родов вовсе нет?
Сейчас языков около трех тысяч. А раньше их было меньше или больше? Их число уменьшается или растет? И сами они остаются неизменными или как-нибудь меняются? Всё это вопросы, на которые должно давать ответы языкознание.
Вы читаете в книге:
Так А. С. Пушкин излагает нам легенду о смерти Олега киевского, излагает великолепным русским языком.
«Князь тихо на череп коня наступил
И молвил: „Спи, друг одинокий!..
Так вот где таилась погибель моя!
Мне смертию кость угрожала!“
Из мертвой главы гробовая змея
Шипя между тем выползала;
Как черная лента, вкруг ног обвилась,
И вскрикнул внезапно ужаленный князь».
А вот другой рассказ о том же легендарном происшествии:
«И приеха Олег на место, идеже бяху лежаще кости его (коня – Л. У.) и лоб гол… и воступи ногою на лоб; выникнучи змея и уклюну и в ногу и с того разболевся умьре».
На каком языке это написано? По-польски, по-чешски? Нет! Перед нами тоже прекрасный и правильный русский язык, но такой, каким пользовались наши предки за семь-восемь веков до Пушкина. Сравните оба повествования, и вам станет ясно, какая изменчивая, непрерывно принимающая новые облики вещь – язык. Язык как река. Волга в наши дни течет не так, как она текла во времена хозар и половцев. Тем не менее это та же Волга. Так и с языком.
Этого мало. Вчитайтесь в два следующих отрывка:
И рядом:
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек,
«Кривая в пространстве определяется заданием радиусов-векторов точек кривой в функции скалярного параметра… Хотя вектор в свою очередь определяется тремя числовыми (скалярными) заданиями, все же замена трех скалярных уравнений одним векторным обычно имеет значительное преимущество».
Можете ли вы положительно утверждать, что оба отрывка написаны на одном и том же языке? И да и нет! И тут и там перед нами современный правильный pycский язык, но в каких двух непохожих друг на друга видах! Можно справедливо усомниться, во всем ли поймут один другого два русских человека, говорящие на этих «разновидных» языках. И все же они-то в конце концов добьются взаимного понимания, тогда как ни француз, ни турок, ни англичанин не уразумеют ни там, ни здесь ни одной фразы.
Язык как море. У одного берега во´ды моря прозрачны и солоны, у другого – опреснены впадающей в него рекой и полны ее мути. И все это в одно и то же время, только в разных точках пространства. Одно и то же море и возле Одессы и под Батуми, только облик его там и здесь совсем разный. То же самое можно сказать и о языке,
Языкознание изучает все виды, все изменения языка. Его интересует все, что связано с удивительной способностью говорить, при помощи звуков передавать другому свои мысли; эта способность во всем мире свойственна только человеку.
Языковеды хотят дознаться, как люди овладели такой способностью, как создали они свои языки, как эти языки живут, изменяются, умирают, каким законам подчинена их жизнь.
Наряду с живыми языками их занимают и языки «мертвые», те, на которых сегодня уже не говорит никто. Мы знаем немало таких. Одни исчезли на памяти людей; о них сохранилась богатая литература, до нас дошли их грамматики и словари, – значит, не позабылся и смысл отдельных слов. Нет только никого, кто бы считал сейчас их своими родными языками. Такова «латынь», язык Древнего Рима; таков древнегреческий язык, таков и древнеиндийский «санскрит». Таков среди близких к нам языков «церковнославянский» или древнеболгарский. Изучение их не так уж сложно.
Но ведь есть и другие – скажем, египетский времен фараонов, вавилонский или хеттский. Еще два века назад никто, ни единый человек в мире, не знал ни единого слова на этих языках. Люди с недоумением и чуть ли не с трепетом взирали на таинственные, никому не понятные надписи на скалах, на стенах древних развалин, на глиняных плитках и полуистлевших папирусах, сделанные тысячи лет назад неведомо кем и неизвестно по каким причинам. Никто не знал, что значат эти странные буквы, звуки какого языка они выражают. Но терпение и остроумие человека не имеют границ. Ученые-языковеды разгадали тайны многих письмен. В наши дни каждый, кто пожелает, может так же спокойно выучиться говорить по-древнеегипетски, по-шуммерски, по-ассирийски или по-хеттски, как и на одном из ныне звучащих «обыкновенных живых» языков.
Благодаря трудам ученых мы знаем о древних Ассирии и Вавилоне, пожалуй, больше и подробнее, чем о многих ныне существующих государствах и народах. Мы можем по именам перечислить тысячи несчастных малолетних рабов, погибших в страшных каменоломнях царя Ашшурбанипала. Мы можем повторить звук за звуком слова их песен, то жалобных, то полных гнева, а ведь они отзвучали в последний раз два или три тысячелетия назад!
И все это дало нам языкознание.
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ НАУКА
Я не знаю, в чьи руки попадет эта книга, чьи пытливые глаза побегут по ее строкам. Но кто бы ни был ты, мой читатель, я хочу, чтобы ты полюбил великолепную науку – языкознание.
Когда юноши и девушки нашей страны кончают среднюю школу, они обыкновенно попадают в положение этаких «витязей на распутье».
Стоит камень, а на камне надпись:
«Кто пойдет налево, попадет в страну географов. Всю жизнь будет он прокладывать пути по неведомым землям. Будет изучать далекие народы. Будет испытывать дивные приключения. Будет с великим трудом пробиваться в местах, куда еще не ступала нога человеческая…» Дрожь охватывает, до чего это прекрасно! Не пойти ли налево?
Но другая надпись сулит: «Пойдешь направо, станешь физиком. Ты проникнешь в тайны атомного ядра и в недра гигантских звезд. Ты будешь решать величайшие загадки Вселенной, помогать и астрономам, и геофизикам, и строителям кораблей, и летчикам. Что может быть пленительнее такой жизни? Иди направо, юный друг!»
А рядом еще приманки. Вот крутая тропа геологии с ее хребтами и скалами, ущельями и безднами. Вот таинственная дорога археологов, извивающаяся в древнем тумане, среди руин и пещер, от стоянок каменного века до развалин южных акрополей. А там, дальше, сады и леса ботаники, заповедники зоологов, тихие лаборатории и грохочущие заводские цехи, колхозные поля. Все это живет, клокочет, кипит, движется. Все привлекает молодые сердца.
И вдруг еще одна незаметная надпись: «По этому пути пойдешь, станешь языковедом…»
«Языковедом? А что он делает? Запереться на всю жизнь в четырех стенах мрачного кабинета, обречь себя на копанье в пыльных хартиях, годами доискиваться, следует ли писать мягкий знак на конце слова „мяч“? Кому это нужно? Нет уж, знаете, спасибо!»
Так думают многие. Думают потому, что не представляют себе, какова работа языковеда, чем, как и для чего занят он.
В накаленной Туркмении, роясь в земле древних парфянских городищ, советские археологи извлекли из праха множество глиняных черепков. На их поверхности были обнаружены намазанные краской черты таинственных знаков. О чем говорят эти письмена? Кто их нанес на глину, когда и зачем?
Черепки – остраконы[2] – были бы обречены на вечное молчание, если бы у нас не было языковедов, занятых изучением восточных древних языков. Они прочитали таинственные надписи. Битые сосуды седой старины заговорили. Они рассказали о многом: о сложном хозяйстве царей Востока, о тучных виноградниках «парфян кичливых», которых Пушкин советовал узнавать «по высоким клобукам», о царских приказчиках, о трудолюбивых земледельцах и о тех отношениях, которые были между ними. Черепки говорили по-арамейски: они оказались бухгалтерскими квитанциями, деловыми расписками; их когда-то выдавали чернобородые важные «марубары», счетоводы царских винниц, в обмен на сданную подать: «По расписке этой, из виноградника податного, который КШШИ называется, сосудов 6, да из местности ХПТК сосуд вина молодого 1, взнос на 140-й год доставлены». И подпись: «Вахуман – марубар». Имя Вахуман означало «благомысленный»…
Две тысячи лет назад «кичливый парфянин» написал свою глиняную, квитанцию… Сияло солнце, кричал осел, пряно пахло новоизготовленным вином из «местности ХПТК», прочесть имя которой мы не можем потому, что в арамейской письменности не обозначались гласные звуки… А читаем мы с вами эти слова сегодня! Эти и множество других; их сумели разобрать и перевести на русский язык советские ученые-языковеды. Они прорубили еще одно окошечко в древний мир, который некогда шумел и пестрел всеми красками жизни тут же у нас, на нынешней территории Советского Союза.
Парфяне жили, так сказать, «рядом с нами». Но вот за тысячи миль от границ СССР, среди буйных волн самого бурного из океанов, точно в насмешку названного Тихим, выдается из воды небольшая скала, таинственный остров Пасхи. Остров этот загадочен от начала до конца. Кто жил на нем и когда? Кем на голом каменном утесе, заброшенном в безлюдные хляби моря, вырублены во множестве из каменной породы, воздвигнуты по побережью и высоко в горах гигантские статуи неведомых великанов? Кто разбросал по острову дощечки из мягкого дерева, на которых начертаны ряды непонятных значков неведомой письменности? Откуда пришли сюда эти безвестные скульпторы и писцы, какая катастрофа их уничтожила, куда они исчезли?
Может быть, мы узнали бы хоть что-нибудь об этом, если бы сумели разгадать тайну деревянных табличек, бережно хранимых теперь во многих музеях мира. Но доныне они настолько не поддавались усилиям ученых, что нельзя было даже начать их расшифровку.
Казалось бы, дело безнадежно. Но вот перед самой Великой Отечественной войной за него смело взялся совсем юный исследователь, почти мальчик, Борис Кудрявцев, только что окончивший среднюю школу. Он недолго занимался знаменитыми таблицами, но успел сделать ряд важных открытий, несколько существенных шагов по дебрям, до него казавшимся непроходимыми. Мы точно знаем теперь, что система письма с острова Пасхи близка к той, которой пользовались египтяне на заре своей культуры. Мы знаем, что перед нами примитивные иероглифы. Это немного, но все же неизмеримо больше того, что было известно еще недавно. Война прервала жизненный путь Бориса Кудрявцева, однако его дело будет продолжено другими молодыми языковедами. Вы не хотите оказаться в их числе?
Разве не прекрасны эти задачи? Разве не увлекательное дело – висеть на шаткой площадке-люльке над пропастью, копируя персидскую клинопись, высеченную на отвесной скале дикого хребта, как это сделал англичанин Раулинсон в XIX веке? Разве не волнующее занятие – подобно нашим советским ученым, миллиметр за миллиметром размачивать и разлеплять склеенные веками свитки, написанные на тохарском языке? Путешествовать сквозь тигриные джунгли, чтобы найти там письмена неведомо когда погибших городов Индии; врубаться с археологами в вечную мерзлоту Алтая, разыскивая древности Скифии; собирать, как знаменитый чешский лингвист Беджих Грозный, письмена хеттов Малой Азии, минойцев Крита, протоиндийцев Мохенджо-Даро и потом иметь право сказать: «Да, я открыл людям три… нет, пять неведомых древних миров!»?
Вот оно, дело языковеда, дело лингвиста! Но ведь оно не только в работе над оживлением прошлого. А сегодня? Сегодня в нашей стране десятки народов впервые овладевают письменностью. В этих случаях дело языковеда не расшифровывать забытые письмена, а помочь составлению новых, совершенных алфавитов.
Во множестве мест земного шара поработители, наоборот, отняли у порабощенных народов всё, что те имели, вплоть до их языка. Дело лингвистов помочь народам в их освободительной борьбе, восстановить и очистить их поруганную родную речь; так поступали столетие назад великие языковеды славянского мира, борясь за чешский, за сербский, за болгарский языки, очищая их от немецкой, турецкой, чуждой, навязанной силой накипи. А неоценимая помощь историкам, которую оказывает языковед? А решение многочисленных, и притом самых важных и самых сложных, вопросов науки о литературе? А изучение устного художественного творчества любого народа земли? А самое главное, самое важное – изучение истории своего родного языка, великого языка великого русского народа, и преподавание его в школах миллионам русских и нерусских по национальности людей?
Нет, поистине языкознание – великолепная наука!
Когда юноши и девушки нашей страны кончают среднюю школу, они обыкновенно попадают в положение этаких «витязей на распутье».
Стоит камень, а на камне надпись:
«Кто пойдет налево, попадет в страну географов. Всю жизнь будет он прокладывать пути по неведомым землям. Будет изучать далекие народы. Будет испытывать дивные приключения. Будет с великим трудом пробиваться в местах, куда еще не ступала нога человеческая…» Дрожь охватывает, до чего это прекрасно! Не пойти ли налево?
Но другая надпись сулит: «Пойдешь направо, станешь физиком. Ты проникнешь в тайны атомного ядра и в недра гигантских звезд. Ты будешь решать величайшие загадки Вселенной, помогать и астрономам, и геофизикам, и строителям кораблей, и летчикам. Что может быть пленительнее такой жизни? Иди направо, юный друг!»
А рядом еще приманки. Вот крутая тропа геологии с ее хребтами и скалами, ущельями и безднами. Вот таинственная дорога археологов, извивающаяся в древнем тумане, среди руин и пещер, от стоянок каменного века до развалин южных акрополей. А там, дальше, сады и леса ботаники, заповедники зоологов, тихие лаборатории и грохочущие заводские цехи, колхозные поля. Все это живет, клокочет, кипит, движется. Все привлекает молодые сердца.
И вдруг еще одна незаметная надпись: «По этому пути пойдешь, станешь языковедом…»
«Языковедом? А что он делает? Запереться на всю жизнь в четырех стенах мрачного кабинета, обречь себя на копанье в пыльных хартиях, годами доискиваться, следует ли писать мягкий знак на конце слова „мяч“? Кому это нужно? Нет уж, знаете, спасибо!»
Так думают многие. Думают потому, что не представляют себе, какова работа языковеда, чем, как и для чего занят он.
В накаленной Туркмении, роясь в земле древних парфянских городищ, советские археологи извлекли из праха множество глиняных черепков. На их поверхности были обнаружены намазанные краской черты таинственных знаков. О чем говорят эти письмена? Кто их нанес на глину, когда и зачем?
Черепки – остраконы[2] – были бы обречены на вечное молчание, если бы у нас не было языковедов, занятых изучением восточных древних языков. Они прочитали таинственные надписи. Битые сосуды седой старины заговорили. Они рассказали о многом: о сложном хозяйстве царей Востока, о тучных виноградниках «парфян кичливых», которых Пушкин советовал узнавать «по высоким клобукам», о царских приказчиках, о трудолюбивых земледельцах и о тех отношениях, которые были между ними. Черепки говорили по-арамейски: они оказались бухгалтерскими квитанциями, деловыми расписками; их когда-то выдавали чернобородые важные «марубары», счетоводы царских винниц, в обмен на сданную подать: «По расписке этой, из виноградника податного, который КШШИ называется, сосудов 6, да из местности ХПТК сосуд вина молодого 1, взнос на 140-й год доставлены». И подпись: «Вахуман – марубар». Имя Вахуман означало «благомысленный»…
Две тысячи лет назад «кичливый парфянин» написал свою глиняную, квитанцию… Сияло солнце, кричал осел, пряно пахло новоизготовленным вином из «местности ХПТК», прочесть имя которой мы не можем потому, что в арамейской письменности не обозначались гласные звуки… А читаем мы с вами эти слова сегодня! Эти и множество других; их сумели разобрать и перевести на русский язык советские ученые-языковеды. Они прорубили еще одно окошечко в древний мир, который некогда шумел и пестрел всеми красками жизни тут же у нас, на нынешней территории Советского Союза.
Парфяне жили, так сказать, «рядом с нами». Но вот за тысячи миль от границ СССР, среди буйных волн самого бурного из океанов, точно в насмешку названного Тихим, выдается из воды небольшая скала, таинственный остров Пасхи. Остров этот загадочен от начала до конца. Кто жил на нем и когда? Кем на голом каменном утесе, заброшенном в безлюдные хляби моря, вырублены во множестве из каменной породы, воздвигнуты по побережью и высоко в горах гигантские статуи неведомых великанов? Кто разбросал по острову дощечки из мягкого дерева, на которых начертаны ряды непонятных значков неведомой письменности? Откуда пришли сюда эти безвестные скульпторы и писцы, какая катастрофа их уничтожила, куда они исчезли?
Может быть, мы узнали бы хоть что-нибудь об этом, если бы сумели разгадать тайну деревянных табличек, бережно хранимых теперь во многих музеях мира. Но доныне они настолько не поддавались усилиям ученых, что нельзя было даже начать их расшифровку.
Казалось бы, дело безнадежно. Но вот перед самой Великой Отечественной войной за него смело взялся совсем юный исследователь, почти мальчик, Борис Кудрявцев, только что окончивший среднюю школу. Он недолго занимался знаменитыми таблицами, но успел сделать ряд важных открытий, несколько существенных шагов по дебрям, до него казавшимся непроходимыми. Мы точно знаем теперь, что система письма с острова Пасхи близка к той, которой пользовались египтяне на заре своей культуры. Мы знаем, что перед нами примитивные иероглифы. Это немного, но все же неизмеримо больше того, что было известно еще недавно. Война прервала жизненный путь Бориса Кудрявцева, однако его дело будет продолжено другими молодыми языковедами. Вы не хотите оказаться в их числе?
Разве не прекрасны эти задачи? Разве не увлекательное дело – висеть на шаткой площадке-люльке над пропастью, копируя персидскую клинопись, высеченную на отвесной скале дикого хребта, как это сделал англичанин Раулинсон в XIX веке? Разве не волнующее занятие – подобно нашим советским ученым, миллиметр за миллиметром размачивать и разлеплять склеенные веками свитки, написанные на тохарском языке? Путешествовать сквозь тигриные джунгли, чтобы найти там письмена неведомо когда погибших городов Индии; врубаться с археологами в вечную мерзлоту Алтая, разыскивая древности Скифии; собирать, как знаменитый чешский лингвист Беджих Грозный, письмена хеттов Малой Азии, минойцев Крита, протоиндийцев Мохенджо-Даро и потом иметь право сказать: «Да, я открыл людям три… нет, пять неведомых древних миров!»?
Вот оно, дело языковеда, дело лингвиста! Но ведь оно не только в работе над оживлением прошлого. А сегодня? Сегодня в нашей стране десятки народов впервые овладевают письменностью. В этих случаях дело языковеда не расшифровывать забытые письмена, а помочь составлению новых, совершенных алфавитов.
Во множестве мест земного шара поработители, наоборот, отняли у порабощенных народов всё, что те имели, вплоть до их языка. Дело лингвистов помочь народам в их освободительной борьбе, восстановить и очистить их поруганную родную речь; так поступали столетие назад великие языковеды славянского мира, борясь за чешский, за сербский, за болгарский языки, очищая их от немецкой, турецкой, чуждой, навязанной силой накипи. А неоценимая помощь историкам, которую оказывает языковед? А решение многочисленных, и притом самых важных и самых сложных, вопросов науки о литературе? А изучение устного художественного творчества любого народа земли? А самое главное, самое важное – изучение истории своего родного языка, великого языка великого русского народа, и преподавание его в школах миллионам русских и нерусских по национальности людей?
Нет, поистине языкознание – великолепная наука!
ЭТА КНИГА
Книга, которую вы раскрыли, написана не для того, чтобы стать учебником языкознания. Пусть эту задачу с честью и успехом выполняют толстые томы ученых исследований, университетские курсы лекций, глубокие и серьезные научные статьи.
Назначение этой книги иное. Я хотел бы, чтобы ей удалось слегка приподнять ту завесу, которая скрывает от посторонних глаз накопленные веками сокровища языковедческих наук; хорошо, если хоть на миг они засверкают перед нами.
Я не пытался в «Слове о словах» последовательно, один за другим, излагать важнейшие вопросы филологии. Не рассчитывал и полностью осветить ни один из ее разделов. Передо мной стояла иная цель: рассказать не все, а кое-что из того, что люди знают о языке, может быть, даже не самое существенное, не самое важное; но зато наиболее доступное пониманию и вместе с тем способное возбудить интерес.
Мне хотелось не научить языкознанию, а лишь покрепче заинтересовать им тех, кто знает о нем совсем мало. Если из десяти читателей, думал я, только один, закрыв эту книжку, потянется за другой, более основательной и глубокой, моя цель будет достигнута. Она будет достигнута и тогда, когда, закончив чтение, человек задумается и попробует по-новому отнестись и к языку, на котором он сам говорит, и к тому, что он когда-то прочел об этом языке в своих школьных учебниках.
«Введение» мое закончено. Пусть теперь книга говорит о себе сама. Двадцать лет назад я писал ее для школьников. Ее прочитали тысячи взрослых людей, молодых и пожилых, в городе и в деревне. К своему большому удивлению, я получил от них десятки тысяч писем. Они показали мне, что интерес к тайнам и чудесам языка необыкновенно велик.
Пришлось подумать о том, чтобы выпустить «Слово» не только для школьников: нужно оно и тому, кто уже поднялся со школьной скамьи.
С тех пор уже несколько раз выходили новые издания этой книги. Я старался расширять и пополнять каждое из них. Если это в какой-то мере удалось, то только благодаря вниманию и помощи тех моих друзей-языковедов, имена которых я всякий раз называю с большой благодарностью: С. Г. Бархударова, Р. А. Будагова, Б. А. Ларина, А. А. Реформатского и многих других. Вслед за ними мне следовало бы упомянуть десятки и десятки других фамилий: множество читателей, одни письменно, другие устно, делились со мной своими впечатлениями от моего «Слова», замечаниями и советами на будущее. Но именно потому, что таких доброжелателей у моей книги слишком много, я прошу их всех принять самую искреннюю мою признательность: где только можно, я старался исполнить их пожелания и последовать советам; всегда это было на пользу книге.
Назначение этой книги иное. Я хотел бы, чтобы ей удалось слегка приподнять ту завесу, которая скрывает от посторонних глаз накопленные веками сокровища языковедческих наук; хорошо, если хоть на миг они засверкают перед нами.
Я не пытался в «Слове о словах» последовательно, один за другим, излагать важнейшие вопросы филологии. Не рассчитывал и полностью осветить ни один из ее разделов. Передо мной стояла иная цель: рассказать не все, а кое-что из того, что люди знают о языке, может быть, даже не самое существенное, не самое важное; но зато наиболее доступное пониманию и вместе с тем способное возбудить интерес.
Мне хотелось не научить языкознанию, а лишь покрепче заинтересовать им тех, кто знает о нем совсем мало. Если из десяти читателей, думал я, только один, закрыв эту книжку, потянется за другой, более основательной и глубокой, моя цель будет достигнута. Она будет достигнута и тогда, когда, закончив чтение, человек задумается и попробует по-новому отнестись и к языку, на котором он сам говорит, и к тому, что он когда-то прочел об этом языке в своих школьных учебниках.
«Введение» мое закончено. Пусть теперь книга говорит о себе сама. Двадцать лет назад я писал ее для школьников. Ее прочитали тысячи взрослых людей, молодых и пожилых, в городе и в деревне. К своему большому удивлению, я получил от них десятки тысяч писем. Они показали мне, что интерес к тайнам и чудесам языка необыкновенно велик.
Пришлось подумать о том, чтобы выпустить «Слово» не только для школьников: нужно оно и тому, кто уже поднялся со школьной скамьи.
С тех пор уже несколько раз выходили новые издания этой книги. Я старался расширять и пополнять каждое из них. Если это в какой-то мере удалось, то только благодаря вниманию и помощи тех моих друзей-языковедов, имена которых я всякий раз называю с большой благодарностью: С. Г. Бархударова, Р. А. Будагова, Б. А. Ларина, А. А. Реформатского и многих других. Вслед за ними мне следовало бы упомянуть десятки и десятки других фамилий: множество читателей, одни письменно, другие устно, делились со мной своими впечатлениями от моего «Слова», замечаниями и советами на будущее. Но именно потому, что таких доброжелателей у моей книги слишком много, я прошу их всех принять самую искреннюю мою признательность: где только можно, я старался исполнить их пожелания и последовать советам; всегда это было на пользу книге.
Глава 1. СЛОВО И МЫСЛЬ
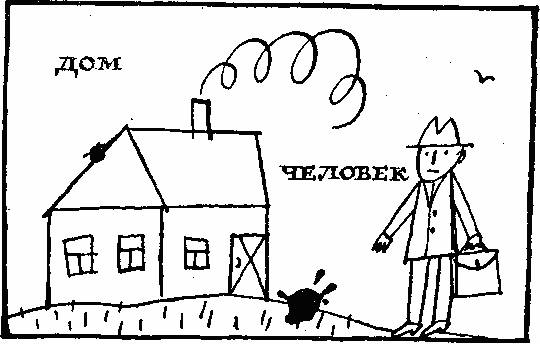
«ВЕЧЕРНИЙ ГОСТЬ»
Это случилось лет шестьдесят назад. В номере какого-то журнала мне попался рассказ Куприна. Назывался он «Вечерний гость».
Насколько я помню, рассказ не произвел на меня большого впечатления; теперь я даже не скажу вам точно, о чем там говорилось. Но одна маленькая сценка из него навсегда врезалась мне в память, хотя в те дни мне было еще очень немного лет – десять или двенадцать, не более. Что меня в ней поразило?
В комнате сидит человек, а со двора к нему кто-то идет, какой-то «вечерний гость».
Прочитав тогда эти строки, я остановился в смущении. Сначала мне показалось, что автор смеется надо мной: что же нашел он удивительного в таком действительно обыкновенном явлении – в разговоре двух людей? Разговаривают все. Я сам, как и окружающие, каждый день разговаривал с другими людьми и дома, и в школе, и на улице, и в вагонах трамвая – везде. Разговаривали – по-русски, по-немецки, по-французски, по-фински или по-татарски – тысячи людей вокруг меня. И ни разу это не показалось мне ни странным, ни удивительным.
А теперь? А теперь я глубоко задумался. Действительно: как же это так?
Вот я сижу и думаю. Сколько бы я ни думал, никто, ни один человек на свете, не может узнать моих мыслей: они мои!
Но я открыл рот. Я начал «издавать», как написано в рассказе, «звуки разной высоты и силы». И вдруг все, кто меня окружает, как бы получили возможность проникнуть «внутрь меня». Теперь они уже знают мои мысли: ясно, они узнали их при помощи слов, через посредство языка. Да, но как это случилось?
Поразмыслите немного над этим вопросом, и вы убедитесь, что ответить на него совсем не легко.
Каждое слово состоят из звуков. В отдельности ни один из них ровно ничего не значит: «ы» – это «ы», звук – и ничего более; «р» обозначает «р»; «м» – звук «м».
Но почему же тогда, если два из этих звуков я произнесу подряд, вот так: «мы», – вы поймете, что я говорю «про нас»? А вздумай я произнести их наоборот: «ым», или поставить рядом другие звуки «ры», «ыр» – вы ничего бы не поняли.
Вспомните детскую игру – кубики. Пока кубики разрознены, на них видны лишь какие-то пятна. Но сто´ит их приложить друг к другу в определенном порядке, и перед вами выступит целая картина: красивый пейзаж, зверек, букет цветов или еще что-либо.
Может быть, в отдельных звуках тоже скрыты какие-то частицы, обрывки значения, которые просто незаметны, пока они разрознены? Если так, то необходимо эти таинственные частицы найти, и загадка наша решится очень просто.
Будь такое предположение правильным, достаточно было бы известным звукам придать определенный порядок, и получилось бы слово, понятное всем людям без исключения. Ведь кто бы ни смотрел на картину, сложенную из кубиков, он увидит на ней то же, что и любой из его соседей. Не менее и не более. Применимо ли это к звукам?
Однажды Тиль Уленшпигель, герой фламандского народа, – рассказывает в своей знаменитой книге бельгийский писатель де Костер, – «пришел в ярость и бросился бежать, точно олень, по переулку с криком: «Т'брандт! Т'брандт!»
Сбежалась толпа и… тоже закричала: «Т'брандт! Т'брандт!» Сторож на соборной колокольне затрубил в рог, а звонарь изо всех сил бил в набат. Вся детвора, мальчишки и девчонки, сбегались толпами со свистом и криком. Гудели колокола, гудела труба…»
По-видимому, для Костера несомненно: возглас «Т'брандт!» обязательно должен вызвать у людей самые бурные чувства.
Но представьте себе, что´ случилось бы, если бы по улицам того города или деревни, где живете вы, побежал человек, крича: «Т'брандт! Т'брандт!» Пожалуй, ничего особенного!
Конечно, за чудаком пустилось бы несколько любопытных мальчишек. Может быть, милиционер поинтересовался бы: не сошел ли гражданин с ума? Но, ясно, никого не охватил бы ужас, никому не пришло бы в голову бить в набат, трубить в рог и поднимать тревогу.
В чем же тут дело? Почему те звуки, которые довели сограждан Уленшпигеля до паники, ваших соседей оставляют совершенно равнодушными?
Дело просто. Подумайте, что´ произошло бы, если бы бегущий по вашей улице человек вдруг закричал не «т'брандт, т'брандт!», а «пожар»? Тогда уж в вашем городе возникло бы волнение. А вздумай веселый Тиль закричать «пожар!» у себя на родине, никакого переполоха ему устроить не удалось бы. Слово «т'брандт» означает «пожар» по-фламандски; русское слово «пожар» равно фламандскому «т'брандт». Только и всего!
Я сказал: «только и всего». Но, по правде говоря, здесь как раз и начинается великая странность.
Пять звуков: «б», «р», «а», «н», «дт», если они поставлены в определенном порядке, заставляют спокойного фламандца побледнеть от испуга. Они кажутся ему зловещими, тревожными. Состоящее из них слово вызывает в нем стремление спешить на помощь, тушить пламя, спасать погибающих. Может быть, действительно что-то есть в них связанное с бушующим огнем?
Но почему же тогда для нас они остаются простым сочетанием из пяти ничем не примечательных звуков, которое не означает ровно ничего? Почему пять других обыкновеннейших звуков – «п», «о», «ж», «а», «р» – способны вызвать волнение в каждом русском человеке.
Это крайне странно, если вдуматься. От звуков, входящих в слово «пожар», не веет гарью, не пахнет дымом… Сто´ит чуть-чуть изменить их порядок, сказать: «жорап» или «парож» – и их замечательное свойство что-то «говорить» исчезнет без следа. Это во-первых.
С другой стороны, если в слове «пожар» все-таки есть что-то, что может напомнить человеку о пламени, огне, страхе, несчастье, то почему это доступно только русскому слуху? Почему остаются совершенно равнодушными к нему люди других наций? Почему фламандец видит то же самое в своем отнюдь не похожем на «пожар» слове «брандт».
Да дело не только в этом «брандт».
Ведь, увидев горящий дом, турок скажет «янги´н», англичанин – «фа´йэ», француз – «энсанди´», финн – «ту´липалё», японец – «ка´дзи», китаец – «шихо», кореец – «хваде», а сенегалец «лаккаги». Между этими звукосочетаниями нет ровно ничего общего. Совершенно непонятно, как пять или десять ничуть друг на друга не похожих вещей могут все напомнить собою одиннадцатую вещь, да притом не похожую ни на которую из них порознь.
Насколько я помню, рассказ не произвел на меня большого впечатления; теперь я даже не скажу вам точно, о чем там говорилось. Но одна маленькая сценка из него навсегда врезалась мне в память, хотя в те дни мне было еще очень немного лет – десять или двенадцать, не более. Что меня в ней поразило?
В комнате сидит человек, а со двора к нему кто-то идет, какой-то «вечерний гость».
«.. Вот скрипнула калитка… Вот прозвучали шаги под окнами… Я слышу, как он открывает дверь, – пишет Куприн. – Сейчас он войдет, и между нами произойдет самая обыкновенная и самая непонятная вещь в мире: мы начнем разговаривать. Гость, издавая звуки разной высоты и силы, будет выражать свои мысли, а я буду слушать эти звуковые колебания воздуха и разгадывать, что они значат… и его мысли станут моими мыслями… О, как таинственны, как странны, как непонятны для нас самые простые жизненные явления!»[3]
Прочитав тогда эти строки, я остановился в смущении. Сначала мне показалось, что автор смеется надо мной: что же нашел он удивительного в таком действительно обыкновенном явлении – в разговоре двух людей? Разговаривают все. Я сам, как и окружающие, каждый день разговаривал с другими людьми и дома, и в школе, и на улице, и в вагонах трамвая – везде. Разговаривали – по-русски, по-немецки, по-французски, по-фински или по-татарски – тысячи людей вокруг меня. И ни разу это не показалось мне ни странным, ни удивительным.
А теперь? А теперь я глубоко задумался. Действительно: как же это так?
Вот я сижу и думаю. Сколько бы я ни думал, никто, ни один человек на свете, не может узнать моих мыслей: они мои!
Но я открыл рот. Я начал «издавать», как написано в рассказе, «звуки разной высоты и силы». И вдруг все, кто меня окружает, как бы получили возможность проникнуть «внутрь меня». Теперь они уже знают мои мысли: ясно, они узнали их при помощи слов, через посредство языка. Да, но как это случилось?
Поразмыслите немного над этим вопросом, и вы убедитесь, что ответить на него совсем не легко.
Каждое слово состоят из звуков. В отдельности ни один из них ровно ничего не значит: «ы» – это «ы», звук – и ничего более; «р» обозначает «р»; «м» – звук «м».
Но почему же тогда, если два из этих звуков я произнесу подряд, вот так: «мы», – вы поймете, что я говорю «про нас»? А вздумай я произнести их наоборот: «ым», или поставить рядом другие звуки «ры», «ыр» – вы ничего бы не поняли.
Вспомните детскую игру – кубики. Пока кубики разрознены, на них видны лишь какие-то пятна. Но сто´ит их приложить друг к другу в определенном порядке, и перед вами выступит целая картина: красивый пейзаж, зверек, букет цветов или еще что-либо.
Может быть, в отдельных звуках тоже скрыты какие-то частицы, обрывки значения, которые просто незаметны, пока они разрознены? Если так, то необходимо эти таинственные частицы найти, и загадка наша решится очень просто.
Будь такое предположение правильным, достаточно было бы известным звукам придать определенный порядок, и получилось бы слово, понятное всем людям без исключения. Ведь кто бы ни смотрел на картину, сложенную из кубиков, он увидит на ней то же, что и любой из его соседей. Не менее и не более. Применимо ли это к звукам?
Однажды Тиль Уленшпигель, герой фламандского народа, – рассказывает в своей знаменитой книге бельгийский писатель де Костер, – «пришел в ярость и бросился бежать, точно олень, по переулку с криком: «Т'брандт! Т'брандт!»
Сбежалась толпа и… тоже закричала: «Т'брандт! Т'брандт!» Сторож на соборной колокольне затрубил в рог, а звонарь изо всех сил бил в набат. Вся детвора, мальчишки и девчонки, сбегались толпами со свистом и криком. Гудели колокола, гудела труба…»
По-видимому, для Костера несомненно: возглас «Т'брандт!» обязательно должен вызвать у людей самые бурные чувства.
Но представьте себе, что´ случилось бы, если бы по улицам того города или деревни, где живете вы, побежал человек, крича: «Т'брандт! Т'брандт!» Пожалуй, ничего особенного!
Конечно, за чудаком пустилось бы несколько любопытных мальчишек. Может быть, милиционер поинтересовался бы: не сошел ли гражданин с ума? Но, ясно, никого не охватил бы ужас, никому не пришло бы в голову бить в набат, трубить в рог и поднимать тревогу.
В чем же тут дело? Почему те звуки, которые довели сограждан Уленшпигеля до паники, ваших соседей оставляют совершенно равнодушными?
Дело просто. Подумайте, что´ произошло бы, если бы бегущий по вашей улице человек вдруг закричал не «т'брандт, т'брандт!», а «пожар»? Тогда уж в вашем городе возникло бы волнение. А вздумай веселый Тиль закричать «пожар!» у себя на родине, никакого переполоха ему устроить не удалось бы. Слово «т'брандт» означает «пожар» по-фламандски; русское слово «пожар» равно фламандскому «т'брандт». Только и всего!
Я сказал: «только и всего». Но, по правде говоря, здесь как раз и начинается великая странность.
Пять звуков: «б», «р», «а», «н», «дт», если они поставлены в определенном порядке, заставляют спокойного фламандца побледнеть от испуга. Они кажутся ему зловещими, тревожными. Состоящее из них слово вызывает в нем стремление спешить на помощь, тушить пламя, спасать погибающих. Может быть, действительно что-то есть в них связанное с бушующим огнем?
Но почему же тогда для нас они остаются простым сочетанием из пяти ничем не примечательных звуков, которое не означает ровно ничего? Почему пять других обыкновеннейших звуков – «п», «о», «ж», «а», «р» – способны вызвать волнение в каждом русском человеке.
Это крайне странно, если вдуматься. От звуков, входящих в слово «пожар», не веет гарью, не пахнет дымом… Сто´ит чуть-чуть изменить их порядок, сказать: «жорап» или «парож» – и их замечательное свойство что-то «говорить» исчезнет без следа. Это во-первых.
С другой стороны, если в слове «пожар» все-таки есть что-то, что может напомнить человеку о пламени, огне, страхе, несчастье, то почему это доступно только русскому слуху? Почему остаются совершенно равнодушными к нему люди других наций? Почему фламандец видит то же самое в своем отнюдь не похожем на «пожар» слове «брандт».
Да дело не только в этом «брандт».
Ведь, увидев горящий дом, турок скажет «янги´н», англичанин – «фа´йэ», француз – «энсанди´», финн – «ту´липалё», японец – «ка´дзи», китаец – «шихо», кореец – «хваде», а сенегалец «лаккаги». Между этими звукосочетаниями нет ровно ничего общего. Совершенно непонятно, как пять или десять ничуть друг на друга не похожих вещей могут все напомнить собою одиннадцатую вещь, да притом не похожую ни на которую из них порознь.
