Страница:
– Хобби – для тех, кого не устраивает их работа. Меня моя работа устраивает. Если я люблю женщин и путешествия, это нельзя считать хобби, верно? наверное, я просто люблю жизнь.
– У Вас бывали творческие кризисы?
– Постоянно: я не успеваю отрабатывать и половины замыслов, которые постоянно возникают.
– Вам знаком пресловутый страх перед чистым листом бумаги?
– Бред. Всегда рад его испачкать. Я люблю писать. Не понимаю тех, кто «за уши тащит себя работать». Не хочешь – так и не пиши. Мне всегда приходится за уши оттаскивать себя от работы – чтоб восстановить до завтра силы работать дальше.
– В Вашей бурной биографии, очевидно, Вы почерпнули много сюжетов, идей, случаев; какие наиболее характерно отразились в Вашем творчестве?
– Пустое… Если меня мотало по свету, по разным работам, – это просто жажда жизни. Старая истина: приключения, любовь, творчество – это одна и та же жажда, просто утоляемая разными напитками.
Я никогда не ездил «за материалом», «за сюжетами». Жил, зарабатывал на жизнь, познавал что-то новое. Метод «приехал – увидел – спел» не заслуживает серьезного разговора: я не уважаю импотентов от творчества, чьи мозги неспособны выдать замысел.
Произведение рождается из диалога ума и сердца. Писатель – это блуждающая фаза, обнаженный высоковольтный провод: достаточно малейшего контакта с чем угодно – и вспыхивает дуга. Есть напряжение – годится и щепка, нет его – не поможет и железная гора, один пшик выйдет. А внешние события могут послужить лишь толчком – но никогда не основой той коллизии идей и чувств, которая есть суть произведения. Кроме того, при физической работе в тяжелых условиях интеллект как бы закукливается, притупляется чувствительность, размышления уходят, уступая место действиям.
Вот когда идея, внутреннее построение вещи родились – то ищешь адекватный материал для воплощения идеи в форме. Тут опыт помогает: среди знакомых реалий и находишь землю обетованную, которая становится родиной для твоего произведения.
– Ваши творческие планы?
– Завидую Шекспиру: писал в лучшие свои годы, а после умер на покое достойным частным лицом… Работать надо.
– Традиционный вопрос: почему Вы пишете?
– Это моя форма существования. В этом я нахожу максимальное применение всем силам ума и души. Знаниям. Желаниям. Это удовлетворяет мое честолюбие, в этом я самоутверждаюсь. К этому я, видно, наиболее пригоден. И еще это мне здорово нравится.
– Над чем Вы сейчас работаете?
– Никогда не спрашивайте о трех интимных вещах: с кем он спит, на какие деньги живет и что пишет. Если кто болтает об этом сам – дело его. (Чье-то ржание в зале.)
– А как Вы сами оцениваете свое творчество?
– Это один из тех вопросов, на которые не существует верного ответа.
– Критики находят у Вас много недостатков; как Вы к этому относитесь?
– Есть старая цыганская пословица: «Удаль карлика в том, чтобы высоко плюнуть».
4. Оценка
5. Кумир
6. Свой парень
7. Милый-дорогой
8. Гамбургский счет
Положение во гроб
– У Вас бывали творческие кризисы?
– Постоянно: я не успеваю отрабатывать и половины замыслов, которые постоянно возникают.
– Вам знаком пресловутый страх перед чистым листом бумаги?
– Бред. Всегда рад его испачкать. Я люблю писать. Не понимаю тех, кто «за уши тащит себя работать». Не хочешь – так и не пиши. Мне всегда приходится за уши оттаскивать себя от работы – чтоб восстановить до завтра силы работать дальше.
– В Вашей бурной биографии, очевидно, Вы почерпнули много сюжетов, идей, случаев; какие наиболее характерно отразились в Вашем творчестве?
– Пустое… Если меня мотало по свету, по разным работам, – это просто жажда жизни. Старая истина: приключения, любовь, творчество – это одна и та же жажда, просто утоляемая разными напитками.
Я никогда не ездил «за материалом», «за сюжетами». Жил, зарабатывал на жизнь, познавал что-то новое. Метод «приехал – увидел – спел» не заслуживает серьезного разговора: я не уважаю импотентов от творчества, чьи мозги неспособны выдать замысел.
Произведение рождается из диалога ума и сердца. Писатель – это блуждающая фаза, обнаженный высоковольтный провод: достаточно малейшего контакта с чем угодно – и вспыхивает дуга. Есть напряжение – годится и щепка, нет его – не поможет и железная гора, один пшик выйдет. А внешние события могут послужить лишь толчком – но никогда не основой той коллизии идей и чувств, которая есть суть произведения. Кроме того, при физической работе в тяжелых условиях интеллект как бы закукливается, притупляется чувствительность, размышления уходят, уступая место действиям.
Вот когда идея, внутреннее построение вещи родились – то ищешь адекватный материал для воплощения идеи в форме. Тут опыт помогает: среди знакомых реалий и находишь землю обетованную, которая становится родиной для твоего произведения.
– Ваши творческие планы?
– Завидую Шекспиру: писал в лучшие свои годы, а после умер на покое достойным частным лицом… Работать надо.
– Традиционный вопрос: почему Вы пишете?
– Это моя форма существования. В этом я нахожу максимальное применение всем силам ума и души. Знаниям. Желаниям. Это удовлетворяет мое честолюбие, в этом я самоутверждаюсь. К этому я, видно, наиболее пригоден. И еще это мне здорово нравится.
– Над чем Вы сейчас работаете?
– Никогда не спрашивайте о трех интимных вещах: с кем он спит, на какие деньги живет и что пишет. Если кто болтает об этом сам – дело его. (Чье-то ржание в зале.)
– А как Вы сами оцениваете свое творчество?
– Это один из тех вопросов, на которые не существует верного ответа.
– Критики находят у Вас много недостатков; как Вы к этому относитесь?
– Есть старая цыганская пословица: «Удаль карлика в том, чтобы высоко плюнуть».
4. Оценка
Гудение в кулуарах: дым сигарет, решение вопросов, бар, приветствия, мелькание лиц.
– Видал я высокомерность, но такую…
– Какова самоуверенность! Пророк Господен!
– Для самоуверенности есть другое имя – знание.
– Он в эстетике дикарь! Важно нам вещал букварь.
– Ну, критики дикари точно такие же; тот же уровень…
– Знаем мы это проведение кампании по добыванию Премии… этот у самого черта рога вытянет: умеет обделывать дела.
– …нет ничего в его книгах, по совести-то говоря.
– Просто ловкий шарлатан. Он же смеется над всеми!..
– Венчайте индюка королем – и получите портрет этого парня.
– И умрет он не от скромности.
– А кто от нее умирал?
– Э, сегодня у него День головокружения от успехов; пусть потешится.
– Да он всегда такой – нагл, как фараон.
– Не-е, когда-то он держался таким скромнягой. Тихоня ползучий, где – тихой сапой, а теперь – так просто танком прет. Вовремя его придавить надо было. Хитрюга поганый.
– Я помню, как он втирался к сильным мира сего. Без мыла! Виртуоз! Под-донок…
– Чего ты пыхтишь – он что, чье-то съел? И правильно делал. Теперь он – герой на белом коне, а мы – шавки.
– Меня попрошу с обществом не смешивать.
– Есть какие-то рамки приличий, нет? Одно самолюбование!..
– А, все писатели мнят себя гениями, так этот хоть не лицемерит. От собратьев он отличается лишь честностью. Дает заглянуть в их душу, открывает ее без прикрас и кулис: смотри, знай! В чем его обвинять – в откровенности?
– Знакомство-то полезно, да самообнажение неприлично…
– Привет ханжам и конформистам!
– Интересно, какую жену он благодарил: первую, вторую или третью?
– «Соблазнитель», видите ли… Он основательно предавался изучению описываемого предмета, говорят…
– Ему хорошо… Когда он писал все это – нищета, видите ли! – семью-то кормить не надо было…
– Вот в этом ему можно позавидовать.
– Но что удивительно: умудрился связать воедино все давно известные вещи и создать впрямь новую Библию. Которую читают – все! И черт знает какая мудрость в ней; душу он за нее продал, что ли?..
– Удачлив, сволочь. Только и всего. Где другие всю жизнь пахали – он пришел, копнул в сторонке, и пожалуйста. Дуракам всегда везет.
– Широкий успех – признак банальности общедоступной книги.
– Все понимаю – но почему он? Есть же действительно хорошие, настоящие писатели…
– М-да, не талантом входят в литературу, а пробивной силой…
– А куда входят не пробивной силой?
– А я вот никогда не умел идти по головам! И не хотел!
– Ну так и молчи теперь, чего ты дергаешься.
– Но как он многословен! Покрасовался, болтун. Самоучка.
– Так он ведь к самоучкам и обращался.
– Слишком заумно все это для газеты и читателей.
– Отредактируешь, адаптируешь, причешешь: а ты на что.
– Видал я высокомерность, но такую…
– Какова самоуверенность! Пророк Господен!
– Для самоуверенности есть другое имя – знание.
– Он в эстетике дикарь! Важно нам вещал букварь.
– Ну, критики дикари точно такие же; тот же уровень…
– Знаем мы это проведение кампании по добыванию Премии… этот у самого черта рога вытянет: умеет обделывать дела.
– …нет ничего в его книгах, по совести-то говоря.
– Просто ловкий шарлатан. Он же смеется над всеми!..
– Венчайте индюка королем – и получите портрет этого парня.
– И умрет он не от скромности.
– А кто от нее умирал?
– Э, сегодня у него День головокружения от успехов; пусть потешится.
– Да он всегда такой – нагл, как фараон.
– Не-е, когда-то он держался таким скромнягой. Тихоня ползучий, где – тихой сапой, а теперь – так просто танком прет. Вовремя его придавить надо было. Хитрюга поганый.
– Я помню, как он втирался к сильным мира сего. Без мыла! Виртуоз! Под-донок…
– Чего ты пыхтишь – он что, чье-то съел? И правильно делал. Теперь он – герой на белом коне, а мы – шавки.
– Меня попрошу с обществом не смешивать.
– Есть какие-то рамки приличий, нет? Одно самолюбование!..
– А, все писатели мнят себя гениями, так этот хоть не лицемерит. От собратьев он отличается лишь честностью. Дает заглянуть в их душу, открывает ее без прикрас и кулис: смотри, знай! В чем его обвинять – в откровенности?
– Знакомство-то полезно, да самообнажение неприлично…
– Привет ханжам и конформистам!
– Интересно, какую жену он благодарил: первую, вторую или третью?
– «Соблазнитель», видите ли… Он основательно предавался изучению описываемого предмета, говорят…
– Ему хорошо… Когда он писал все это – нищета, видите ли! – семью-то кормить не надо было…
– Вот в этом ему можно позавидовать.
– Но что удивительно: умудрился связать воедино все давно известные вещи и создать впрямь новую Библию. Которую читают – все! И черт знает какая мудрость в ней; душу он за нее продал, что ли?..
– Удачлив, сволочь. Только и всего. Где другие всю жизнь пахали – он пришел, копнул в сторонке, и пожалуйста. Дуракам всегда везет.
– Широкий успех – признак банальности общедоступной книги.
– Все понимаю – но почему он? Есть же действительно хорошие, настоящие писатели…
– М-да, не талантом входят в литературу, а пробивной силой…
– А куда входят не пробивной силой?
– А я вот никогда не умел идти по головам! И не хотел!
– Ну так и молчи теперь, чего ты дергаешься.
– Но как он многословен! Покрасовался, болтун. Самоучка.
– Так он ведь к самоучкам и обращался.
– Слишком заумно все это для газеты и читателей.
– Отредактируешь, адаптируешь, причешешь: а ты на что.
5. Кумир
Толпа у входа. Бездельники в жизни – возбуждены страстью престижного зрелища: молодежь, взвинченные женщины, дамы старой полубогемы, пестро и буйновато.
– Как жить?
– Ходить по путям сердца своего: счастливо.
– А что такое счастье?
– Жить в полную силу своей души. Ничего не боясь.
– А Вы чего-нибудь боитесь?
– Нет. Мудрый человек может лишь чего-то хотеть, а чего-то не хотеть.
– Ваш главный жизненный принцип?
– Лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и сожалеть.
– Каким должен быть идеал человека?
– Идеал человека – ангел… Наверное – нормальный здоровый человек, уверенный в себе, который хорошо делает все, за что берется, и никогда не хнычет. Вообще я вполне приемлю людей, какие они есть: правда жизни истиннее оценок и схем.
– Тогда почему Вы так высокомерны? (Замирает от дерзости.)
– Я был скромен: мне норовили наступить на голову.
– Вы злой! Почему Вы злой? (Пытаются оттащить нахалку.)
– Злой лучше работает. Злость помогает выстоять, она – резерв энергии, ищущей выхода. Злость – это запас силы.
– Разве доброта не лучше злости?
– Доброта – умение проникнуться нуждами другого; она позволяет понять другого. В действии она неспособна преодолеть встречное сопротивление, подавить чужой враждебный интерес, не поддавшись ему: это отсутствие сильных страстей и целей, слабость и безразличие души. Доброта – чтобы понять, злость – чтобы совершить.
– Писать ли мне?
– Если вы спрашиваете об этом – то нет.
– А Вы правда все знаете?
– Правда. Я говорю о качественном знании, а не о количественном. Как печь хлеб – расскажет любой пекарь, но смысл и всеобщие связи этого процесса ему неизвестны.
– А не скучно все знать? Не тяжело?
– Отнюдь. Необычайно интересно. Тяжела скорее чужая тупость.
– А Вы бы хотели снова стать молодым?
– Я достаточно уважаю себя, чтобы не желать ничего изменять в своей жизни.
– А в каком возрасте Вы бы остановились, если б пришлось выбирать?
– Тридцать два. Уже все знаешь, еще все можешь и хочешь.
– У Вас есть неисполненные желания?
– Нет. Но постоянно возникают новые.
– Вы во что-нибудь верите?
– В победу.
– Любой ценой?
– А разве бывает победа иной ценой?
– Вы сомневаетесь в себе когда-нибудь?
– Нет. Иногда сомневаются другие. Пусть не сомневаются.
– Как стать великим? Таким, как Вы?
– Кто спрашивает – не станет. Перечтите «Если…» Киплинга.
– Вы что, железный? Без слабостей и привязанностей?
– Да – так и тянет ответить в ваши восторженные глазки. Ерунда это все… Творят кумира, услаждая возбужденное воображение – это доступней и приятней, чем понять просто человека. Я из сплава покрепче, только и всего.
– Вы верите в любовь?
– Только убогий душой не знает ее.
– А что делать от несчастной любви?
– Добиться взаимности. Умереть. Хранить ее. Влюбиться снова. Но никогда не спрашивать совета.
– Вам нравится современная молодежь?
– Мне нравится и не нравится в ней то же, что и в обществе в целом: просто в молодежи все это ярче проявляется.
– А современные моды?
– Природа моды исключает споры: престижный момент, вечное обновление, условность дозволенного; все красиво по-своему.
– У Вас есть враги?
– Я не так ничтожен, чтобы не иметь их – и много.
– Что вы о них скажете?
– Дадим им копоти!
– Прощать ли врагам?
– Не считать их за людей. Давить при надобности и забывать. И обращать их действия себе на пользу.
– А нужно возлюбить врага?
– Сильного и умного врага уважаешь. Понимаешь его. Учишься у него. Можешь ему сочувствовать и даже его любить. Но это не должно помешать переступить через него – а лучше через его труп.
– А друзья у Вас есть?
– Поклонение не дает права на бесцеремонное копание в душе.
– А что, если друг стал врагом?
– Горе побежденным.
– А если побежден ты?
– Не скули и готовь реванш.
– Вы циник! (Настроение толпы меняется – она уязвлена.)
– Я просто честен и умен.
– Вы жестоки!
– Я честен и силен.
– Вы эгоист!
– Я обязан делать свое дело. Кроме меня его не сделает никто.
– А кому оно нужно?
– Мне. Но и вам: у нас одна культура и история на всех…
– Ваше самолюбование мерзко.
– Так зачем вы на меня смотрите? Я не стыжусь себя: честно говорю то, что другие ущемленно и спесиво лелеют в тени своих липких душонок, боясь обнажить их хилое уродство.
– Что такое труд?
– Деятельность, имеющая результатом материальные блага.
– Благословите меня!
– Не блажите: рад бы в рай, да грехи не пускают.
– На Вашей совести есть грехи?
– Для начала тут надо иметь совесть… Есть. И много. Я не боюсь их. Хотя для таких, как я, грехи не существуют. Я прагматик. А истина вне морали. Есть лишь суть вещи, действие, следствие и плата.
– Как Вам удалось выстоять?
– Удары сыпались на меня со всех сторон, пока однажды я не обнаружил, что откован в клинок.
– Какой возраст Вы считаете лучшим для писателя?
– Для прозаика – двадцать девять – сорок шесть. Взгляните в мировую литературу: исключения единичны.
– Как жить?
– Ходить по путям сердца своего: счастливо.
– А что такое счастье?
– Жить в полную силу своей души. Ничего не боясь.
– А Вы чего-нибудь боитесь?
– Нет. Мудрый человек может лишь чего-то хотеть, а чего-то не хотеть.
– Ваш главный жизненный принцип?
– Лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и сожалеть.
– Каким должен быть идеал человека?
– Идеал человека – ангел… Наверное – нормальный здоровый человек, уверенный в себе, который хорошо делает все, за что берется, и никогда не хнычет. Вообще я вполне приемлю людей, какие они есть: правда жизни истиннее оценок и схем.
– Тогда почему Вы так высокомерны? (Замирает от дерзости.)
– Я был скромен: мне норовили наступить на голову.
– Вы злой! Почему Вы злой? (Пытаются оттащить нахалку.)
– Злой лучше работает. Злость помогает выстоять, она – резерв энергии, ищущей выхода. Злость – это запас силы.
– Разве доброта не лучше злости?
– Доброта – умение проникнуться нуждами другого; она позволяет понять другого. В действии она неспособна преодолеть встречное сопротивление, подавить чужой враждебный интерес, не поддавшись ему: это отсутствие сильных страстей и целей, слабость и безразличие души. Доброта – чтобы понять, злость – чтобы совершить.
– Писать ли мне?
– Если вы спрашиваете об этом – то нет.
– А Вы правда все знаете?
– Правда. Я говорю о качественном знании, а не о количественном. Как печь хлеб – расскажет любой пекарь, но смысл и всеобщие связи этого процесса ему неизвестны.
– А не скучно все знать? Не тяжело?
– Отнюдь. Необычайно интересно. Тяжела скорее чужая тупость.
– А Вы бы хотели снова стать молодым?
– Я достаточно уважаю себя, чтобы не желать ничего изменять в своей жизни.
– А в каком возрасте Вы бы остановились, если б пришлось выбирать?
– Тридцать два. Уже все знаешь, еще все можешь и хочешь.
– У Вас есть неисполненные желания?
– Нет. Но постоянно возникают новые.
– Вы во что-нибудь верите?
– В победу.
– Любой ценой?
– А разве бывает победа иной ценой?
– Вы сомневаетесь в себе когда-нибудь?
– Нет. Иногда сомневаются другие. Пусть не сомневаются.
– Как стать великим? Таким, как Вы?
– Кто спрашивает – не станет. Перечтите «Если…» Киплинга.
– Вы что, железный? Без слабостей и привязанностей?
– Да – так и тянет ответить в ваши восторженные глазки. Ерунда это все… Творят кумира, услаждая возбужденное воображение – это доступней и приятней, чем понять просто человека. Я из сплава покрепче, только и всего.
– Вы верите в любовь?
– Только убогий душой не знает ее.
– А что делать от несчастной любви?
– Добиться взаимности. Умереть. Хранить ее. Влюбиться снова. Но никогда не спрашивать совета.
– Вам нравится современная молодежь?
– Мне нравится и не нравится в ней то же, что и в обществе в целом: просто в молодежи все это ярче проявляется.
– А современные моды?
– Природа моды исключает споры: престижный момент, вечное обновление, условность дозволенного; все красиво по-своему.
– У Вас есть враги?
– Я не так ничтожен, чтобы не иметь их – и много.
– Что вы о них скажете?
– Дадим им копоти!
– Прощать ли врагам?
– Не считать их за людей. Давить при надобности и забывать. И обращать их действия себе на пользу.
– А нужно возлюбить врага?
– Сильного и умного врага уважаешь. Понимаешь его. Учишься у него. Можешь ему сочувствовать и даже его любить. Но это не должно помешать переступить через него – а лучше через его труп.
– А друзья у Вас есть?
– Поклонение не дает права на бесцеремонное копание в душе.
– А что, если друг стал врагом?
– Горе побежденным.
– А если побежден ты?
– Не скули и готовь реванш.
– Вы циник! (Настроение толпы меняется – она уязвлена.)
– Я просто честен и умен.
– Вы жестоки!
– Я честен и силен.
– Вы эгоист!
– Я обязан делать свое дело. Кроме меня его не сделает никто.
– А кому оно нужно?
– Мне. Но и вам: у нас одна культура и история на всех…
– Ваше самолюбование мерзко.
– Так зачем вы на меня смотрите? Я не стыжусь себя: честно говорю то, что другие ущемленно и спесиво лелеют в тени своих липких душонок, боясь обнажить их хилое уродство.
– Что такое труд?
– Деятельность, имеющая результатом материальные блага.
– Благословите меня!
– Не блажите: рад бы в рай, да грехи не пускают.
– На Вашей совести есть грехи?
– Для начала тут надо иметь совесть… Есть. И много. Я не боюсь их. Хотя для таких, как я, грехи не существуют. Я прагматик. А истина вне морали. Есть лишь суть вещи, действие, следствие и плата.
– Как Вам удалось выстоять?
– Удары сыпались на меня со всех сторон, пока однажды я не обнаружил, что откован в клинок.
– Какой возраст Вы считаете лучшим для писателя?
– Для прозаика – двадцать девять – сорок шесть. Взгляните в мировую литературу: исключения единичны.
6. Свой парень
Дым коромыслом: компания в ресторанчике, куда она перебралась после помпезного банкета: веселый цинизм, хмельная откровенность, дружеские издевки.
– Итак ты велик, богат и знаменит. Комнаты для гостей есть?
– Как обещано. В любое время. Условие одно: никаких умных разговоров.
– Ты не безнадежен: узнаешь старых друзей. (Хлоп по плечу.)
– Вся эта никчемная ерунда хороша одним – можешь что-то сделать, доставить удовольствие тем, кому хочешь…
– Ну ты порезвился! Дал им копоти!
– А, пустой трындеж. Если б господь бог не хотел, чтоб им хамили, он бы не создал их холуями.
– Напишу мемуары: «Мой друг – Зевс». (Чокаются.)
– А, иначе лакеи станут и Зевса учить величественным манерам.
– Не притворяйся, что тебе это все неприятно. Ты ведь с юности мечтал об этом.
– Кто не мечтал. И денег, и женщин, и любви, и славы, и благополучия, и приключений. И при всем еще счастья. (Хмыкает.)
– Ну, вот ты все и имеешь. Прорвался. Со стальной ложкой.
– И уплатил цену нищеты и унижений.
– Червями ползут многие, а вот доползти, чтобы взлететь орлом… Пардон, молчу. Зато теперь ты испытал все.
– Привычки нищеты въедливы, уродуют. Приниженность, зависимость от имущих, крохоборство, зацикленность на деньгах – на грошах.
– Не ты ли проповедуешь полноту жизни? фарисей.
– Все одно – горе не мед. Его память обсахаривает.
– Тебя уже коллеги официально обсахарили, как марципан.
– Хочешь пососать? (Хохот.) Они уже вылизали. Шайка идиотов. Когда-то мне хотелось купить вагон калош – чтоб эти наглые холуи носили их за мной в зубах.
– Так купи теперь. Понесут!
– Потом я научился не воспринимать их как людей. Шахматные фигурки. Самоходное удобрение для моей грядки.
– Все?
– Нет. Нескольких я действительно уважаю.
– Ты гнусный карьерист; хочу брать у тебя уроки.
– У пирога одна верхушка, а у каждого едока по ножу. Чтоб занять свое место, нужно многих поставить на их места.
– А помнишь, ты говорил: «Стану когда-нибудь отъявленным негодяем»?
– Обещано – сделано! (Хохот.) Ребята, так охота быть добрым.
– Кто тебе не дает?
– Руки на стол! – дайте мне заплатить, ладно?
– Итак ты велик, богат и знаменит. Комнаты для гостей есть?
– Как обещано. В любое время. Условие одно: никаких умных разговоров.
– Ты не безнадежен: узнаешь старых друзей. (Хлоп по плечу.)
– Вся эта никчемная ерунда хороша одним – можешь что-то сделать, доставить удовольствие тем, кому хочешь…
– Ну ты порезвился! Дал им копоти!
– А, пустой трындеж. Если б господь бог не хотел, чтоб им хамили, он бы не создал их холуями.
– Напишу мемуары: «Мой друг – Зевс». (Чокаются.)
– А, иначе лакеи станут и Зевса учить величественным манерам.
– Не притворяйся, что тебе это все неприятно. Ты ведь с юности мечтал об этом.
– Кто не мечтал. И денег, и женщин, и любви, и славы, и благополучия, и приключений. И при всем еще счастья. (Хмыкает.)
– Ну, вот ты все и имеешь. Прорвался. Со стальной ложкой.
– И уплатил цену нищеты и унижений.
– Червями ползут многие, а вот доползти, чтобы взлететь орлом… Пардон, молчу. Зато теперь ты испытал все.
– Привычки нищеты въедливы, уродуют. Приниженность, зависимость от имущих, крохоборство, зацикленность на деньгах – на грошах.
– Не ты ли проповедуешь полноту жизни? фарисей.
– Все одно – горе не мед. Его память обсахаривает.
– Тебя уже коллеги официально обсахарили, как марципан.
– Хочешь пососать? (Хохот.) Они уже вылизали. Шайка идиотов. Когда-то мне хотелось купить вагон калош – чтоб эти наглые холуи носили их за мной в зубах.
– Так купи теперь. Понесут!
– Потом я научился не воспринимать их как людей. Шахматные фигурки. Самоходное удобрение для моей грядки.
– Все?
– Нет. Нескольких я действительно уважаю.
– Ты гнусный карьерист; хочу брать у тебя уроки.
– У пирога одна верхушка, а у каждого едока по ножу. Чтоб занять свое место, нужно многих поставить на их места.
– А помнишь, ты говорил: «Стану когда-нибудь отъявленным негодяем»?
– Обещано – сделано! (Хохот.) Ребята, так охота быть добрым.
– Кто тебе не дает?
– Руки на стол! – дайте мне заплатить, ладно?
7. Милый-дорогой
Люкс в отеле: ночное окно, смятая постель, пустая бутылка, два силуэта.
– Я хочу знать о тебе все…
– Всего я сам о себе не знаю.
– А как ты начал?
– Кому это интересно… В тринадцать лет с лучшим другом мы болели «Тремя мушкетерами»; размышляли о жизни в развалюшке на задворках – школьным мелом написали на ней «Бастион «Сен-Жерве». Он и высказал: хорошо изобрести машину, чтоб видеть человека насквозь… А я сказал – ха: вот видеть человека насквозь без всякой машины…
С детства хотел я понимать каждого. И я стал понимать. И душа моя прониклась душой любого человека, его бедами и нуждами.
– Ты добрый. А в глубине злой. А в самой глубине совсем добрый…
– Я был добр. Совесть мучила меня всегда: в малейшей несправедливости, в каждой боли мира – была моя вина. Вина причастности и бессилия изменить.
Каждому отрезал я от любви моей.
И остался в ничтожестве. Своим мясом всех собак не накормишь.
– Неправда. Ты прожил настоящую, красивую жизнь.
– Многое кажется красивым, если это не с тобой сейчас. А когда болят зубы, и воняет изо рта, и нет денег на врача… Когда нечего жрать, и в долг никто уже не дает: «Ты знаешь, старик, я сам сейчас на мели…» – и глаза в сторону. Крадешь объедки в закусочных, клянчишь мелочь на улицах – «на метро», «на телефон». Когда готов отдать любимой женщине жизнь, но не можешь купить ей цветок.
– Как ты смог все это вынести…
– Мне было двадцать восемь – когда однажды ночью я перешагнул.
Я жил в конурке с окном на мокрые крыши, жрал один хлеб и писал. Я смеялся над нищетой в романах: «Бутылка молока», «кусок колбасы»! Хлеб, кипяток, дешевое курево, – месяцами; годами. Но я писал то, что хотел! И не мог писать так, как хотел. По три дня искал слово! Три недели делал страницу. Был здоров, как колокол – а сердце болело. Если к концу рабочего дня оно не ныло – я ощущал себя самообманщиком.
И вот ночью, в осень, бродя под дождем в поисках фразы, я не то чтобы сказал себе, нет: внутреннее чувство оформилось в решенное осознание: я сдохну в дерьме под забором, но я буду писать так, как я хочу и должен.
И перевалив этот рубеж – стало легко. Просто. Не осталось в жизни ничего страшного. Я спокойно отыгрывал любой, малейший шанс – из глубины падения, куда я мысленно уже лег сам, добровольно. Мне было нечего терять. Путь мог быть только наверх.
Там, ночью, на дождливой площади у гранитной колонны, была моя настоящая победа. Остальные пришли сами.
– Я хочу знать о тебе все…
– Всего я сам о себе не знаю.
– А как ты начал?
– Кому это интересно… В тринадцать лет с лучшим другом мы болели «Тремя мушкетерами»; размышляли о жизни в развалюшке на задворках – школьным мелом написали на ней «Бастион «Сен-Жерве». Он и высказал: хорошо изобрести машину, чтоб видеть человека насквозь… А я сказал – ха: вот видеть человека насквозь без всякой машины…
С детства хотел я понимать каждого. И я стал понимать. И душа моя прониклась душой любого человека, его бедами и нуждами.
– Ты добрый. А в глубине злой. А в самой глубине совсем добрый…
– Я был добр. Совесть мучила меня всегда: в малейшей несправедливости, в каждой боли мира – была моя вина. Вина причастности и бессилия изменить.
Каждому отрезал я от любви моей.
И остался в ничтожестве. Своим мясом всех собак не накормишь.
– Неправда. Ты прожил настоящую, красивую жизнь.
– Многое кажется красивым, если это не с тобой сейчас. А когда болят зубы, и воняет изо рта, и нет денег на врача… Когда нечего жрать, и в долг никто уже не дает: «Ты знаешь, старик, я сам сейчас на мели…» – и глаза в сторону. Крадешь объедки в закусочных, клянчишь мелочь на улицах – «на метро», «на телефон». Когда готов отдать любимой женщине жизнь, но не можешь купить ей цветок.
– Как ты смог все это вынести…
– Мне было двадцать восемь – когда однажды ночью я перешагнул.
Я жил в конурке с окном на мокрые крыши, жрал один хлеб и писал. Я смеялся над нищетой в романах: «Бутылка молока», «кусок колбасы»! Хлеб, кипяток, дешевое курево, – месяцами; годами. Но я писал то, что хотел! И не мог писать так, как хотел. По три дня искал слово! Три недели делал страницу. Был здоров, как колокол – а сердце болело. Если к концу рабочего дня оно не ныло – я ощущал себя самообманщиком.
И вот ночью, в осень, бродя под дождем в поисках фразы, я не то чтобы сказал себе, нет: внутреннее чувство оформилось в решенное осознание: я сдохну в дерьме под забором, но я буду писать так, как я хочу и должен.
И перевалив этот рубеж – стало легко. Просто. Не осталось в жизни ничего страшного. Я спокойно отыгрывал любой, малейший шанс – из глубины падения, куда я мысленно уже лег сам, добровольно. Мне было нечего терять. Путь мог быть только наверх.
Там, ночью, на дождливой площади у гранитной колонны, была моя настоящая победа. Остальные пришли сами.
8. Гамбургский счет
Рассветное шоссе, летящий «мерседес», руки на руле, сигарета в сжатых зубах. Смесь пьяного полубреда с не то аутотренингом, не то головокружением от успехов: приступ мании величия.
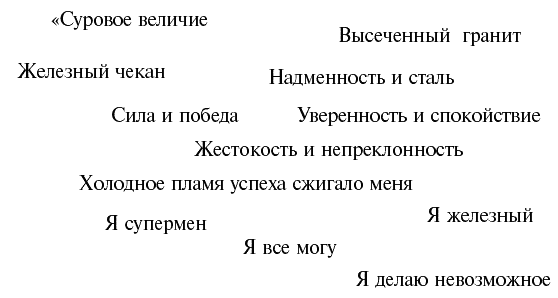
Да! – и плакал, и молился, в черном отчаянии гибнул, самое дорогое терял – да не надломился ни в чем. Не в том дело, чтоб не падать, а в том, чтоб тысячу раз упав – встать тысячу один.
Я уплатил по всем счетам. Все ухабы на дороге пересчитал собственной мордой. Эти шрамы – моя биография.
Я въехал на белом коне! – пусть это Конь Блед. Тяжелы мои глаза, жестоки мысли, тверда и безжалостна душа. И истина мира ясна мне, и впору мне ее груз. (Прибавляет газ – спидометр на 130.)
Да! – я прошел с хрустом по головам, щелкая людей, как орехи. Прочь с пути, – я шел за своим: добыча тигра не по зубам шакалу. Нет преступления и нет подвига, которых я не совершил бы и не пережил в душе моей. Нет доблести и порока, неизвестных мне. Душа моя выжжена. Холодное пламя успеха выжгло ее. Стальной клинок на ее месте. И кровь не пристала к нему. (140 км)
Умом и напором, волей и хитростью, жестокостью и любовью, делая все возможное, а потом еще столько, сколько надо. Воля и страсть. Не отступать.
Опасно? – шаг вперед!
Сомнение? – шаг вперед!
Риск? – шаг вперед!
= (Визжат шины на вираже.)
Чертовы друзья, заявляющие на тебя права, лезущие когда надо и не надо с услугами и требующие близости взамен. Безмозглые любовницы, постельные трутни, лелеющие выдуманное чувство, урывающие денег, или тела, или души, или жизни, несущие себя в подарок именно тогда, когда тебе этот подарок – как булыжник в стекло. Сявки, паразиты! Если я вам нужен – приходите тогда, когда я сам позову вас. (Вихрем проносится встречный грузовик.)
Мощное, ровное, неотвратимое движение вперед.
Был я человек. А стал – инструмент в руках божьих и дьявольских. Душу продал, кровью расписался – в ту дождливую ночь.
Для таких, как я, справедливости не существует. Жрут, как могут. Так сломай зубы гадам. Да! – тысячу раз я умирал, стиснув зубы на глотке врага. (180 км)
Я должен был – и я дошел. Я смог. Один из всех. Супермен. Авантюрист. Танцующий убийца. И только по-моему. Только так может быть. Не могло быть иначе. Только так».
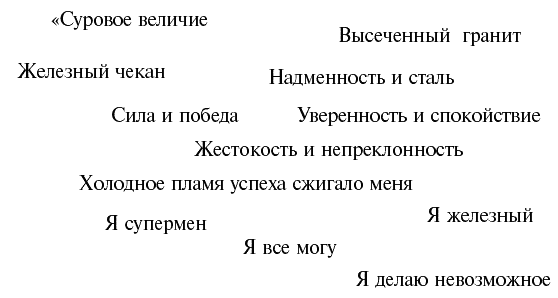
«Суровое величиеНу что, загнули мне рога? Фигу вам всем! Мелочь пузатая. Не верю в экстравертов. Что болит – того не трогают. Сокровенного не выставляют. Слез моих хотели? души? хрен! Ничто меня не волнует. Ничто не трогает. Ни в чем не дрогну.
Высеченный гранит
Железный чекан
Надменность и сталь
Сила и победа
Уверенность и спокойствие
Жестокость и непреклонность
Холодное пламя успеха сжигало меня
Я железный
Я супермен
Я все могу
Я делаю невозможное
Да! – и плакал, и молился, в черном отчаянии гибнул, самое дорогое терял – да не надломился ни в чем. Не в том дело, чтоб не падать, а в том, чтоб тысячу раз упав – встать тысячу один.
Я уплатил по всем счетам. Все ухабы на дороге пересчитал собственной мордой. Эти шрамы – моя биография.
Я въехал на белом коне! – пусть это Конь Блед. Тяжелы мои глаза, жестоки мысли, тверда и безжалостна душа. И истина мира ясна мне, и впору мне ее груз. (Прибавляет газ – спидометр на 130.)
Да! – я прошел с хрустом по головам, щелкая людей, как орехи. Прочь с пути, – я шел за своим: добыча тигра не по зубам шакалу. Нет преступления и нет подвига, которых я не совершил бы и не пережил в душе моей. Нет доблести и порока, неизвестных мне. Душа моя выжжена. Холодное пламя успеха выжгло ее. Стальной клинок на ее месте. И кровь не пристала к нему. (140 км)
Умом и напором, волей и хитростью, жестокостью и любовью, делая все возможное, а потом еще столько, сколько надо. Воля и страсть. Не отступать.
Опасно? – шаг вперед!
Сомнение? – шаг вперед!
Риск? – шаг вперед!
= (Визжат шины на вираже.)
Чертовы друзья, заявляющие на тебя права, лезущие когда надо и не надо с услугами и требующие близости взамен. Безмозглые любовницы, постельные трутни, лелеющие выдуманное чувство, урывающие денег, или тела, или души, или жизни, несущие себя в подарок именно тогда, когда тебе этот подарок – как булыжник в стекло. Сявки, паразиты! Если я вам нужен – приходите тогда, когда я сам позову вас. (Вихрем проносится встречный грузовик.)
Мощное, ровное, неотвратимое движение вперед.
Был я человек. А стал – инструмент в руках божьих и дьявольских. Душу продал, кровью расписался – в ту дождливую ночь.
Для таких, как я, справедливости не существует. Жрут, как могут. Так сломай зубы гадам. Да! – тысячу раз я умирал, стиснув зубы на глотке врага. (180 км)
Я должен был – и я дошел. Я смог. Один из всех. Супермен. Авантюрист. Танцующий убийца. И только по-моему. Только так может быть. Не могло быть иначе. Только так».
Положение во гроб
Усоп.
Тоже торжество, но неприятное. Тягостное. Дело житейское; все там будем, чего там. (Вздох.)
Водоватов скончался достойно и подобающе: усоп. Как член секретариата, отмаялся он в больнице Четвертого отделения, одиночная палата, спецкомфорт с телевизором, индивидуальный пост, посменное бдение коллег, избывающих регламент у постели и оповещающих других коллег о состоянии. Что ж – состояние. Семьдесят четыре года, стенокардия, второй инфаркт; под чертой – четырехтомное собрание «Избранного» в «Советском писателе», двухтомник в «Худлите», два ордена и медали, членство в редколлегиях и комиссиях, загранпоездки, совещания; благословленные в литературу бывшие молодые, дети, внуки; Харон подогнал не ветхую рейсовую лодку, а лаковую гондолу – приличествующее отбытие с конечной станции вполне состоявшейся жизни.
Газеты почтили некрологами; Литфонд выписал причитающиеся двести рублей похоронных; и гроб, в лентах и венках, выставили для прощания в Белом зале писательской организации.
К двенадцати присутствовали: от правления, от секции прозы, от профкома, месткома и парткома, от бюро пропаганды и Совета ветеранов; посасывали валидольчик одышливые сверстники, уверенно разместились по рангам и чинам сановные и маститые; подперли стенку перспективные из Клуба молодого литератора, привлекаемые в качестве носителей гроба (лестница). Родня блюла траур близ изголовья бесприметно и обособленно.
Минуты твердели и падали; в четверть первого выступил вперед и встал в головах второй (рабочий, так называемый) секретарь Союза, Темин, с листком в руке. Склонением головы обозначив скорбь, он выдержал паузу, давая настояться тишине, явить себя чувству, и профессионально открыл панихиду:
– Товарищи! Сегодня мы прощаемся с нашим другом, коллегой, провожаем в последний путь замечательного человека, большого писателя и настоящего коммуниста Семена Никитича Водоватова. Всю свою жизнь, все силы, весь свой огромный талант и щедрую душу Семен Никитич без остатка отдал нашей Родине, нашему народу, нашей советской литературе.
Семен Никитович родился… («Совсем молоденьким парнишкой впервые переступил он порог редакции», – взглядом сказал один маститый другому. – «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо», – ответил взгляд.)…В сорок девятом году Семен Никитович выпустил свой первый роман – «Стальной заслон», тепло отмеченный критикой, и был принят в ряды Союза писателей СССР…
И еще пять минут (две страницы) освещал Темин творческий путь покойного, завершив усилением голоса на вечной памяти в сердцах и высоком месте в литературе.
Следом поперхал, оперся тверже о палочку Трощенко и в мемуарных тонах рассказал, каким добрым и интересным человеком был его старый друг Сема Водоватов и как много и упорно работал он над своими произведениями. И такое возникло ощущение, что Трощенко словно прощается ненадолго с ушедшим, словно извиняется перед ним, что из них двоих не он первый, и слушали его с сочувствием, отмечая и ненарочитую слезу, и одновременно инстинктивное удовлетворение, что он переживает похороны друга, а не наоборот.
Некрасивая, условно-молодая поэтесса Шонина вцепилась коготками в спинку ампирного стула и продекламировала специально сочиненные к случаю, посвященные усопшему стихи; стихи тоже были некрасивые, какие-то условно-молодые, со слишком уж искренним и уместным надрывом, но все знали, что Водоватов ей протежировал, звонил в журналы, даже одалживал деньги – из меценатства, без оформленной стариковско-мужской корысти, и это тоже производило умиротворяющее, приличествующее впечатление.
И долго еще проповедали о человечности и таланте Водоватова, о трудной, непростой и счастливой его жизни, о замечательных книгах, несвершенных замыслах и признании народом и государством его заслуг.
Церемония двигалась по первому разряду. Как причитали некогда кладбищенские нищие, «дай Бог нам с вами такие похороны».
Полтораста человек надышали в зале, совея и мякнув от элегических мыслей о смерти и вечности, от сознания, что достойно отдают человеческий и гражданский долг покойному, выискивая и лелея печально-светлые чувства в извитых душах деловых горожан; время панихиды рассчитали грамотно, чтоб не успели перетомиться скукой, – но, как вечно ведется, речи затянулись, прибавлялось ораторов сверх ожидания, намекалось на сведение старых литературных счетов – перетекало в разновидность обычного и беспредметного собрания; по шестеро натягивая на рукава черные повязки, в шестую уже смену менялись в почетный караул у гроба, а в задних рядах поглядывали украдкой на часы, и все соображали, когда вернутся с кладбища и не сорвутся ли вечерние планы…
Уже вытирали пот и завидовали тем, кто толпился перед входом на лестничной площадке, не поместившись в зале, и там теперь имели возможность курить и тихо переговариваться.
И уже поднимался снизу водитель одного из автобусов и со спокойной грубоватостью человека рабочего и профессионала спрашивал у распорядителя похорон очеркиста Смельгинского, когда же наконец поедут, и уже председатель похоронной комиссии пышноусый научно-популяризатор Завидович кивнул коротко Темину и собрался показать рукой, чтоб разбирали нести венки, а молодым литераторам поднимать гроб, когда из настроенной к шевелению толпы выделились двое и подступили к Завидовичу с интимной деловитостью посвященных.
Тот, что помоложе, в официальном костюме и с официальным лицом, отрекомендовался нотариусом и известил вполголоса, что имеет место завещание покойного, и воля его – огласить в конце панихиды письмо-прощание Водоватова к коллегам. В доказательство чего открыл номерные замки дипломата и предъявил заверенное завещание.
Второй же, старик в черной пиджачной паре со складками от долгого пребывания в тесном шкафу, на вопрос: «Вы родственник… входите в число наследников?» – ответил не совсем впопад: «Нет, я его друг… по рыбалке, и на Шексну ездили, и везде… говорили обо всем… много». Дискант старика срывался, выглядел он волнующимся, неуверенным…
Темин приблизился, также ознакомился с завещанием и сразу выцелил, что старику, Баранову Борису Петровичу, отказывается две тысячи рублей, при условии, что он выполнит неукоснительно последнюю волю покойного и прочтет над гробом его последнее обращение к коллегам.
Н-не хотелось Темину это разрешать… но и отказать было невозможно, да и причин не было; он повертел плотный желтоватый конверт, запечатанный алым сургучом с Гербом СССР, вручил Баранову и разрешающе кивнул: давайте, мол, но скорее, время поджимает.
Тоже торжество, но неприятное. Тягостное. Дело житейское; все там будем, чего там. (Вздох.)
Водоватов скончался достойно и подобающе: усоп. Как член секретариата, отмаялся он в больнице Четвертого отделения, одиночная палата, спецкомфорт с телевизором, индивидуальный пост, посменное бдение коллег, избывающих регламент у постели и оповещающих других коллег о состоянии. Что ж – состояние. Семьдесят четыре года, стенокардия, второй инфаркт; под чертой – четырехтомное собрание «Избранного» в «Советском писателе», двухтомник в «Худлите», два ордена и медали, членство в редколлегиях и комиссиях, загранпоездки, совещания; благословленные в литературу бывшие молодые, дети, внуки; Харон подогнал не ветхую рейсовую лодку, а лаковую гондолу – приличествующее отбытие с конечной станции вполне состоявшейся жизни.
Газеты почтили некрологами; Литфонд выписал причитающиеся двести рублей похоронных; и гроб, в лентах и венках, выставили для прощания в Белом зале писательской организации.
К двенадцати присутствовали: от правления, от секции прозы, от профкома, месткома и парткома, от бюро пропаганды и Совета ветеранов; посасывали валидольчик одышливые сверстники, уверенно разместились по рангам и чинам сановные и маститые; подперли стенку перспективные из Клуба молодого литератора, привлекаемые в качестве носителей гроба (лестница). Родня блюла траур близ изголовья бесприметно и обособленно.
Минуты твердели и падали; в четверть первого выступил вперед и встал в головах второй (рабочий, так называемый) секретарь Союза, Темин, с листком в руке. Склонением головы обозначив скорбь, он выдержал паузу, давая настояться тишине, явить себя чувству, и профессионально открыл панихиду:
– Товарищи! Сегодня мы прощаемся с нашим другом, коллегой, провожаем в последний путь замечательного человека, большого писателя и настоящего коммуниста Семена Никитича Водоватова. Всю свою жизнь, все силы, весь свой огромный талант и щедрую душу Семен Никитич без остатка отдал нашей Родине, нашему народу, нашей советской литературе.
Семен Никитович родился… («Совсем молоденьким парнишкой впервые переступил он порог редакции», – взглядом сказал один маститый другому. – «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо», – ответил взгляд.)…В сорок девятом году Семен Никитович выпустил свой первый роман – «Стальной заслон», тепло отмеченный критикой, и был принят в ряды Союза писателей СССР…
И еще пять минут (две страницы) освещал Темин творческий путь покойного, завершив усилением голоса на вечной памяти в сердцах и высоком месте в литературе.
Следом поперхал, оперся тверже о палочку Трощенко и в мемуарных тонах рассказал, каким добрым и интересным человеком был его старый друг Сема Водоватов и как много и упорно работал он над своими произведениями. И такое возникло ощущение, что Трощенко словно прощается ненадолго с ушедшим, словно извиняется перед ним, что из них двоих не он первый, и слушали его с сочувствием, отмечая и ненарочитую слезу, и одновременно инстинктивное удовлетворение, что он переживает похороны друга, а не наоборот.
Некрасивая, условно-молодая поэтесса Шонина вцепилась коготками в спинку ампирного стула и продекламировала специально сочиненные к случаю, посвященные усопшему стихи; стихи тоже были некрасивые, какие-то условно-молодые, со слишком уж искренним и уместным надрывом, но все знали, что Водоватов ей протежировал, звонил в журналы, даже одалживал деньги – из меценатства, без оформленной стариковско-мужской корысти, и это тоже производило умиротворяющее, приличествующее впечатление.
И долго еще проповедали о человечности и таланте Водоватова, о трудной, непростой и счастливой его жизни, о замечательных книгах, несвершенных замыслах и признании народом и государством его заслуг.
Церемония двигалась по первому разряду. Как причитали некогда кладбищенские нищие, «дай Бог нам с вами такие похороны».
Полтораста человек надышали в зале, совея и мякнув от элегических мыслей о смерти и вечности, от сознания, что достойно отдают человеческий и гражданский долг покойному, выискивая и лелея печально-светлые чувства в извитых душах деловых горожан; время панихиды рассчитали грамотно, чтоб не успели перетомиться скукой, – но, как вечно ведется, речи затянулись, прибавлялось ораторов сверх ожидания, намекалось на сведение старых литературных счетов – перетекало в разновидность обычного и беспредметного собрания; по шестеро натягивая на рукава черные повязки, в шестую уже смену менялись в почетный караул у гроба, а в задних рядах поглядывали украдкой на часы, и все соображали, когда вернутся с кладбища и не сорвутся ли вечерние планы…
Уже вытирали пот и завидовали тем, кто толпился перед входом на лестничной площадке, не поместившись в зале, и там теперь имели возможность курить и тихо переговариваться.
И уже поднимался снизу водитель одного из автобусов и со спокойной грубоватостью человека рабочего и профессионала спрашивал у распорядителя похорон очеркиста Смельгинского, когда же наконец поедут, и уже председатель похоронной комиссии пышноусый научно-популяризатор Завидович кивнул коротко Темину и собрался показать рукой, чтоб разбирали нести венки, а молодым литераторам поднимать гроб, когда из настроенной к шевелению толпы выделились двое и подступили к Завидовичу с интимной деловитостью посвященных.
Тот, что помоложе, в официальном костюме и с официальным лицом, отрекомендовался нотариусом и известил вполголоса, что имеет место завещание покойного, и воля его – огласить в конце панихиды письмо-прощание Водоватова к коллегам. В доказательство чего открыл номерные замки дипломата и предъявил заверенное завещание.
Второй же, старик в черной пиджачной паре со складками от долгого пребывания в тесном шкафу, на вопрос: «Вы родственник… входите в число наследников?» – ответил не совсем впопад: «Нет, я его друг… по рыбалке, и на Шексну ездили, и везде… говорили обо всем… много». Дискант старика срывался, выглядел он волнующимся, неуверенным…
Темин приблизился, также ознакомился с завещанием и сразу выцелил, что старику, Баранову Борису Петровичу, отказывается две тысячи рублей, при условии, что он выполнит неукоснительно последнюю волю покойного и прочтет над гробом его последнее обращение к коллегам.
Н-не хотелось Темину это разрешать… но и отказать было невозможно, да и причин не было; он повертел плотный желтоватый конверт, запечатанный алым сургучом с Гербом СССР, вручил Баранову и разрешающе кивнул: давайте, мол, но скорее, время поджимает.
