– Привязать к нему тяжелый камень, – предложил я зло, – и утопить вон там в озере.
– Это было бы вполне справедливо, – сказал Вайрд, и лицо Джаируса стало таким белым, что его можно было разглядеть в темноте. – По готскому закону этот человек считается nauthing – человеком столь ничтожным, что его убийцу не подвергают наказанию. И я без колебаний убил бы его, – продолжил Вайрд, – будь этот негодяй обычным грубым насильником. Но он сын dux Латобригекса. Очень может быть, что все жители Констанции, в том числе и его отец, только обрадуются бесследному исчезновению Джаируса, однако они все равно будут задавать вопросы. Не следует забывать о его шпионах – и, разумеется, о его мамаше: эти люди вполне могут знать, куда он отправился. Таким образом, эти вопросы станут задавать тебе, мальчишка, и твоему другу Гудинанду, и не исключено, что вами заинтересуется городской палач. Поэтому, во избежание неприятностей, советую вам оставить Джаирусу жизнь.
Как обычно, совет Вайрда был разумным, поэтому я только спросил угрюмо:
– Тогда что ты предлагаешь, fráuja? Чтобы мы обратились к судьям и те решили, как его наказать?
– Нет, – сказал Вайрд презрительно. – Только слабаки и трусы прибегают к суду, чтобы защитить свою честь. В любом случае Джаирус занимает в Констанции такое положение, что его, несомненно, оправдают.
Вайрд повернулся к Гудинанду и сказал:
– Вы с этим негодяем примерно одного возраста и роста. Предлагаю тебе встретиться с ним лицом к лицу в присутствии всего честного народа на справедливом испытании, сразиться один на один. Ну что, согласен?
Гудинанд, поняв, что страшный телохранитель Юхизы не собирается его наказывать, слегка успокоился и сказал, что вовсе не против сразиться с Джаирусом.
– Да будет так, – провозгласил Вайрд. – Давайте пойдем в город и проведем состязание согласно древним законам.
– Что?! – завизжал Джаирус. – Я, сын dux Латобригекса, должен бороться с простолюдином? С городским калекой и дурачком? Я против этого вопиющего…
– Заткнись, – велел Вайрд так же равнодушно и непочтительно, как если бы обращался ко мне. – Мальчишка, свяжи ему руки своим платком, пояс понадобится мне, чтобы вести этого негодяя по городу на поводке. Гудинанд, возьми вон ту большую дубинку, которая уже дважды за эту ночь сослужила мне службу. Если пленник попытается удрать, воспользуйся ею снова. С этим выродком церемониться не следует.
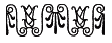
Итак, еще раз в ту же самую ночь я появился на людях в облике Юхизы, теперь уже в базилике Святого Иоанна. Как и большинство церквей в провинции, она была также местом проведения гражданских судов. Там я и предстал перед торопливо созванным судом Констанции, обвинив Джаируса в нападении и попытке изнасилования. Я попросил установить, виновен он или нет, через древний обряд испытания и заявил троим судьям, что хочу, чтобы Гудинанд выступил в роли моего защитника в этом поединке.
– Я полагаю, господа, – сказал Вайрд, представившийся моим опекуном, – что поединок лучше провести в городском амфитеатре – чтобы вся Констанция могла увидеть, что правосудие свершилось. И вот еще что: в качестве оружия следует избрать дубинки, поскольку, как выяснилось, именно их предпочитает обвиняемый.
Судьи нахмурились и зашептались; едва ли это вызывало их удивление. Кроме меня, Гудинанда, Вайрда и все еще связанного Джаируса в церкви также присутствовали dux Латобригекс, его жена Робея и, разумеется, священник Тибурниус. В тот раз я впервые видел Латобригекса, и, в полном соответствии с тем, как мне его описывали, он оказался вполне приличного вида мужчиной с очень скромными манерами. Свое единственное возражение городской глава высказал чуть ли не кротким голосом.
– Господа, – сказал он, – девушка, которая выдвинула против Джаируса обвинение, не является жительницей Констанции, она чужая в нашем городе. Я не ставлю под сомнение правдивость ее заявления, но… Невольно напрашивается вопрос. Зачем она отправилась одна, без сопровождающих, после наступления темноты, на окраину города, по пустынной тропе, в кустах…
Жена не дала ему договорить. С ненавистью взглянув на меня, Робея яростно рявкнула:
– И эта развратная шлюха еще осмеливается обвинять знатного жителя Констанции! Сына нашего dux. Сына римского легата. Наследника древнего дома Колонна. Я требую, господа, чтобы это клеветническое обвинение было немедленно снято, чтобы репутация Джаируса был очищена от всех, самых малейших пятен и чтобы эту странствующую маленькую шлюху публично раздели догола, высекли и выставили из города!
Судьи снова наклонились друг к другу и опять зашептались, а я сказал Вайрду:
– Этого и следовало ожидать. Я что-то не понял, что она говорила по поводу дома Колонна?
– Когда-то, – шепнул Вайрд мне в ответ, – это была одна из самых знатных семей Рима, но теперь, к сожалению, она выродилась. Только взгляни на этого трусливого Латобригекса из рода Колонна. Разве женился бы мужчина из приличной семьи на virago[122] вроде Робеи? Я уж молчу про этого негодяя Джаируса! Разумеется, самомнения у них хоть отбавляй, и они требуют величать себя clarissimus, но…
И тут вдруг поднялся священник Тибурниус, который елейным тоном произнес:
– Господа, церковь не вмешивается в чисто мирские дела, точно так же и я, смиренный священнослужитель. Но я, как известно, много лет был торговцем в Констанции, прежде чем стать священником, и прошу разрешить мне сказать несколько слов, которые, возможно, внесут ясность в это дело.
Естественно, судьи пошли ему навстречу, и, естественно, я ожидал, что Тибурниус скажет что-нибудь в поддержку dux Латобригекса. Но только что избранный священник, очевидно, решил воспользоваться возможностью, чтобы показать свою власть, ибо сказал нечто такое, что страшно меня изумило:
– Да, на первый взгляд все так и есть: простая и бедная странница выдвинула серьезное обвинение против уважаемого гражданина Констанции. Но позвольте напомнить вам, господа, что наш город своим процветанием как раз обязан не кому иному, как странникам, которые входят в его ворота. И если вдруг пойдут слухи, что в Констанции законом защищены только горожане, что чужеземец здесь может оказаться жертвой несправедливости, пусть даже такое ничтожество, как эта странствующая шлюха, то боюсь, господа, это положит конец процветанию Констанции. И что тогда будет с городом? А с вами самими? И с церковью Господа нашего? Я советую удовлетворить просьбу этой девушки и позволить провести испытание-поединок между Джаирусом и Гудинандом. Пусть восторжествует справедливость. Ибо в обряде испытания только Господь правильно может все рассудить.
– Да как ты смеешь? – вспыхнула Робея, в то время как ее супруг просто стоял молча, а сын весь покрылся испариной. – Ты, лавочник в рясе, да кто ты такой, чтобы посылать знатного гражданина Констанции на унизительный публичный поединок с этим отверженным, городским дурачком?! И чего ради? Ради этой презренной шлюхи?!
– Clarissima Робея! – Священник обратился к ней довольно вежливо, но сурово наставил на женщину указательный палец. – Обязанности, которые налагает на знать высокое положение, поистине тяжелая ноша. Но еще тяжелей обязанности священника, потому что близится день Божьего суда, на котором счет будет предъявлен даже королям. Clarissima Робея, ты выделяешься среди остальных людей высоким положением, но твоя гордость должна склониться перед слугой Божьим. И когда твой духовник говорит, ты должна проявлять уважение, а не возражать. Я самым серьезным образом заявляю тебе это, и моими устами сам Христос предупреждает тебя.
– Да уж, – прошептал Вайрд, – это напугает даже дракониху.
И в самом деле, Робея прямо посерела лицом от этих упреков и больше ничего не сказала, а Джаирус вспотел еще сильнее, чем раньше. После короткой паузы заговорил Латобригекс. Он положил руку жене на плечо и произнес своим мягким голосом:
– Отец Тибурниус прав, моя дорогая. Правосудие должно свершиться, во время испытания только Бог может решить, кто прав. Давай уповать на Господа и на силу рук нашего сына. – Он повернулся к судьям. – Господа, поединок состоится завтра утром.
6
– Это было бы вполне справедливо, – сказал Вайрд, и лицо Джаируса стало таким белым, что его можно было разглядеть в темноте. – По готскому закону этот человек считается nauthing – человеком столь ничтожным, что его убийцу не подвергают наказанию. И я без колебаний убил бы его, – продолжил Вайрд, – будь этот негодяй обычным грубым насильником. Но он сын dux Латобригекса. Очень может быть, что все жители Констанции, в том числе и его отец, только обрадуются бесследному исчезновению Джаируса, однако они все равно будут задавать вопросы. Не следует забывать о его шпионах – и, разумеется, о его мамаше: эти люди вполне могут знать, куда он отправился. Таким образом, эти вопросы станут задавать тебе, мальчишка, и твоему другу Гудинанду, и не исключено, что вами заинтересуется городской палач. Поэтому, во избежание неприятностей, советую вам оставить Джаирусу жизнь.
Как обычно, совет Вайрда был разумным, поэтому я только спросил угрюмо:
– Тогда что ты предлагаешь, fráuja? Чтобы мы обратились к судьям и те решили, как его наказать?
– Нет, – сказал Вайрд презрительно. – Только слабаки и трусы прибегают к суду, чтобы защитить свою честь. В любом случае Джаирус занимает в Констанции такое положение, что его, несомненно, оправдают.
Вайрд повернулся к Гудинанду и сказал:
– Вы с этим негодяем примерно одного возраста и роста. Предлагаю тебе встретиться с ним лицом к лицу в присутствии всего честного народа на справедливом испытании, сразиться один на один. Ну что, согласен?
Гудинанд, поняв, что страшный телохранитель Юхизы не собирается его наказывать, слегка успокоился и сказал, что вовсе не против сразиться с Джаирусом.
– Да будет так, – провозгласил Вайрд. – Давайте пойдем в город и проведем состязание согласно древним законам.
– Что?! – завизжал Джаирус. – Я, сын dux Латобригекса, должен бороться с простолюдином? С городским калекой и дурачком? Я против этого вопиющего…
– Заткнись, – велел Вайрд так же равнодушно и непочтительно, как если бы обращался ко мне. – Мальчишка, свяжи ему руки своим платком, пояс понадобится мне, чтобы вести этого негодяя по городу на поводке. Гудинанд, возьми вон ту большую дубинку, которая уже дважды за эту ночь сослужила мне службу. Если пленник попытается удрать, воспользуйся ею снова. С этим выродком церемониться не следует.
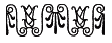
Итак, еще раз в ту же самую ночь я появился на людях в облике Юхизы, теперь уже в базилике Святого Иоанна. Как и большинство церквей в провинции, она была также местом проведения гражданских судов. Там я и предстал перед торопливо созванным судом Констанции, обвинив Джаируса в нападении и попытке изнасилования. Я попросил установить, виновен он или нет, через древний обряд испытания и заявил троим судьям, что хочу, чтобы Гудинанд выступил в роли моего защитника в этом поединке.
– Я полагаю, господа, – сказал Вайрд, представившийся моим опекуном, – что поединок лучше провести в городском амфитеатре – чтобы вся Констанция могла увидеть, что правосудие свершилось. И вот еще что: в качестве оружия следует избрать дубинки, поскольку, как выяснилось, именно их предпочитает обвиняемый.
Судьи нахмурились и зашептались; едва ли это вызывало их удивление. Кроме меня, Гудинанда, Вайрда и все еще связанного Джаируса в церкви также присутствовали dux Латобригекс, его жена Робея и, разумеется, священник Тибурниус. В тот раз я впервые видел Латобригекса, и, в полном соответствии с тем, как мне его описывали, он оказался вполне приличного вида мужчиной с очень скромными манерами. Свое единственное возражение городской глава высказал чуть ли не кротким голосом.
– Господа, – сказал он, – девушка, которая выдвинула против Джаируса обвинение, не является жительницей Констанции, она чужая в нашем городе. Я не ставлю под сомнение правдивость ее заявления, но… Невольно напрашивается вопрос. Зачем она отправилась одна, без сопровождающих, после наступления темноты, на окраину города, по пустынной тропе, в кустах…
Жена не дала ему договорить. С ненавистью взглянув на меня, Робея яростно рявкнула:
– И эта развратная шлюха еще осмеливается обвинять знатного жителя Констанции! Сына нашего dux. Сына римского легата. Наследника древнего дома Колонна. Я требую, господа, чтобы это клеветническое обвинение было немедленно снято, чтобы репутация Джаируса был очищена от всех, самых малейших пятен и чтобы эту странствующую маленькую шлюху публично раздели догола, высекли и выставили из города!
Судьи снова наклонились друг к другу и опять зашептались, а я сказал Вайрду:
– Этого и следовало ожидать. Я что-то не понял, что она говорила по поводу дома Колонна?
– Когда-то, – шепнул Вайрд мне в ответ, – это была одна из самых знатных семей Рима, но теперь, к сожалению, она выродилась. Только взгляни на этого трусливого Латобригекса из рода Колонна. Разве женился бы мужчина из приличной семьи на virago[122] вроде Робеи? Я уж молчу про этого негодяя Джаируса! Разумеется, самомнения у них хоть отбавляй, и они требуют величать себя clarissimus, но…
И тут вдруг поднялся священник Тибурниус, который елейным тоном произнес:
– Господа, церковь не вмешивается в чисто мирские дела, точно так же и я, смиренный священнослужитель. Но я, как известно, много лет был торговцем в Констанции, прежде чем стать священником, и прошу разрешить мне сказать несколько слов, которые, возможно, внесут ясность в это дело.
Естественно, судьи пошли ему навстречу, и, естественно, я ожидал, что Тибурниус скажет что-нибудь в поддержку dux Латобригекса. Но только что избранный священник, очевидно, решил воспользоваться возможностью, чтобы показать свою власть, ибо сказал нечто такое, что страшно меня изумило:
– Да, на первый взгляд все так и есть: простая и бедная странница выдвинула серьезное обвинение против уважаемого гражданина Констанции. Но позвольте напомнить вам, господа, что наш город своим процветанием как раз обязан не кому иному, как странникам, которые входят в его ворота. И если вдруг пойдут слухи, что в Констанции законом защищены только горожане, что чужеземец здесь может оказаться жертвой несправедливости, пусть даже такое ничтожество, как эта странствующая шлюха, то боюсь, господа, это положит конец процветанию Констанции. И что тогда будет с городом? А с вами самими? И с церковью Господа нашего? Я советую удовлетворить просьбу этой девушки и позволить провести испытание-поединок между Джаирусом и Гудинандом. Пусть восторжествует справедливость. Ибо в обряде испытания только Господь правильно может все рассудить.
– Да как ты смеешь? – вспыхнула Робея, в то время как ее супруг просто стоял молча, а сын весь покрылся испариной. – Ты, лавочник в рясе, да кто ты такой, чтобы посылать знатного гражданина Констанции на унизительный публичный поединок с этим отверженным, городским дурачком?! И чего ради? Ради этой презренной шлюхи?!
– Clarissima Робея! – Священник обратился к ней довольно вежливо, но сурово наставил на женщину указательный палец. – Обязанности, которые налагает на знать высокое положение, поистине тяжелая ноша. Но еще тяжелей обязанности священника, потому что близится день Божьего суда, на котором счет будет предъявлен даже королям. Clarissima Робея, ты выделяешься среди остальных людей высоким положением, но твоя гордость должна склониться перед слугой Божьим. И когда твой духовник говорит, ты должна проявлять уважение, а не возражать. Я самым серьезным образом заявляю тебе это, и моими устами сам Христос предупреждает тебя.
– Да уж, – прошептал Вайрд, – это напугает даже дракониху.
И в самом деле, Робея прямо посерела лицом от этих упреков и больше ничего не сказала, а Джаирус вспотел еще сильнее, чем раньше. После короткой паузы заговорил Латобригекс. Он положил руку жене на плечо и произнес своим мягким голосом:
– Отец Тибурниус прав, моя дорогая. Правосудие должно свершиться, во время испытания только Бог может решить, кто прав. Давай уповать на Господа и на силу рук нашего сына. – Он повернулся к судьям. – Господа, поединок состоится завтра утром.
6
За ночь это известие, должно быть, достигло каждого уголка Констанции и ее окрестностей. На следующее утро, когда мы с Вайрдом появились в амфитеатре (по этому случаю я снова был в облике Торна), все местные жители, казалось, столпились перед воротами и обсуждали предстоящий поединок. Люди платили деньги, после чего им вручали глиняные таблички, символизировавшие, что плата внесена.
Церковь давно уже выражала неодобрение по поводу гладиаторских состязаний, и большинство императоров-христиан запрещали их. Подобные состязания, возможно, и продолжали потихоньку проводить где-нибудь в отдаленных провинциях, но в самом Риме гладиаторы исчезли еще за полвека до моего появления на свет. Как вы помните, сегодня решено было не пользоваться гладиусом или другим традиционным оружием: трезубцем, булавой, сетью-ловушкой, – только деревянными дубинами. Тем не менее поединок обещал быть по-настоящему кровавым, и этого было достаточно, чтобы амфитеатр оказался переполненным.
Толпа зрителей состояла не только из рыбаков, ремесленников, сельских жителей и других простолюдинов, которые очень любили подобного рода развлечения. Даже городские торговцы и лавочники – которые едва ли закрыли бы свои рынки и склады даже по случаю траура из-за кончины императора, – казалось, сегодня пренебрегли интересами коммерции, желая лично присутствовать на столь необычном зрелище. И разумеется, пришли и все заезжие путешественники, которые услышали об этом представлении.
Задолго до того, как поединок начался, все места в каждом ярусе и на maenianum[123] амфитеатра были заполнены. Обычно простые люди вполне довольствовались скамьями на самом верху, но сегодня Вайрд заплатил непомерно высокую цену за табличку, которая позволила нам с ним занять пронумерованные места во втором ряду, обычно доступном только богатым и знатным. Места в первом ряду, располагавшемся на одном уровне с ареной, как правило, оставляли для наиболее знатных и влиятельных горожан и высокопоставленных сановников; центральный подиум занимали dux Латобригекс, госпожа Робея и святой отец Тибурниус; все они были роскошно и даже празднично одеты. Dux был таким же молчаливым, как и накануне ночью, от его супруги исходили волны самой настоящей ярости, а священник выглядел абсолютно спокойным, словно он собирался посмотреть представление труппы ritum[124] актеров, где все страсти были ненастоящими, пусть и очень талантливой, но всего лишь игрой.
Я повернулся к Вайрду и сказал:
– Из всех денег, которые мы заработали и накопили, fráuja, я поставлю всю свою долю против твоей на то, что сегодня победит Гудинанд.
Старик издал один из своих смешков-фырканий:
– Во имя Лаверны, богини воров, предателей и мошенников, ты никак подбиваешь меня поставить на эту свинью Джаируса? Ну уж нет, это было бы нелепостью! Но, акх, на подобного рода представлениях трудно избежать искушения и не сделать какую-нибудь ставку. Ладно, давай побьемся об заклад, но только чур я поставлю на Гудинанда.
– Что? Это будет еще большей нелепостью. Я не хочу прослыть изменником…
Но я не успел договорить, поскольку раздался сигнал: звук трубы возвестил о начале поединка, затем послышался возбужденный ропот, и толпа всколыхнулась. Джаирус и Гудинанд появились из ворот в стене, огораживавшей арену по всему периметру.
У каждого из молодых людей в руках было по крепкой ясеневой дубине. Оба противника были лишь в набедренных повязках, все остальное тело было смазано маслом, чтобы удары дубины были скользящими. Джаирус и Гудинанд прошли к центру арены, затем встали у возвышения и подняли свои дубинки, приветствуя dux. Латобригекс поочередно приветствовал каждого из участников поединка, подняв вверх сжатую в кулак правую руку, в которой он держал белый лоскут. Затем труба пропела снова, dux уронил лоскут. Джаирус и Гудинанд тут же повернулись лицом друг к другу и приняли борцовскую позу: каждый держал свою дубину одной рукой за середину, а второй – ближе к нижнему концу. Оба молодых человека были достойными и равными по силе соперниками. Гудинанд был выше, его руки были длинней, но Джаирус был шире в кости и обладал более развитой мускулатурой. Их умение обращаться с дубинами, казалось, тоже было одинаковым. Я знал, что у Гудинанда никогда не было друга, с которым он мог бы сразиться в пробном поединке на дубинках, но он, должно быть, сам иногда развлекался воображаемыми битвами. У Джаируса, похоже, имелось много возможностей состязаться с молодыми людьми, однако противники наверняка обычно ему поддавались, и он, вне всяких сомнений, привык к легким победам. Поединок начался, и зрители затаили дыхание. Тут было на что посмотреть: соперники умело наносили друг другу и отражали удары. Никто из присутствующих на состязании не мог посетовать на то, что он зря выбросил деньги, дабы посмотреть на неуклюжее топтание новичков.
Я с раздражением сказал Вайрду:
– Послушай, и все-таки это несправедливо. Как могу я поставить на Джаируса, если специально отправил негодяя на арену, чтобы его превратили в месиво. К тому же по меньшей мере глупо делать ставку против человека, которого я выбрал в качестве своего защитника. Я настаиваю…
– Balgs-daddja, – тихо произнес Вайрд. – Поздно что-либо менять. А я был прав, поставив на Гудинанда. Только посмотри туда, как Джаирус стал дергаться, уклоняться и отступать.
Когда соперники начали поединок, они пытались первым делом определить уровень мастерства, сильные и слабые стороны друг друга. Сражение на дубинах – это целое искусство. Тот, кто защищается, разумеется, старается быстро и твердо нанести ответный удар дубинкой, но, помимо этого, существует также множество искусных приемов: уверток, наклонов или даже – если один из соперников с размаха наносит неистовый удар своей дубинкой – прыжков через нее (иной раз все проделывается так ловко, что бойцу позавидовали бы акробаты). Да и нападать тоже можно по-разному. Существует, например, такой прием, как ложный замах, который внезапно переходит в удар.
Словом, Джаирус и Гудинанд некоторое время колошматили друг друга, используя все виды ударов, – при этом удары по обнаженной плоти были такими тяжелыми и звучными, что несколько зрителей даже издали возгласы сочувствия. Оба соперника, удачно или нет, испробовали различные виды защиты и, очевидно решив, что теперь знают самые слабые места друг друга, перешли к ожесточенной борьбе.
Поскольку руки у Джаируса были довольно короткими, он рассчитывал на полный замах и по возможности целился в голову Гудинанду. Думаю, Джаирус не забыл, что его мать назвала того слабоумным, и надеялся, что даже скользящий удар жестоко оглушит противника.
Гудинанд, в свою очередь, быстро смекнул, что невысокого квадратного Джаируса едва ли можно опрокинуть даже сильными боковыми ударами дубины. Таким образом, Гудинанд отдал предпочтение поединку на дальней дистанции и неожиданным ударам. Он то целился в солнечное сплетение, пытаясь вышибить из противника дух, то пытался попасть по рукам Джаируса, чтобы сломать их или хотя бы ослабить захват дубины. Будучи худощавым и гибким, Гудинанд лучше уклонялся и избегал замахов, направленных ему в голову. Более тяжелый Джаирус оказался не настолько проворным, чтобы избежать ударов дубинки Гудинанда. После нескольких таких ударов по животу Джаирус издал отчетливое «у-у-ух!» и отшатнулся назад, чтобы глотнуть воздуха. Когда Гудинанд в очередной раз огрел противника по пальцам, раздался громкий хруст и Джаирус чуть не выронил дубинку. После этого он уже не нападал, а лишь оборонялся, не позволяя выбить дубинку из его рук. Казалось, что он потерял надежду на победу. Гудинанд усилил напор, тесня Джаируса назад до тех пор, пока они оба не оказались у центрального возвышения.
– Погляди туда, – снова сказал Вайрд, – tetzte негодяй вспотел так, что с него стекает масло.
Так оно и было. На том месте, где теперь стоял Джаирус, пошатываясь и размахивая руками, чтобы удержать равновесие под беспощадными ударами Гудинанда, на песке разрасталось пятно, и не думаю, что оно состояло только из пота и масла. Джаирус бросал во все стороны отчаянные взгляды, словно искал убежища – или молил о спасении, потому что чаще всего он смотрел в сторону подиума, на котором сидели его отец с матерью. Выражение лица dux нимало не изменилось, а вот что касается Робеи… Ну, если бы она и впрямь была драконихой, уверен, она бы спрыгнула на арену и защитила своего сына, изрыгая пламя на Гудинанда.
Вайрд с удовлетворением отметил:
– Чванливое животное всегда оказывается трусливым, и сейчас негодяй публично доказывает это. Мальчишка, не жалей проигранных денег, ибо это такое удовольствие – увидеть, как побеждает твой друг.
Однако неожиданно Гудинанд перестал молотить Джаируса и сделал шаг назад. Зрители, возможно, подумали, что он просто смилостивился над своим соперником: не стал убивать его, ломать ему кости, чтобы он навечно остался калекой, не стал даже бить Джаируса, пока тот, распростершись, лежал на песке и поднимал вверх палец, униженно прося сохранить ему жизнь. Однако я знал, что не мысль о милосердии так внезапно поразила Гудинанда. Он даже не смотрел на Джаиуруса; мой друг медленно поднял глаза над ареной, над ярусами амфитеатра, на утреннее небо, словно опять увидел странную зеленую птичку, которая пролетела мимо, или услышал необычное для дневного времени уханье филина.
В течение всего сражения Гудинанд выглядел вполне здоровым. Но я уже давным-давно заметил, что чаще всего недуг поражает его не в моменты сильного напряжения, а, наоборот, когда он испытывает радость. Так случилось и теперь, когда Гудинанд был близок к тому, чтобы пережить ярчайший момент в своей жизни, момент, который мог бы поднять его с самых низов общества и превратить в торжествующего героя.
Внезапно дубинка просто выпала у него из рук, и я мог разглядеть почему: его большие пальцы прижались к ладоням, а руки стали беспомощны. Джаирус стоял слегка пораженный, но такой же неподвижный, как и его соперник. Остальные зрители в амфитеатре пребывали в крайнем изумлении, наступила тишина. Затем Гудинанд издал крик, который я однажды уже слышал от него, словно он уже получил смертельный удар; в наступившей тишине, словно эхо, разнесся жуткий вой. И тут другой голос произнес что-то, но так тихо, что, кроме Джаируса, слов никто не разобрал. Это его мать Робея перегнулась через балюстраду подиума и что-то прошипела сыну.
Джаирус все стоял в замешательстве, из его разбитого носа и раненой правой руки сочилась кровь; было ясно: он не знал, что делать, пока Робея не подсказала ему. И тогда внезапно, пока Гудинанд все еще, откинув назад голову, издавал свой ужасный вопль, Джаирус ударил его что было силы. Дубина угодила Гудинанду прямо в горло, оборвала его крик, и он рухнул на землю как подрубленное дерево. Возможно, этот удар не слишком повредил ему; наверное, он смог бы подняться и сражаться дальше, но тут моего друга настиг припадок. Он неподвижно лежал на спине, дергались лишь его конечности, и Джаирус обрушил на его тело град ударов. Гудинанд еще мог попросить пощады – поднять указательный палец, – и dux Латобригекс обязан был бы в таком случае остановить поединок; зрителям предстояло решить: жизнь или смерть? Однако бедняга Гудинанд не мог сейчас даже пошевелить пальцем.
Его судороги замедлились и прекратились; он лежал, бессильный, а Джаирус тем временем избивал несчастного, в котором пока еще с трудом можно было распознать человеческое существо; Гудинанд был абсолютно неподвижен, и лишь пена текла из его рта. Несомненно, Гудинанд был уже мертв, а Джаирус все еще продолжал молотить по бесформенному трупу, словно ему под руку подвернулся мешок с котятами. Зрелище было настолько отвратительным, что все зрители невольно вскочили на ноги и в едином порыве заревели: «Милосердия! Милосердия!»
Джаирус сделал паузу, чтобы посмотреть на подиум. Но городскому главе не хватило времени, чтобы подать традиционный знак: большой палец вниз, в качестве сигнала победителю, чтобы тот бросил свое оружие, – потому что Робея тоже быстро сделала другой традиционный знак: ткнула большим пальцем в грудь, что во времена гладиаторов означало: «Убей его!» И разумеется, Джаирус повиновался своей матери. В то время как толпа все еще вопила: «Милосердия!» – он поднял дубину вертикально, словно собирался что-то утрамбовать, и три или четыре раза опустил ее на голову своей жертвы. Череп Гудинанда раскололся, как яичная скорлупа; и теперь его бедный больной мозг, который сделал жизнь этого достойного юноши столь жалкой, уже нельзя было излечить ни при помощи забот Юхизы, ни какими-либо другими способами, потому что он разлился густой серой лужицей на песке.
Увидев это, толпа, которая прежде казалась такой кровожадной, заревела во всю глотку от отвращения на разных языках: «Skanda! Atrocitas! Unhrains slauts! Saevitia! Позор! Зверство! Грязный убийца! Дикость!» Люди стучали кулаками, и, думаю, через мгновение они бросились бы вниз со своих мест на арену, чтобы разорвать Джаируса на куски.
Но тут священник Тибурниус тоже вскочил на ноги и высоко поднял руки, призывая к вниманию. Один за другим зрители начали замечать его, толпа постепенно смолкла, так что можно было услышать то, что он хотел сказать. Священник выкрикивал попеременно то на латинском, то на старом языке, чтобы быть уверенным, что все поймут его:
– Gives mei![125] Thiuda! Дети мои! Умерьте свой нечестивый пыл и примите решение Господа! Бог – справедливый и мудрый судья; Он не творит беззакония! Чтобы положить конец всякого рода сомнениям, разрешить спор и установить истину во всем, Господь постановил, что Гудинанд должен проиграть, и отдал победу Джаирусу. Не смейте подвергать сомнению мудрость Господа, которую Он явил всем вам в этот день. Nolumus! Interdicimus! Prohibemus![126] Gutha waírthai wilja theins, swe in himina jah ana airthai! Да свершится воля Господа, как на земле, так и на Небесах!
Никто не осмелился бросить вызов священнику. Все еще ворча, толпа принялась расходиться. Для того чтобы покинуть подиум, должно быть, имелась специальная дверь, потому что Тибуриус, Джаирус и его родители внезапно исчезли. Никто, кроме Вайрда и меня, не стал задерживаться, чтобы посмотреть, как рабы, прислуживающие на арене, – по иронии судьбы известные как хароны[127], провожатые мертвых, – уберут с арены то месиво, которое прежде было Гудинандом.
– Hua ist so sunja? – проворчал Вайрд. – В чем истина? Я не знаю, кто более омерзительная гадина: Джаирус, его дракониха мать или эта рептилия священник?
Я в ответ процитировал Библию:
– «Mis fraweit letaidáu; ik fragilda». «Мне отмщение, и Аз воздам».
– Ну что же, я проиграл, – проворчал Вайрд, когда мы собрались уходить. – Это не утешит тебя в потере друга, но ты выиграл небольшое состояние. Прошу заметить, однако, ты никогда не говорил мне, что Гудинанд – калека, подверженный приступам падучей болезни.
– Я предлагал тебе отказаться от ставки, – резко бросил я. – Еще не поздно сделать это и сейчас.
– Во имя бледной чахлой богини Paupertas[128], я всегда честно платил свои долги!
– Хорошо, – сказал я, когда мы оказались на улице. – Мне действительно нужны деньги. И я обещаю работать еще усердней этой зимой, чтобы мы смогли сколотить еще одно состояние.
– Тебе нужны деньги? – спросил удивленный Вайрд. – Могу я спросить для чего?
– Нет, fráuja, я не скажу тебе этого, пока не потрачу деньги. Боюсь, ты попытаешься отговорить меня, узнав, как я хочу ими воспользоваться.
Он пожал плечами, и мы в молчании направились к deversorium. Я горько плакал, хотя ни Вайрд, ни кто другой не могли этого заметить, потому что слезы мои лились не из глаз. Горе, которое я испытывал как Торн, лишившись доброго друга Гудинанда, я перенес по-мужски, с сухими глазами. Однако моя женская сущность, не испытывая ни малейшего стыда, рыдала по Гудинанду, который любил меня. Но моя женская половина в настоящий момент была спрятана глубоко под мужской. Слезами истекало, так сказать, мое сердце. Я размышлял: «Если бы в этот момент я был Юхизой, а не Торном, текли бы эти слезы из моих глаз?»
Церковь давно уже выражала неодобрение по поводу гладиаторских состязаний, и большинство императоров-христиан запрещали их. Подобные состязания, возможно, и продолжали потихоньку проводить где-нибудь в отдаленных провинциях, но в самом Риме гладиаторы исчезли еще за полвека до моего появления на свет. Как вы помните, сегодня решено было не пользоваться гладиусом или другим традиционным оружием: трезубцем, булавой, сетью-ловушкой, – только деревянными дубинами. Тем не менее поединок обещал быть по-настоящему кровавым, и этого было достаточно, чтобы амфитеатр оказался переполненным.
Толпа зрителей состояла не только из рыбаков, ремесленников, сельских жителей и других простолюдинов, которые очень любили подобного рода развлечения. Даже городские торговцы и лавочники – которые едва ли закрыли бы свои рынки и склады даже по случаю траура из-за кончины императора, – казалось, сегодня пренебрегли интересами коммерции, желая лично присутствовать на столь необычном зрелище. И разумеется, пришли и все заезжие путешественники, которые услышали об этом представлении.
Задолго до того, как поединок начался, все места в каждом ярусе и на maenianum[123] амфитеатра были заполнены. Обычно простые люди вполне довольствовались скамьями на самом верху, но сегодня Вайрд заплатил непомерно высокую цену за табличку, которая позволила нам с ним занять пронумерованные места во втором ряду, обычно доступном только богатым и знатным. Места в первом ряду, располагавшемся на одном уровне с ареной, как правило, оставляли для наиболее знатных и влиятельных горожан и высокопоставленных сановников; центральный подиум занимали dux Латобригекс, госпожа Робея и святой отец Тибурниус; все они были роскошно и даже празднично одеты. Dux был таким же молчаливым, как и накануне ночью, от его супруги исходили волны самой настоящей ярости, а священник выглядел абсолютно спокойным, словно он собирался посмотреть представление труппы ritum[124] актеров, где все страсти были ненастоящими, пусть и очень талантливой, но всего лишь игрой.
Я повернулся к Вайрду и сказал:
– Из всех денег, которые мы заработали и накопили, fráuja, я поставлю всю свою долю против твоей на то, что сегодня победит Гудинанд.
Старик издал один из своих смешков-фырканий:
– Во имя Лаверны, богини воров, предателей и мошенников, ты никак подбиваешь меня поставить на эту свинью Джаируса? Ну уж нет, это было бы нелепостью! Но, акх, на подобного рода представлениях трудно избежать искушения и не сделать какую-нибудь ставку. Ладно, давай побьемся об заклад, но только чур я поставлю на Гудинанда.
– Что? Это будет еще большей нелепостью. Я не хочу прослыть изменником…
Но я не успел договорить, поскольку раздался сигнал: звук трубы возвестил о начале поединка, затем послышался возбужденный ропот, и толпа всколыхнулась. Джаирус и Гудинанд появились из ворот в стене, огораживавшей арену по всему периметру.
У каждого из молодых людей в руках было по крепкой ясеневой дубине. Оба противника были лишь в набедренных повязках, все остальное тело было смазано маслом, чтобы удары дубины были скользящими. Джаирус и Гудинанд прошли к центру арены, затем встали у возвышения и подняли свои дубинки, приветствуя dux. Латобригекс поочередно приветствовал каждого из участников поединка, подняв вверх сжатую в кулак правую руку, в которой он держал белый лоскут. Затем труба пропела снова, dux уронил лоскут. Джаирус и Гудинанд тут же повернулись лицом друг к другу и приняли борцовскую позу: каждый держал свою дубину одной рукой за середину, а второй – ближе к нижнему концу. Оба молодых человека были достойными и равными по силе соперниками. Гудинанд был выше, его руки были длинней, но Джаирус был шире в кости и обладал более развитой мускулатурой. Их умение обращаться с дубинами, казалось, тоже было одинаковым. Я знал, что у Гудинанда никогда не было друга, с которым он мог бы сразиться в пробном поединке на дубинках, но он, должно быть, сам иногда развлекался воображаемыми битвами. У Джаируса, похоже, имелось много возможностей состязаться с молодыми людьми, однако противники наверняка обычно ему поддавались, и он, вне всяких сомнений, привык к легким победам. Поединок начался, и зрители затаили дыхание. Тут было на что посмотреть: соперники умело наносили друг другу и отражали удары. Никто из присутствующих на состязании не мог посетовать на то, что он зря выбросил деньги, дабы посмотреть на неуклюжее топтание новичков.
Я с раздражением сказал Вайрду:
– Послушай, и все-таки это несправедливо. Как могу я поставить на Джаируса, если специально отправил негодяя на арену, чтобы его превратили в месиво. К тому же по меньшей мере глупо делать ставку против человека, которого я выбрал в качестве своего защитника. Я настаиваю…
– Balgs-daddja, – тихо произнес Вайрд. – Поздно что-либо менять. А я был прав, поставив на Гудинанда. Только посмотри туда, как Джаирус стал дергаться, уклоняться и отступать.
Когда соперники начали поединок, они пытались первым делом определить уровень мастерства, сильные и слабые стороны друг друга. Сражение на дубинах – это целое искусство. Тот, кто защищается, разумеется, старается быстро и твердо нанести ответный удар дубинкой, но, помимо этого, существует также множество искусных приемов: уверток, наклонов или даже – если один из соперников с размаха наносит неистовый удар своей дубинкой – прыжков через нее (иной раз все проделывается так ловко, что бойцу позавидовали бы акробаты). Да и нападать тоже можно по-разному. Существует, например, такой прием, как ложный замах, который внезапно переходит в удар.
Словом, Джаирус и Гудинанд некоторое время колошматили друг друга, используя все виды ударов, – при этом удары по обнаженной плоти были такими тяжелыми и звучными, что несколько зрителей даже издали возгласы сочувствия. Оба соперника, удачно или нет, испробовали различные виды защиты и, очевидно решив, что теперь знают самые слабые места друг друга, перешли к ожесточенной борьбе.
Поскольку руки у Джаируса были довольно короткими, он рассчитывал на полный замах и по возможности целился в голову Гудинанду. Думаю, Джаирус не забыл, что его мать назвала того слабоумным, и надеялся, что даже скользящий удар жестоко оглушит противника.
Гудинанд, в свою очередь, быстро смекнул, что невысокого квадратного Джаируса едва ли можно опрокинуть даже сильными боковыми ударами дубины. Таким образом, Гудинанд отдал предпочтение поединку на дальней дистанции и неожиданным ударам. Он то целился в солнечное сплетение, пытаясь вышибить из противника дух, то пытался попасть по рукам Джаируса, чтобы сломать их или хотя бы ослабить захват дубины. Будучи худощавым и гибким, Гудинанд лучше уклонялся и избегал замахов, направленных ему в голову. Более тяжелый Джаирус оказался не настолько проворным, чтобы избежать ударов дубинки Гудинанда. После нескольких таких ударов по животу Джаирус издал отчетливое «у-у-ух!» и отшатнулся назад, чтобы глотнуть воздуха. Когда Гудинанд в очередной раз огрел противника по пальцам, раздался громкий хруст и Джаирус чуть не выронил дубинку. После этого он уже не нападал, а лишь оборонялся, не позволяя выбить дубинку из его рук. Казалось, что он потерял надежду на победу. Гудинанд усилил напор, тесня Джаируса назад до тех пор, пока они оба не оказались у центрального возвышения.
– Погляди туда, – снова сказал Вайрд, – tetzte негодяй вспотел так, что с него стекает масло.
Так оно и было. На том месте, где теперь стоял Джаирус, пошатываясь и размахивая руками, чтобы удержать равновесие под беспощадными ударами Гудинанда, на песке разрасталось пятно, и не думаю, что оно состояло только из пота и масла. Джаирус бросал во все стороны отчаянные взгляды, словно искал убежища – или молил о спасении, потому что чаще всего он смотрел в сторону подиума, на котором сидели его отец с матерью. Выражение лица dux нимало не изменилось, а вот что касается Робеи… Ну, если бы она и впрямь была драконихой, уверен, она бы спрыгнула на арену и защитила своего сына, изрыгая пламя на Гудинанда.
Вайрд с удовлетворением отметил:
– Чванливое животное всегда оказывается трусливым, и сейчас негодяй публично доказывает это. Мальчишка, не жалей проигранных денег, ибо это такое удовольствие – увидеть, как побеждает твой друг.
Однако неожиданно Гудинанд перестал молотить Джаируса и сделал шаг назад. Зрители, возможно, подумали, что он просто смилостивился над своим соперником: не стал убивать его, ломать ему кости, чтобы он навечно остался калекой, не стал даже бить Джаируса, пока тот, распростершись, лежал на песке и поднимал вверх палец, униженно прося сохранить ему жизнь. Однако я знал, что не мысль о милосердии так внезапно поразила Гудинанда. Он даже не смотрел на Джаиуруса; мой друг медленно поднял глаза над ареной, над ярусами амфитеатра, на утреннее небо, словно опять увидел странную зеленую птичку, которая пролетела мимо, или услышал необычное для дневного времени уханье филина.
В течение всего сражения Гудинанд выглядел вполне здоровым. Но я уже давным-давно заметил, что чаще всего недуг поражает его не в моменты сильного напряжения, а, наоборот, когда он испытывает радость. Так случилось и теперь, когда Гудинанд был близок к тому, чтобы пережить ярчайший момент в своей жизни, момент, который мог бы поднять его с самых низов общества и превратить в торжествующего героя.
Внезапно дубинка просто выпала у него из рук, и я мог разглядеть почему: его большие пальцы прижались к ладоням, а руки стали беспомощны. Джаирус стоял слегка пораженный, но такой же неподвижный, как и его соперник. Остальные зрители в амфитеатре пребывали в крайнем изумлении, наступила тишина. Затем Гудинанд издал крик, который я однажды уже слышал от него, словно он уже получил смертельный удар; в наступившей тишине, словно эхо, разнесся жуткий вой. И тут другой голос произнес что-то, но так тихо, что, кроме Джаируса, слов никто не разобрал. Это его мать Робея перегнулась через балюстраду подиума и что-то прошипела сыну.
Джаирус все стоял в замешательстве, из его разбитого носа и раненой правой руки сочилась кровь; было ясно: он не знал, что делать, пока Робея не подсказала ему. И тогда внезапно, пока Гудинанд все еще, откинув назад голову, издавал свой ужасный вопль, Джаирус ударил его что было силы. Дубина угодила Гудинанду прямо в горло, оборвала его крик, и он рухнул на землю как подрубленное дерево. Возможно, этот удар не слишком повредил ему; наверное, он смог бы подняться и сражаться дальше, но тут моего друга настиг припадок. Он неподвижно лежал на спине, дергались лишь его конечности, и Джаирус обрушил на его тело град ударов. Гудинанд еще мог попросить пощады – поднять указательный палец, – и dux Латобригекс обязан был бы в таком случае остановить поединок; зрителям предстояло решить: жизнь или смерть? Однако бедняга Гудинанд не мог сейчас даже пошевелить пальцем.
Его судороги замедлились и прекратились; он лежал, бессильный, а Джаирус тем временем избивал несчастного, в котором пока еще с трудом можно было распознать человеческое существо; Гудинанд был абсолютно неподвижен, и лишь пена текла из его рта. Несомненно, Гудинанд был уже мертв, а Джаирус все еще продолжал молотить по бесформенному трупу, словно ему под руку подвернулся мешок с котятами. Зрелище было настолько отвратительным, что все зрители невольно вскочили на ноги и в едином порыве заревели: «Милосердия! Милосердия!»
Джаирус сделал паузу, чтобы посмотреть на подиум. Но городскому главе не хватило времени, чтобы подать традиционный знак: большой палец вниз, в качестве сигнала победителю, чтобы тот бросил свое оружие, – потому что Робея тоже быстро сделала другой традиционный знак: ткнула большим пальцем в грудь, что во времена гладиаторов означало: «Убей его!» И разумеется, Джаирус повиновался своей матери. В то время как толпа все еще вопила: «Милосердия!» – он поднял дубину вертикально, словно собирался что-то утрамбовать, и три или четыре раза опустил ее на голову своей жертвы. Череп Гудинанда раскололся, как яичная скорлупа; и теперь его бедный больной мозг, который сделал жизнь этого достойного юноши столь жалкой, уже нельзя было излечить ни при помощи забот Юхизы, ни какими-либо другими способами, потому что он разлился густой серой лужицей на песке.
Увидев это, толпа, которая прежде казалась такой кровожадной, заревела во всю глотку от отвращения на разных языках: «Skanda! Atrocitas! Unhrains slauts! Saevitia! Позор! Зверство! Грязный убийца! Дикость!» Люди стучали кулаками, и, думаю, через мгновение они бросились бы вниз со своих мест на арену, чтобы разорвать Джаируса на куски.
Но тут священник Тибурниус тоже вскочил на ноги и высоко поднял руки, призывая к вниманию. Один за другим зрители начали замечать его, толпа постепенно смолкла, так что можно было услышать то, что он хотел сказать. Священник выкрикивал попеременно то на латинском, то на старом языке, чтобы быть уверенным, что все поймут его:
– Gives mei![125] Thiuda! Дети мои! Умерьте свой нечестивый пыл и примите решение Господа! Бог – справедливый и мудрый судья; Он не творит беззакония! Чтобы положить конец всякого рода сомнениям, разрешить спор и установить истину во всем, Господь постановил, что Гудинанд должен проиграть, и отдал победу Джаирусу. Не смейте подвергать сомнению мудрость Господа, которую Он явил всем вам в этот день. Nolumus! Interdicimus! Prohibemus![126] Gutha waírthai wilja theins, swe in himina jah ana airthai! Да свершится воля Господа, как на земле, так и на Небесах!
Никто не осмелился бросить вызов священнику. Все еще ворча, толпа принялась расходиться. Для того чтобы покинуть подиум, должно быть, имелась специальная дверь, потому что Тибуриус, Джаирус и его родители внезапно исчезли. Никто, кроме Вайрда и меня, не стал задерживаться, чтобы посмотреть, как рабы, прислуживающие на арене, – по иронии судьбы известные как хароны[127], провожатые мертвых, – уберут с арены то месиво, которое прежде было Гудинандом.
– Hua ist so sunja? – проворчал Вайрд. – В чем истина? Я не знаю, кто более омерзительная гадина: Джаирус, его дракониха мать или эта рептилия священник?
Я в ответ процитировал Библию:
– «Mis fraweit letaidáu; ik fragilda». «Мне отмщение, и Аз воздам».
– Ну что же, я проиграл, – проворчал Вайрд, когда мы собрались уходить. – Это не утешит тебя в потере друга, но ты выиграл небольшое состояние. Прошу заметить, однако, ты никогда не говорил мне, что Гудинанд – калека, подверженный приступам падучей болезни.
– Я предлагал тебе отказаться от ставки, – резко бросил я. – Еще не поздно сделать это и сейчас.
– Во имя бледной чахлой богини Paupertas[128], я всегда честно платил свои долги!
– Хорошо, – сказал я, когда мы оказались на улице. – Мне действительно нужны деньги. И я обещаю работать еще усердней этой зимой, чтобы мы смогли сколотить еще одно состояние.
– Тебе нужны деньги? – спросил удивленный Вайрд. – Могу я спросить для чего?
– Нет, fráuja, я не скажу тебе этого, пока не потрачу деньги. Боюсь, ты попытаешься отговорить меня, узнав, как я хочу ими воспользоваться.
Он пожал плечами, и мы в молчании направились к deversorium. Я горько плакал, хотя ни Вайрд, ни кто другой не могли этого заметить, потому что слезы мои лились не из глаз. Горе, которое я испытывал как Торн, лишившись доброго друга Гудинанда, я перенес по-мужски, с сухими глазами. Однако моя женская сущность, не испытывая ни малейшего стыда, рыдала по Гудинанду, который любил меня. Но моя женская половина в настоящий момент была спрятана глубоко под мужской. Слезами истекало, так сказать, мое сердце. Я размышлял: «Если бы в этот момент я был Юхизой, а не Торном, текли бы эти слезы из моих глаз?»
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента
