Страница:
Так, сама не ведая, она приблизилась к пониманию трудно формулируемой истины о том, что любовь всегда больше самой себя. Любовь представлялась увлекательной, но лишь в той мере, в какой ее невозможно было себе представить. Все, о чем она знала,— а ей казалось, что по крайней мере физическую процедуру она знает досконально, — возбуждало любопытство, смешанное с отвращением, но как бы ни было раздражено ее воображение, его подстрекало лишь любопытство. Отсюда был один шаг до того, чтобы осознать еще одну истину: что любовь есть бесконечное приближение к чему-то неосуществимому; еще немного — и она поняла бы, что окончательное осуществление любви есть смерть.
В девочке происходила перемена, которую невозможно было оценить однозначно, нельзя было сказать, что она росла и взрослела, ибо это было одновременно ростом и упадком, созиданием и распадом, и деградацией, и каждодневной потерей, и каждодневным приобретением, и крушением с трудом достигнутого совершенства, и обретением нового, такого же хрупкого — чтобы не сказать несовершенного — совершенства. Чья-то рука, не предупреждая и не давая опомниться, корежила, мяла и сокрушала ее, и все это на ходу, в суматохе и спешке, как если бы солдата на марше заставили, не останавливаясь, не замедляя шага, осваивать приемы рукопашного боя или если бы город должен был воздвигаться и благоустраиваться под градом сыплющихся на него снарядов. Или, наконец — сколь бы экстравагантным ни показалось это сравнение, — как совершалось то, что в этой стране называли строительством социализма, нового общества, небывалого будущего. Девочка была плохим материалом для будущего, но хороший материал в небывалом будущем не нуждается. Она разучилась жить в настоящем — это и означало, что детству пришел конец. Девочка развивалась, другими словами, вступила в опаснейшую пору своей жизни, короткой, как жизнь всего этого поколения, в полосу смут и крушений, сравнимую с катастрофой рождения, о которой мы ничего не помним, и с завершающим жизнь обвалом, о котором мы уже ничего не можем рассказать. Вдруг начинало страдать и болеть все тело, мышцы, кости и еще что-то, что глубже костей; она едва держалась на ногах от слабости, внезапный приступ дурноты застигал ее в самый неподходящий момент; в подворотне, за мусорным ящиком, упершись в стену ладонями, как приговоренный к расстрелу, она силилась изрыгнуть все свои внутренности, а затем едва успевала добежать до уборной — начинался постыдный понос. Вслед за тем приходила возвышенная прострация, блаженное изнеможение, как будто ее выжали и развесили сушить. В эти минуты она смутно думала о самоубийстве. Но если ей предстояло погибнуть, то пусть вместе с ней провалится в тартарары весь мир; если бы у нее была граната, она швырнула бы ее с крыши во двор, прежде чем самой прыгнуть в пропасть. Она размышляла об этом с неожиданным хладнокровием, как о чем-то, для чего просто еще не приспело время.
Проклятый жалкий мир, достойный разрушения, был не чем иным, как проекцией владевшего ею предчувствия. Будущее манило и звало девочку, как манит взор василиска или непристойная картинка. Однажды она вскарабкалась на высокую плоскую крышу соседнего здания, замыкавшего своей задней, глухой стеной четырехугольник двора. С высоты ей была видна подворотня, слева в углу ход со двора на знакомую нам лестницу Бахтарева, справа — крыльцо другого хода. Она подошла к краю и заглянула вниз. Потом она сидела на бурой, пачкающей, горячей от солнца крыше, думая о том, как она встанет, подойдет снова и нагнется над отвесной стеной, и в эту минуту кто-то, незаметно подкравшийся, толкнет ее в спину. Ночью ей привиделось, что она висит на стене, упершись носками в выбоины, впившись ногтями в кирпич, чувствует животом тепло нагретого солнцем камня и боится крикнуть, чтобы не полететь вниз.
Она не пыталась делиться своими мыслями с матерью, мать занимала все меньше места в ее жизни. Она уже не заботилась о поддержании своей репутации во дворе; ее таинственность не была развенчана, отвага не была превзойдена, но как бы отодвинулась в область предания; подвиги, изумлявшие двор, ей наскучили. Но когда телесное недомогание оставляло ее, являлось нечто худшее, томительно-сосущее чувство пустоты. Некуда было себя деть. Отважные деяния нередко совершаются отнюдь не по зову свыше; их причина, как и причина некоторых физических процессов, — пустота, то самое «некуда деться», которое превращает обывателя в воина, мореплавателя, сумасшедшего авангардиста или бунтовщика. Нужно признать, что скука, вместе с голодом и любовью, — величайший двигатель прогресса. Не она ли побудила Колумба отправиться в океан? И не этот ли отрицательный потенциал низвергает миры?
Девочка явилась в мир, где уже не было флибустьеров, разбойничьих банд и баррикад, но, может быть, ее пришествие было вестью о том, что когда-нибудь это начнется снова. Скажем проще: девочка воплощала в себе дух революции. Девочка жила между эпохами. Она угодила в расщелину, в пустоту между прошлым и будущим. Нет, это не было, как принято выражаться, переходным временем, это была черная дыра времени, и она всасывала время в себя. Вот отчего те годы не оставили о себе никаких воспоминаний, никакого следа в истории. Некуда себя девать! Девочка слонялась по лестницам, лазала по чердакам. Неделями не ходила в школу, где, впрочем, на нее давно махнули рукой. Она придумывала себе занятия, о которых мы стыдимся рассказывать; мучимая зудом, расцарапывала себе тело, грызла ногти или погружалась в прострацию, сидя где-нибудь на ступеньках. Возобновились ограбления почтового ящика. Дед не видел ее по целым неделям. Перед рассветом ей снились мучительные сны; мы не решаемся их разгадывать. Но самым тягостным сном было ее вседневное существование, схватка с незримым врагом-созидателем, похожая на ночной бой Иакова. И каков же был результат?
Результат был неопределенный, а точнее сказать, никакого результата. После всех страданий она выглядела так, словно ничего не случилось, — бледной, легкой, худой и здоровой. Немного длинней стали ноги, чуть стройней и костлявей было все ее тело. Чуть тревожней казался некогда победительный взгляд ее черно-косящих глаз, блеск которых напоминал блеск ртути; и оттого, что она косила, казалось, что она видит кого-то, стоящего у вас за спиной. Она больше не была ни ребенком, ни подростком, ни девушкой, но болталась где-то между всеми этими осуществлениями; она стала темным, непроницаемым существом, своего рода нечитаемым текстом — так о некоторых надписях невозможно сказать, таят ли они глубокий смысл или вовсе лишены смысла, надпись это или узор. И если бы некий соглядатай, неотступно следя за девочкой, за ее приключениями, за ее походкой, то изломанно-расслабленной, то танцующей, то ленивой, за едва заметным покачиванием бедер, прыжками на лестнице или стоянием под дверью Бахтарева, за усилиями соорудить дикую прическу из коротких и жестких лохм, гримасами, которые она строила самой себе в темном стекле, за слабостью и отупением, в которое она погружалась, словно в теплые стоячие воды, — если бы соглядатай, врач, педагог или следователь — впрочем, не напоминает ли наш рассказ материалы некоего следствия? — если бы он стал допытываться: что с ней происходит? о чем она думает, чем занята? — ни один из ее ответов, допуская даже, что она согласилась бы отвечать, не отвечал бы действительности. Но что такое действительность?
Все слова казались ей лживыми. Все объяснения были бы недостаточны. С точки зрения науки мы все одинаковы; достаточно произнести слово «пубертатный», и все ясно. С точки зрения жизни мы непостижимы. Если ее жизнь была текстом, то это был текст, непереводимый ни на какой другой язык. Сослаться на созревание? — но мы уже сказали, что она скорее разрушалась, чем совершенствовалась, больше того — наблюдался очевидный и удручающий регресс, физическое истощение, упадок умственных способностей, вырождение нравственного чувства, хотя нельзя сказать, чтобы она сама была до такой степени диким и девственным существом, что не сознавала этой катастрофы. Она сидела на холодных выщербленных ступеньках и вперялась в пустоту, откуда на нее надвигалось неописуемое будущее. И все-таки ничего не происходило! Даже долгожданная кровь, бремя, от которого городские девочки разрешались раньше, чем предписано медициной, — все еще не появлялась.
38. Кто не работает, тот не ест, но не каждый, кто ест, работает
39. Социальный портрет собирателя
40. Пограничный инцидент
 Внезапно, без объявления войны, с очевидным расчетом захватить врасплох противника, происходит вторжение. Вероломно — как тогда говорили. Как будто можно было когда-нибудь верить наследственному врагу. Ибо на самом деле это сведение давних счетов, продолжение распри, истоки которой теряются в темном прошлом. Стоит роскошный летний день. Высоко над крышами, в бледном небе млеют рисовые облака. Жаркий воздух струится. По случаю выходного дня жители поздно встали с постелей. Уже вышли утренние газеты. Но в газетах нет ни слова о страшных событиях. Газеты спохватятся, когда о случившемся уже будут знать все. Сообщения поступят позже. Радио молчит.
Внезапно, без объявления войны, с очевидным расчетом захватить врасплох противника, происходит вторжение. Вероломно — как тогда говорили. Как будто можно было когда-нибудь верить наследственному врагу. Ибо на самом деле это сведение давних счетов, продолжение распри, истоки которой теряются в темном прошлом. Стоит роскошный летний день. Высоко над крышами, в бледном небе млеют рисовые облака. Жаркий воздух струится. По случаю выходного дня жители поздно встали с постелей. Уже вышли утренние газеты. Но в газетах нет ни слова о страшных событиях. Газеты спохватятся, когда о случившемся уже будут знать все. Сообщения поступят позже. Радио молчит.
Радио наигрывает игривую музыку, а тем временем уже разворачиваются боевые действия. Вторжение происходит с улицы — говоря политическим языком, с Запада, откуда во все времена приходили новшества, грозовые дожди и беды. Мрачно и деловито враги пролезают сквозь щель в воротах.
И никому из обитателей дома не приходит в голову, что это — репетиция большой войны. Войны, которая была неизбежна и в которую никто не верил. Мы были склонны приписывать таинственное значение знаменьям и приметам, вещим снам, пустым ведрам, ни в чем не повинным кошкам; мы свято верили цыганкам и прорицателям. Мы гадали, словно на картах, на русской истории, ожидали всемирной революции, последнего кризиса капитализма и мессианского будущего, но никто не догадывался, что подлинное будущее уже с нами, что оно началось. Карательный отряд вступает во двор, ведут косматого пса с деревянной ногой, и все, что играло, скакало, прыгало через веревочку, царапало по асфальту мелом и развлекало себя как могло, разбегается кто куда, исчезает в подъездах, улепетывает по лестницам черного хода. Хозяйки первого этажа захлопывают окна. И вот, сопя и смачно харкая, качая плечами, как коромыслом, особенной, валкой и зловещей походочкой выходит из-за спин своего воинства капитан, помойная личность, звезда наших мест. История не сохранила его имени. Вечный подросток, страдающий какой-то неизлечимой слизистой болезнью, хроническим насморком и слюнотечением, отчего он безостановочно хлюпает носом и сплевывает, с лицом, похожим на проросший картофель, старообразный, приземистый, заметно ниже девочки, с бескровными губами и мертвым взглядом упыря. Все разбежались. Она одна стоит посреди пустого двора, за ней и пришли, она это знает. Это старые счеты, накопившиеся обиды, созревшая месть. Девочка топчется на месте, мечет взоры по сторонам, а между тем каратели обходят ее слева и справа.
Они ожидают знака, пес ждет пинка. Но капитан не спешит. Теперь можно насладиться стратегическим перевесом, вручить неприятелю официальную ноту, извещение о гибели. Скоро, скоро таким же маневром начнется большая война. Никому неохота думать о том, что все задворки и переулки полны таких упырей. Произошел популяци-онный взрыв, они размножились в таком количестве, что война неизбежна. Позже будут придуманы различные теории, но истинная причина войны — размножение воинственных орд. И вот он приближается, не спуская могильных глаз с длинноногой девочки. Он приближается. Он ниже ее ростом. Она отступает в угол двора. Раздается звук, что-то вроде хрюканья или всхлипа. Карлик изрыгает слизь, точно выплескивает свое несозревшее семя, ибо расправа, которая здесь готовится, есть не что иное, как образ жестокого наслаждения. Капитан харкает на девочку, сейчас они набросятся на нее и скрутят ей руки, и он подойдет и сделает что-нибудь сладостно-изощренное, выдавит пальцами глаза, разобьет лицо кулаком или вцепится в пах, — но в эту последнюю секунду она успевает предупредить события, она наносит ему молниеносный удар в живот! Бандит отлетает назад, а девочка с непостижимой ловкостью карабкается вверх по пожарной лестнице. Кто-то из них успевает схватить ее за ногу и получает второй удар каблуком в лицо, косматый барбос долго и гулко кашляет, колотит деревянной ногой, руки и ноги девочки перебирают ржавые перекладины, короткое пальто реет в воздухе, мелькает платье, видны мускулистые ноги и трусики.
Вой и свист несутся вдогонку.
«Сука! В рот тебе!»
Они расстреливают ее из рогаток, и несколько снарядов попадают в цель. Командир запустил кирпичом в окно, сыплются осколки стекла, отряд покидает двор. До следующего раза. До последней и окончательной расправы. До битвы под Москвой, до Сталинграда.
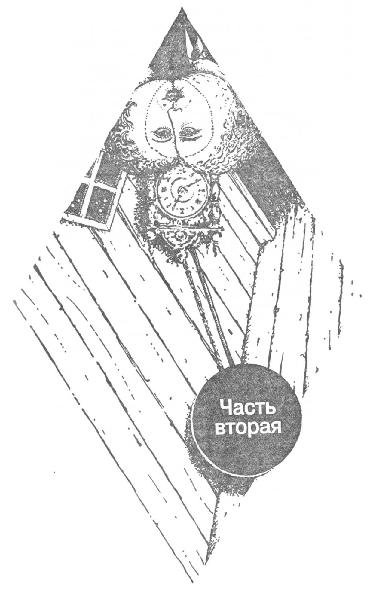
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
41. Филемон и Бавкида
В девочке происходила перемена, которую невозможно было оценить однозначно, нельзя было сказать, что она росла и взрослела, ибо это было одновременно ростом и упадком, созиданием и распадом, и деградацией, и каждодневной потерей, и каждодневным приобретением, и крушением с трудом достигнутого совершенства, и обретением нового, такого же хрупкого — чтобы не сказать несовершенного — совершенства. Чья-то рука, не предупреждая и не давая опомниться, корежила, мяла и сокрушала ее, и все это на ходу, в суматохе и спешке, как если бы солдата на марше заставили, не останавливаясь, не замедляя шага, осваивать приемы рукопашного боя или если бы город должен был воздвигаться и благоустраиваться под градом сыплющихся на него снарядов. Или, наконец — сколь бы экстравагантным ни показалось это сравнение, — как совершалось то, что в этой стране называли строительством социализма, нового общества, небывалого будущего. Девочка была плохим материалом для будущего, но хороший материал в небывалом будущем не нуждается. Она разучилась жить в настоящем — это и означало, что детству пришел конец. Девочка развивалась, другими словами, вступила в опаснейшую пору своей жизни, короткой, как жизнь всего этого поколения, в полосу смут и крушений, сравнимую с катастрофой рождения, о которой мы ничего не помним, и с завершающим жизнь обвалом, о котором мы уже ничего не можем рассказать. Вдруг начинало страдать и болеть все тело, мышцы, кости и еще что-то, что глубже костей; она едва держалась на ногах от слабости, внезапный приступ дурноты застигал ее в самый неподходящий момент; в подворотне, за мусорным ящиком, упершись в стену ладонями, как приговоренный к расстрелу, она силилась изрыгнуть все свои внутренности, а затем едва успевала добежать до уборной — начинался постыдный понос. Вслед за тем приходила возвышенная прострация, блаженное изнеможение, как будто ее выжали и развесили сушить. В эти минуты она смутно думала о самоубийстве. Но если ей предстояло погибнуть, то пусть вместе с ней провалится в тартарары весь мир; если бы у нее была граната, она швырнула бы ее с крыши во двор, прежде чем самой прыгнуть в пропасть. Она размышляла об этом с неожиданным хладнокровием, как о чем-то, для чего просто еще не приспело время.
Проклятый жалкий мир, достойный разрушения, был не чем иным, как проекцией владевшего ею предчувствия. Будущее манило и звало девочку, как манит взор василиска или непристойная картинка. Однажды она вскарабкалась на высокую плоскую крышу соседнего здания, замыкавшего своей задней, глухой стеной четырехугольник двора. С высоты ей была видна подворотня, слева в углу ход со двора на знакомую нам лестницу Бахтарева, справа — крыльцо другого хода. Она подошла к краю и заглянула вниз. Потом она сидела на бурой, пачкающей, горячей от солнца крыше, думая о том, как она встанет, подойдет снова и нагнется над отвесной стеной, и в эту минуту кто-то, незаметно подкравшийся, толкнет ее в спину. Ночью ей привиделось, что она висит на стене, упершись носками в выбоины, впившись ногтями в кирпич, чувствует животом тепло нагретого солнцем камня и боится крикнуть, чтобы не полететь вниз.
Она не пыталась делиться своими мыслями с матерью, мать занимала все меньше места в ее жизни. Она уже не заботилась о поддержании своей репутации во дворе; ее таинственность не была развенчана, отвага не была превзойдена, но как бы отодвинулась в область предания; подвиги, изумлявшие двор, ей наскучили. Но когда телесное недомогание оставляло ее, являлось нечто худшее, томительно-сосущее чувство пустоты. Некуда было себя деть. Отважные деяния нередко совершаются отнюдь не по зову свыше; их причина, как и причина некоторых физических процессов, — пустота, то самое «некуда деться», которое превращает обывателя в воина, мореплавателя, сумасшедшего авангардиста или бунтовщика. Нужно признать, что скука, вместе с голодом и любовью, — величайший двигатель прогресса. Не она ли побудила Колумба отправиться в океан? И не этот ли отрицательный потенциал низвергает миры?
Девочка явилась в мир, где уже не было флибустьеров, разбойничьих банд и баррикад, но, может быть, ее пришествие было вестью о том, что когда-нибудь это начнется снова. Скажем проще: девочка воплощала в себе дух революции. Девочка жила между эпохами. Она угодила в расщелину, в пустоту между прошлым и будущим. Нет, это не было, как принято выражаться, переходным временем, это была черная дыра времени, и она всасывала время в себя. Вот отчего те годы не оставили о себе никаких воспоминаний, никакого следа в истории. Некуда себя девать! Девочка слонялась по лестницам, лазала по чердакам. Неделями не ходила в школу, где, впрочем, на нее давно махнули рукой. Она придумывала себе занятия, о которых мы стыдимся рассказывать; мучимая зудом, расцарапывала себе тело, грызла ногти или погружалась в прострацию, сидя где-нибудь на ступеньках. Возобновились ограбления почтового ящика. Дед не видел ее по целым неделям. Перед рассветом ей снились мучительные сны; мы не решаемся их разгадывать. Но самым тягостным сном было ее вседневное существование, схватка с незримым врагом-созидателем, похожая на ночной бой Иакова. И каков же был результат?
Результат был неопределенный, а точнее сказать, никакого результата. После всех страданий она выглядела так, словно ничего не случилось, — бледной, легкой, худой и здоровой. Немного длинней стали ноги, чуть стройней и костлявей было все ее тело. Чуть тревожней казался некогда победительный взгляд ее черно-косящих глаз, блеск которых напоминал блеск ртути; и оттого, что она косила, казалось, что она видит кого-то, стоящего у вас за спиной. Она больше не была ни ребенком, ни подростком, ни девушкой, но болталась где-то между всеми этими осуществлениями; она стала темным, непроницаемым существом, своего рода нечитаемым текстом — так о некоторых надписях невозможно сказать, таят ли они глубокий смысл или вовсе лишены смысла, надпись это или узор. И если бы некий соглядатай, неотступно следя за девочкой, за ее приключениями, за ее походкой, то изломанно-расслабленной, то танцующей, то ленивой, за едва заметным покачиванием бедер, прыжками на лестнице или стоянием под дверью Бахтарева, за усилиями соорудить дикую прическу из коротких и жестких лохм, гримасами, которые она строила самой себе в темном стекле, за слабостью и отупением, в которое она погружалась, словно в теплые стоячие воды, — если бы соглядатай, врач, педагог или следователь — впрочем, не напоминает ли наш рассказ материалы некоего следствия? — если бы он стал допытываться: что с ней происходит? о чем она думает, чем занята? — ни один из ее ответов, допуская даже, что она согласилась бы отвечать, не отвечал бы действительности. Но что такое действительность?
Все слова казались ей лживыми. Все объяснения были бы недостаточны. С точки зрения науки мы все одинаковы; достаточно произнести слово «пубертатный», и все ясно. С точки зрения жизни мы непостижимы. Если ее жизнь была текстом, то это был текст, непереводимый ни на какой другой язык. Сослаться на созревание? — но мы уже сказали, что она скорее разрушалась, чем совершенствовалась, больше того — наблюдался очевидный и удручающий регресс, физическое истощение, упадок умственных способностей, вырождение нравственного чувства, хотя нельзя сказать, чтобы она сама была до такой степени диким и девственным существом, что не сознавала этой катастрофы. Она сидела на холодных выщербленных ступеньках и вперялась в пустоту, откуда на нее надвигалось неописуемое будущее. И все-таки ничего не происходило! Даже долгожданная кровь, бремя, от которого городские девочки разрешались раньше, чем предписано медициной, — все еще не появлялась.
38. Кто не работает, тот не ест, но не каждый, кто ест, работает
Она озябла и, медленно поднявшись, словно под тяжестью лет, побрела на онемевших ногах во двор. Из подворотни слышался ржавый скрежет, стук откинутой крышки. Свет уличного фонаря проникал в туннель из приоткрытых ворот. Как она и предполагала, там работал собиратель. Он появлялся один раз в неделю, иногда реже, но всегда точно угадывая время перед приездом мусорного фургона. Собиратель был мужчина неопределенного возраста, одетый, как все люди его профессии, в бала-хоноподобное рубище, которое представляло собой смешение всех фасонов: отчасти макинтош, отчасти армяк, отчасти ряса священнослужителя, пожалуй, и красноармейская шинель. На голове он имел старорежимную фетровую шляпу. Длинной клюкой вроде кочерги собиратель раскапывал ящик, добывал сморщенные картофелины, капустные листья, банки с остатками содержимого и другие доказательства возросшего благосостояния населения; таким образом, его деятельность имела немаловажный социально-политический смысл: его находки свидетельствовали о том, что голодные годы миновали.
Услышав шаги, собиратель отбросов повернул к Любе щетинистое лицо, не прерывая работы. Мешок с веревочными лямками стоял у его ног. Некоторое время она стояла, расставив ноги, руки в карманах пальто. «Ты чего тут потерял?» — спросила она наконец голосом, заставлявшим усомниться в ее добрых намерениях. Собиратель продолжал свое дело.
Она пнула его мешок. «Ишь, повадился! Вот пойду и скажу дяде Феде, что ты тут лазаешь, он тебя грязной метлой погонит».
Так как он не отвечал, она сказала:
«Дурак ты. Уж лучше бы по квартирам ходил…»
Он достал нечто, прислонил клюку к ящику и, сопя, стал обтирать добычу о рукав.
«Тут одна бабка ходила, рублей десять за день набирала. В ресторане обедала, не то что ты, кусошник. По помойкам лазаешь… Много вас, говноедов, развелось. Работать надо! — сказала девочка с неподражаемым самодовольством. — Кто не работает, тот не ест, понял?»
«Дядя Федя спит, он рано встает, — сказал собиратель. — Зачем ругаться? Ты хорошая девочка… хочешь, яблочка дам?»
«Подавись своим яблочком. Вот сейчас пойду и милицию вызову. Что? Испугался?»
«Милиция не придет. Законом это не запрещается… Ты хорошая, добрая девочка. Иди, я тебя приласкаю. Иди ко мне…» — и он протянул к ней руки. Девочка проворно отскочила. Собиратель отбросов вздохнул. «Это ты испугалась, а не я, — сказал он с легким нерусским акцентом. — Мне бояться нечего, потому что с меня нечего взять. Так что ты меня напрасно пугаешь дворником. Ничего я такого не делаю. А вот ты, — он показал на нее пальцем, — ты — недобрая девочка. Я в тебе ошибся. Ты несчастливая девочка, потому что ты злая. И Бог тебя за это накажет. Если уже не наказал…»
«Какой еще Бог, — сказала она брезгливо, — а ну вали отсюда!»
«Разве я тебе мешаю?»
«Вали, говорю. Работать надо. А не по помойкам лазать».
«Почему ты думаешь, что я не работаю, и что значит — работать?.. Разве, — бормотал он, наклонясь над рюкзаком, затянул и стал разбирать веревочные петли, — …разве каждый, кто работает, в самом деле работает?»
Молниеносным движением она схватила его клюку. «Поставь».
Она держала клюку в обеих руках, азартно сверкая черным, как у зверька, взглядом. Человек кряхтя стал просовывать руки в лямки. «Поставь на место. Это не игрушка! А я тебе не товарищ». Девочка ткнула его клюкой. «Ну и что дальше?» — тоскливо проговорил он. Эта игра продолжалась некоторое время. «На!» — говорила она, но когда он приблизился, снова ткнула его в живот. Он все еще тянул к ней руки. Тогда она размахнулась и хватила его клюкой. Собиратель застонал. Она снова замахнулась. Ей было досадно. Чувство бессвязной, какой-то разваливающейся жизни, тоскливый зов внутренностей, с которым она брела по двору, не прошел, скорей усилился.
«Хватит, поиграли, и хватит», — сказал собиратель. Она с отвращением швырнула посох к его ногам. Собиратель кусков сбросил заплечный мешок. «Иди ко мне, — прошептал, — иди, дочка…» Люба ошеломленно уставилась на него.
В тусклом освещении, в широкополой шляпе и балахоне он ничем не мог напомнить ей отца, да она почти уже и не помнила, как выглядел ее отец. Она знала, что этого не может быть, но она слышала похожие на легенды рассказы о возвращении тех, кто не мог вернуться, потому что больше не существовал, — слухи о таинственных бродягах и неузнанных странниках, и стройный фантастический сюжет мгновенно сложился в ее воображении. Оставалось лишь притвориться перед самой собой, что она в него верит. Конечно, она не верила, а только играла в девочку и отца, а он, этот тайный скиталец, соглашался играть с ней в себя и свою дочку. И может быть, даже поверил, судя по тому, как он простирал к ней руки, манил ее и бормотал, тяжело дыша… Сейчас, думала она, развеется наваждение, он возьмет свой мешок и уйдет навсегда, и она так и не узнает, был ли это он на самом деле или ей показалось. Но он еще был здесь, его лицо погрузилось в тень, шляпа и широкая грудь загородили свет, падавший из переулка. Он гладил девочку по щеке. Ей стало холодно. В подворотне сквозило. «Ты моя дочка… — бормотал он. — Какая большая стала!» Жесткая ладонь ласкала ее затылок и щекотала шею. Она засмеялась нервным смешком. Оставалось совсем немного, собирателю пора было в путь. Она понимала, что он должен исчезнуть. Ведь если он был ее отцом, он мог существовать лишь при условии, что его никто не видел, что он не появлялся, что его не было.
Продолжая гладить девочку, он обнял ее, его рука просунулась между пальто и платьем и спустилась книзу. Она ждала, что он спохватится. Холодная и шершавая ладонь коснулась ее живота и как бы делала вид, что гладит кожу, в то время как пальцы странника проникли под резинку, скользнули вглубь, и ноготь царапнул ее. Тогда она поняла, что игра закончена, и нанесла тройной удар — коленкой и кулаками. Человек в балахоне отлетел к ящику. Трясущимися руками он схватил палку и подобрал с земли мешок. «Бог тебя накажет, — проговорил он. Чувствовалось, что он не был в этом уверен. — Я думал, ты хорошая девочка…» Ноздри ее мстительно раздувались, она молча следила за собирателем, потом опустилась на корточки возле стены и представила себе, как он стучит клюкой по переулку, с мешком за плечами, и медленно растворяется в тусклом свечении фонарей.
Услышав шаги, собиратель отбросов повернул к Любе щетинистое лицо, не прерывая работы. Мешок с веревочными лямками стоял у его ног. Некоторое время она стояла, расставив ноги, руки в карманах пальто. «Ты чего тут потерял?» — спросила она наконец голосом, заставлявшим усомниться в ее добрых намерениях. Собиратель продолжал свое дело.
Она пнула его мешок. «Ишь, повадился! Вот пойду и скажу дяде Феде, что ты тут лазаешь, он тебя грязной метлой погонит».
Так как он не отвечал, она сказала:
«Дурак ты. Уж лучше бы по квартирам ходил…»
Он достал нечто, прислонил клюку к ящику и, сопя, стал обтирать добычу о рукав.
«Тут одна бабка ходила, рублей десять за день набирала. В ресторане обедала, не то что ты, кусошник. По помойкам лазаешь… Много вас, говноедов, развелось. Работать надо! — сказала девочка с неподражаемым самодовольством. — Кто не работает, тот не ест, понял?»
«Дядя Федя спит, он рано встает, — сказал собиратель. — Зачем ругаться? Ты хорошая девочка… хочешь, яблочка дам?»
«Подавись своим яблочком. Вот сейчас пойду и милицию вызову. Что? Испугался?»
«Милиция не придет. Законом это не запрещается… Ты хорошая, добрая девочка. Иди, я тебя приласкаю. Иди ко мне…» — и он протянул к ней руки. Девочка проворно отскочила. Собиратель отбросов вздохнул. «Это ты испугалась, а не я, — сказал он с легким нерусским акцентом. — Мне бояться нечего, потому что с меня нечего взять. Так что ты меня напрасно пугаешь дворником. Ничего я такого не делаю. А вот ты, — он показал на нее пальцем, — ты — недобрая девочка. Я в тебе ошибся. Ты несчастливая девочка, потому что ты злая. И Бог тебя за это накажет. Если уже не наказал…»
«Какой еще Бог, — сказала она брезгливо, — а ну вали отсюда!»
«Разве я тебе мешаю?»
«Вали, говорю. Работать надо. А не по помойкам лазать».
«Почему ты думаешь, что я не работаю, и что значит — работать?.. Разве, — бормотал он, наклонясь над рюкзаком, затянул и стал разбирать веревочные петли, — …разве каждый, кто работает, в самом деле работает?»
Молниеносным движением она схватила его клюку. «Поставь».
Она держала клюку в обеих руках, азартно сверкая черным, как у зверька, взглядом. Человек кряхтя стал просовывать руки в лямки. «Поставь на место. Это не игрушка! А я тебе не товарищ». Девочка ткнула его клюкой. «Ну и что дальше?» — тоскливо проговорил он. Эта игра продолжалась некоторое время. «На!» — говорила она, но когда он приблизился, снова ткнула его в живот. Он все еще тянул к ней руки. Тогда она размахнулась и хватила его клюкой. Собиратель застонал. Она снова замахнулась. Ей было досадно. Чувство бессвязной, какой-то разваливающейся жизни, тоскливый зов внутренностей, с которым она брела по двору, не прошел, скорей усилился.
«Хватит, поиграли, и хватит», — сказал собиратель. Она с отвращением швырнула посох к его ногам. Собиратель кусков сбросил заплечный мешок. «Иди ко мне, — прошептал, — иди, дочка…» Люба ошеломленно уставилась на него.
В тусклом освещении, в широкополой шляпе и балахоне он ничем не мог напомнить ей отца, да она почти уже и не помнила, как выглядел ее отец. Она знала, что этого не может быть, но она слышала похожие на легенды рассказы о возвращении тех, кто не мог вернуться, потому что больше не существовал, — слухи о таинственных бродягах и неузнанных странниках, и стройный фантастический сюжет мгновенно сложился в ее воображении. Оставалось лишь притвориться перед самой собой, что она в него верит. Конечно, она не верила, а только играла в девочку и отца, а он, этот тайный скиталец, соглашался играть с ней в себя и свою дочку. И может быть, даже поверил, судя по тому, как он простирал к ней руки, манил ее и бормотал, тяжело дыша… Сейчас, думала она, развеется наваждение, он возьмет свой мешок и уйдет навсегда, и она так и не узнает, был ли это он на самом деле или ей показалось. Но он еще был здесь, его лицо погрузилось в тень, шляпа и широкая грудь загородили свет, падавший из переулка. Он гладил девочку по щеке. Ей стало холодно. В подворотне сквозило. «Ты моя дочка… — бормотал он. — Какая большая стала!» Жесткая ладонь ласкала ее затылок и щекотала шею. Она засмеялась нервным смешком. Оставалось совсем немного, собирателю пора было в путь. Она понимала, что он должен исчезнуть. Ведь если он был ее отцом, он мог существовать лишь при условии, что его никто не видел, что он не появлялся, что его не было.
Продолжая гладить девочку, он обнял ее, его рука просунулась между пальто и платьем и спустилась книзу. Она ждала, что он спохватится. Холодная и шершавая ладонь коснулась ее живота и как бы делала вид, что гладит кожу, в то время как пальцы странника проникли под резинку, скользнули вглубь, и ноготь царапнул ее. Тогда она поняла, что игра закончена, и нанесла тройной удар — коленкой и кулаками. Человек в балахоне отлетел к ящику. Трясущимися руками он схватил палку и подобрал с земли мешок. «Бог тебя накажет, — проговорил он. Чувствовалось, что он не был в этом уверен. — Я думал, ты хорошая девочка…» Ноздри ее мстительно раздувались, она молча следила за собирателем, потом опустилась на корточки возле стены и представила себе, как он стучит клюкой по переулку, с мешком за плечами, и медленно растворяется в тусклом свечении фонарей.
39. Социальный портрет собирателя
Согласно распространенному представлению, добыча отбросов и отходов представляет собой промысел, порождаемый необходимостью поддерживать существование при отсутствии других доходов. Осмелимся возразить: не промысел, а профессия, и, как всякая профессия, она требует подготовки, основательных знаний, практических навыков, наконец, того, что мы скромно назовем призванием, чтобы не употреблять громкое слово талант. Как всякая подлинная профессия, собирание отбросов выходит за пределы обыкновенной пользы, заключает в себе нечто самоценное и обретает смысл в самом себе.
Некоторые социологические исследования подтверждают этот взгляд: так, при опросе нескольких сот собирателей, практиковавших в нашем квартале, было установлено, что лишь незначительное меньшинство хотело бы сменить профессию, главным образом из-за преклонного возраста и неблагоприятных погодных условий. Большинство опрошенных подчеркивало выгоды своего положения, в частности его стабильность: в то время как представители даже таких престижных профессий, как врач, адвокат, писатель, инструктор райкома партии, чемпион соревнований на значок «Готов к труду и обороне», преподаватель бальных танцев, не могли быть вполне уверены в своем будущем, собиратель съестных отбросов знал, что его-то по крайней мере никто не понизит в должности, не уволит с работы и не подвергнет санкциям по идейным, анкетным или иным основаниям.
С другой стороны, нельзя представлять себе собирание легким, приятным и общедоступным занятием. Как уже сказано, эта профессия требует подготовки. Прежде всего собиратель, вынужденный считаться со значительной конкуренцией, должен много двигаться и в случае удачи носить тяжести. Он должен в совершенстве знать географию своего квартала, владеть искусством социальной адаптации, уметь ладить с дворниками, милиционерами, районными уполномоченными, общественными активистами и наблюдателями за порядком, с уличными попрошайками и грабителями, наконец, с собратьями по ремеслу — опытный собиратель работает в пределах своего прайда или делит его с ограниченным числом коллег. Он должен хорошо разбираться в таких областях знания, как товароведение и теория рационального питания, микробиология съестных припасов, должен уметь читать этикетки и распознавать пищевые продукты, когда они потеряли внешний вид.
Именно тогда, когда примитивное собирательство плодов природы уступило место собиранию кусков и отбросов, первобытный человек превратился в цивилизованного человека; с этого времени началась его история. Таким образом, сбор отбросов принадлежит к числу древнейших профессий. Уже в ранних письменных памятниках имеются упоминания о собирателях. В некоторых мифологиях собирание рассматривается как мистический и священный промысел: в ряде произведений древнего изобразительного искусства мы встречаем образ согбенного божества с заплечным мешком и клюкой для разгребания завалов, не говоря уже о классической эпохе, оставившей блестящие образцы литературной рецепции этого образа. Новое время и две промышленные революции предъявили к собирателю новые требования, а великий социальный переворот в России решающим образом демократизировал эту профессию, сделав ее достоянием широких масс.
Некоторые социологические исследования подтверждают этот взгляд: так, при опросе нескольких сот собирателей, практиковавших в нашем квартале, было установлено, что лишь незначительное меньшинство хотело бы сменить профессию, главным образом из-за преклонного возраста и неблагоприятных погодных условий. Большинство опрошенных подчеркивало выгоды своего положения, в частности его стабильность: в то время как представители даже таких престижных профессий, как врач, адвокат, писатель, инструктор райкома партии, чемпион соревнований на значок «Готов к труду и обороне», преподаватель бальных танцев, не могли быть вполне уверены в своем будущем, собиратель съестных отбросов знал, что его-то по крайней мере никто не понизит в должности, не уволит с работы и не подвергнет санкциям по идейным, анкетным или иным основаниям.
С другой стороны, нельзя представлять себе собирание легким, приятным и общедоступным занятием. Как уже сказано, эта профессия требует подготовки. Прежде всего собиратель, вынужденный считаться со значительной конкуренцией, должен много двигаться и в случае удачи носить тяжести. Он должен в совершенстве знать географию своего квартала, владеть искусством социальной адаптации, уметь ладить с дворниками, милиционерами, районными уполномоченными, общественными активистами и наблюдателями за порядком, с уличными попрошайками и грабителями, наконец, с собратьями по ремеслу — опытный собиратель работает в пределах своего прайда или делит его с ограниченным числом коллег. Он должен хорошо разбираться в таких областях знания, как товароведение и теория рационального питания, микробиология съестных припасов, должен уметь читать этикетки и распознавать пищевые продукты, когда они потеряли внешний вид.
Именно тогда, когда примитивное собирательство плодов природы уступило место собиранию кусков и отбросов, первобытный человек превратился в цивилизованного человека; с этого времени началась его история. Таким образом, сбор отбросов принадлежит к числу древнейших профессий. Уже в ранних письменных памятниках имеются упоминания о собирателях. В некоторых мифологиях собирание рассматривается как мистический и священный промысел: в ряде произведений древнего изобразительного искусства мы встречаем образ согбенного божества с заплечным мешком и клюкой для разгребания завалов, не говоря уже о классической эпохе, оставившей блестящие образцы литературной рецепции этого образа. Новое время и две промышленные революции предъявили к собирателю новые требования, а великий социальный переворот в России решающим образом демократизировал эту профессию, сделав ее достоянием широких масс.
40. Пограничный инцидент

Радио наигрывает игривую музыку, а тем временем уже разворачиваются боевые действия. Вторжение происходит с улицы — говоря политическим языком, с Запада, откуда во все времена приходили новшества, грозовые дожди и беды. Мрачно и деловито враги пролезают сквозь щель в воротах.
И никому из обитателей дома не приходит в голову, что это — репетиция большой войны. Войны, которая была неизбежна и в которую никто не верил. Мы были склонны приписывать таинственное значение знаменьям и приметам, вещим снам, пустым ведрам, ни в чем не повинным кошкам; мы свято верили цыганкам и прорицателям. Мы гадали, словно на картах, на русской истории, ожидали всемирной революции, последнего кризиса капитализма и мессианского будущего, но никто не догадывался, что подлинное будущее уже с нами, что оно началось. Карательный отряд вступает во двор, ведут косматого пса с деревянной ногой, и все, что играло, скакало, прыгало через веревочку, царапало по асфальту мелом и развлекало себя как могло, разбегается кто куда, исчезает в подъездах, улепетывает по лестницам черного хода. Хозяйки первого этажа захлопывают окна. И вот, сопя и смачно харкая, качая плечами, как коромыслом, особенной, валкой и зловещей походочкой выходит из-за спин своего воинства капитан, помойная личность, звезда наших мест. История не сохранила его имени. Вечный подросток, страдающий какой-то неизлечимой слизистой болезнью, хроническим насморком и слюнотечением, отчего он безостановочно хлюпает носом и сплевывает, с лицом, похожим на проросший картофель, старообразный, приземистый, заметно ниже девочки, с бескровными губами и мертвым взглядом упыря. Все разбежались. Она одна стоит посреди пустого двора, за ней и пришли, она это знает. Это старые счеты, накопившиеся обиды, созревшая месть. Девочка топчется на месте, мечет взоры по сторонам, а между тем каратели обходят ее слева и справа.
Они ожидают знака, пес ждет пинка. Но капитан не спешит. Теперь можно насладиться стратегическим перевесом, вручить неприятелю официальную ноту, извещение о гибели. Скоро, скоро таким же маневром начнется большая война. Никому неохота думать о том, что все задворки и переулки полны таких упырей. Произошел популяци-онный взрыв, они размножились в таком количестве, что война неизбежна. Позже будут придуманы различные теории, но истинная причина войны — размножение воинственных орд. И вот он приближается, не спуская могильных глаз с длинноногой девочки. Он приближается. Он ниже ее ростом. Она отступает в угол двора. Раздается звук, что-то вроде хрюканья или всхлипа. Карлик изрыгает слизь, точно выплескивает свое несозревшее семя, ибо расправа, которая здесь готовится, есть не что иное, как образ жестокого наслаждения. Капитан харкает на девочку, сейчас они набросятся на нее и скрутят ей руки, и он подойдет и сделает что-нибудь сладостно-изощренное, выдавит пальцами глаза, разобьет лицо кулаком или вцепится в пах, — но в эту последнюю секунду она успевает предупредить события, она наносит ему молниеносный удар в живот! Бандит отлетает назад, а девочка с непостижимой ловкостью карабкается вверх по пожарной лестнице. Кто-то из них успевает схватить ее за ногу и получает второй удар каблуком в лицо, косматый барбос долго и гулко кашляет, колотит деревянной ногой, руки и ноги девочки перебирают ржавые перекладины, короткое пальто реет в воздухе, мелькает платье, видны мускулистые ноги и трусики.
Вой и свист несутся вдогонку.
«Сука! В рот тебе!»
Они расстреливают ее из рогаток, и несколько снарядов попадают в цель. Командир запустил кирпичом в окно, сыплются осколки стекла, отряд покидает двор. До следующего раза. До последней и окончательной расправы. До битвы под Москвой, до Сталинграда.
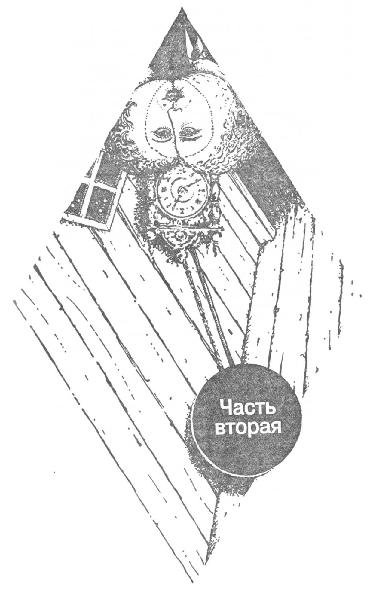
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
41. Филемон и Бавкида
Кто-то царапался в дверь, это была кошка. Старику снилось, что он сидит в кресле и притворяется спящим. Они дергают за ручку, а он делает вид, что не слышит.
Разгадав его хитрость, они избрали другую тактику: затопали ногами, как будто ушли, а сами потихоньку подкрадываются и царапают дверь, чтобы он подумал, что это кошка. Ему даже показалось, что он слышит мяуканье. И он поверил. Встал и зашаркал к двери, не вполне уверенный в том, что пробуждение не является частью сна.
Кошка, или кто там, превратилась в бабусю.
«Темно, батюшка, и не доберешься до тебя!»
Дед разводил руками, объяснял, что управдом обещает ввернуть лампочку.
«Обещанного три года ждут… Ты кого ищешь?»
«Кис, кис…» — бормотал дед.
«Нет тут никого».
«Иногда бывает», — сказал он.
«А я тебе говорю, — сказала бабуся, ставя в угол корзину с бельем, — нет больше твово кота».
«Это не кот, а кошка».
«Ну, все равно. Убилась твоя кошка».
«Белая?»
«Почем я знаю».
«Как убилась?» — спросил он.
«А вот так. Выкинули ее из окна, она и убилась».
Старуха уселась на табуретке возле стола с книгой и приготовилась к разговору: разгладила юбку, подтянула концы платка под подбородком и поджала губы.
Некоторое время в подвале царило молчание, пили чай, дед дожевывал остатки неопределенных мыслей. В этом, как он понимал, состояло преимущество старости: обретаешь дар жизни в разных временах. Но показывать это не рекомендуется, сочтут за сумасшедшего.
«Я тебе заплаты положила, — промолвила бабуся, — рвань такую носишь, что срам один… Небось все жадничаешь, деньги копишь… Давно надо новые подштанники купить».
«Какие деньги, Прасковья Яковлевна, курам на смех…»
«Все-таки пензия. У меня и той нет».
«Да, да, — сказал дед, — обязательно надо похлопотать… У меня есть один знакомый, очень опытный человек, с большим стажем работы в разных учреждениях. Так вот он говорит…»
«Чего ж он тебе говорит?»
«Он говорит: надо похлопотать. Ай-яй-яй, — спохватился он, — а вы и не напомните!»
Дед извлек из рабочего ящика бабусины тапочки. Стали примерять.
«Эх! Да как же это…»
Дед выпучил глаза и развел руками.
«Мастер называется… Да лутче б я их и не чинила».
«Нога стала больше», — констатировал он.
«Эва… Я, батюшка, больше уж не расту!»
«Может быть, следует полежать, подняв ноги. Может быть, мы с вами пьем слишком много жидкости…»
«Да ведь ты их сузил. Имей силу признаться: ведь сузил?»
«Верх такой, что весь ползет, Прасковья Яковлевна».
Разгадав его хитрость, они избрали другую тактику: затопали ногами, как будто ушли, а сами потихоньку подкрадываются и царапают дверь, чтобы он подумал, что это кошка. Ему даже показалось, что он слышит мяуканье. И он поверил. Встал и зашаркал к двери, не вполне уверенный в том, что пробуждение не является частью сна.
Кошка, или кто там, превратилась в бабусю.
«Темно, батюшка, и не доберешься до тебя!»
Дед разводил руками, объяснял, что управдом обещает ввернуть лампочку.
«Обещанного три года ждут… Ты кого ищешь?»
«Кис, кис…» — бормотал дед.
«Нет тут никого».
«Иногда бывает», — сказал он.
«А я тебе говорю, — сказала бабуся, ставя в угол корзину с бельем, — нет больше твово кота».
«Это не кот, а кошка».
«Ну, все равно. Убилась твоя кошка».
«Белая?»
«Почем я знаю».
«Как убилась?» — спросил он.
«А вот так. Выкинули ее из окна, она и убилась».
Старуха уселась на табуретке возле стола с книгой и приготовилась к разговору: разгладила юбку, подтянула концы платка под подбородком и поджала губы.
Некоторое время в подвале царило молчание, пили чай, дед дожевывал остатки неопределенных мыслей. В этом, как он понимал, состояло преимущество старости: обретаешь дар жизни в разных временах. Но показывать это не рекомендуется, сочтут за сумасшедшего.
«Я тебе заплаты положила, — промолвила бабуся, — рвань такую носишь, что срам один… Небось все жадничаешь, деньги копишь… Давно надо новые подштанники купить».
«Какие деньги, Прасковья Яковлевна, курам на смех…»
«Все-таки пензия. У меня и той нет».
«Да, да, — сказал дед, — обязательно надо похлопотать… У меня есть один знакомый, очень опытный человек, с большим стажем работы в разных учреждениях. Так вот он говорит…»
«Чего ж он тебе говорит?»
«Он говорит: надо похлопотать. Ай-яй-яй, — спохватился он, — а вы и не напомните!»
Дед извлек из рабочего ящика бабусины тапочки. Стали примерять.
«Эх! Да как же это…»
Дед выпучил глаза и развел руками.
«Мастер называется… Да лутче б я их и не чинила».
«Нога стала больше», — констатировал он.
«Эва… Я, батюшка, больше уж не расту!»
«Может быть, следует полежать, подняв ноги. Может быть, мы с вами пьем слишком много жидкости…»
«Да ведь ты их сузил. Имей силу признаться: ведь сузил?»
«Верх такой, что весь ползет, Прасковья Яковлевна».
